Текст книги "Властитель человеков"
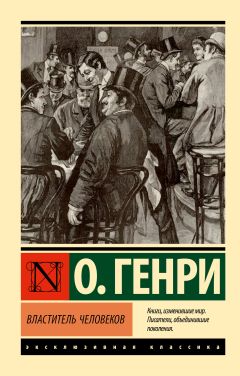
Автор книги: О. Генри
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Тикток
Великий французский детектив в Остине. Успех политической интриги
Глава 1
Немногим известно, что Тикток, знаменитый французский детектив, на прошлой неделе побывал в Остине. Он остановился в гостинице «Авеню» под вымышленным именем, и его сдержанные, спокойные манеры сразу же выдали в нем того, кто выделяться не стремится.
Никто так и не узнал, зачем он приезжал в Остин; однако одному-двум вопрошающим детектив соизволил открыть, что исключительной важности миссия возложена на него французским правительством.
Есть версия, что французский министр внутренних дел обнаружил среди законов империи древний статут, вытекающий из договора между императором Карлом Великим и губернатором Робертсом, что недвусмысленно предписывает держать открытыми северные врата главного города штата, – но это не более чем догадка.
В прошлую среду после полудня в дверь гостиничного номера Тиктока постучался хорошо одетый джентльмен.
Детектив открыл дверь.
– Месье Тикток, полагаю, – молвил джентльмен.
– Соблаговолите убедиться, что в книге постояльцев я записался под именем Кв. Кс. Джонз, – отозвался Тикток, – и тот, кто называет себя джентльменом, несомненно понял бы, что мне угодно называться именно так и не иначе. Если вам не по душе, что вас исключают из числа джентльменов, я готов дать вам удовлетворение – в любое время после 1 июля, а тем временем, будь на то ваша воля, сражусь со Стивом О’Доннеллом, Джоном МакДональдом и Игнацием Доннелли.
– Да исключайте на здоровье, – отозвался джентльмен. – Вообще-то я к тому привык. Я – председатель исполнительного комитета Демократической партии, платформа № 2, и у меня друг влип в неприятности. Я догадался, что вы – Тикток, поскольку вы как две капли воды смахиваете на себя самого.
– Антре ву, – пригласил детектив.
Джентльмен вошел; ему пододвинули кресло.
– Я – человек немногословный, – объявил Тикток. – Я помогу вашему другу, если смогу. Наши страны – большие друзья. Мы подарили вам Лафайета[72]72
Лафайет, Мари Жозеф де (1757–1834) – французский политический деятель, в звании генерала американской армии участвовал в Войне за независимость североамериканских колоний.
[Закрыть] и картофель фри. Вы подарили нам калифорнийское шампанское и… и забрали назад Уорда Макалистера. Изложите дело.
– Я буду краток, – начал гость. – В номере 76 этого самого отеля остановился известный кандидат от Популистской партии. Он там один. Вчера вечером у него похитили носки. Пропажа до сих пор не обнаружена. Если носки так и не отыщутся, его партия обвинит демократов. Они здорово наживутся на краже, хотя я уверен, что это – вообще не политическая акция. Носки необходимо вернуть. Вы – единственный, кто способен нам помочь.
Тикток поклонился.
– Вы даете мне карт-бланш допросить всех и каждого, имеющих отношение к отелю?
– С владельцем гостиницы уже говорили. К вашим услугам все и вся.
Тикток сверился с часами.
– Приходите сюда завтра вечером в шесть вместе с хозяином отеля, кандидатом от партии популистов и любыми другими свидетелями от обеих партий – и я верну носки.
– Бьен, месье, шлафен зи воль.
– Оревуар.
Председатель исполнительного комитета Демократической партии, платформа № 2, учтиво поклонился и отбыл.
Тикток послал за коридорным.
– Вы поднимались вчера вечером в номер 76?
– Да, сэр.
– Кто там был?
– Да старая деревенщина, что притащилась поездом 7:25.
– Что ему было нужно?
– Вышибала понадобился.
– Зачем?
– Выключить свет.
– Вы ничего не трогали в номере?
– Нет, он меня не просил.
– Ваше имя?
– Джим.
– Можете идти.
Глава 2
Окна гостиной одного из самых роскошных остинских особняков ярко освещены. На улице перед крыльцом чередою выстроились кареты, а от ворот до двери расстелен бархатный ковер, – дабы чувствительные ноги гостей, не дай бог, не соприкоснулись с землей.
Торжество устроено по случаю представления в свет одной из самых прелестных дебютанток Города Фиолетового Венца. В комнатах и залах царят утонченная культура, красота, молодость и фешенебельное общество. Высший свет Остина признан самым остроумным, самым избранным и самым высокородным к юго-западу от Канзас-Сити.
Миссис Рутабага Сент-Витус, хозяйка дома, неизменно окружает себя талантами и красотой, не имеющими себе равных. Ее вечера более достойны высокого названия салона, нежели любые другие собрания, исключая разве что прием Тони Фауста и Маргариты в «Железном Фасаде».
Мисс Сент-Витус, чье вступление в лабиринт большого света отмечено столь отрадной демонстрацией гостеприимства, – хрупкая брюнетка с огромными лучистыми глазами, чарующей улыбкой и обворожительными манерами инженю. На ней крепдешиновое платье покроя «принцесс», бриллиантовые украшения, и под спину подложена пара салфеток, чтобы скрыть выпирающие лопатки. Устроившись на плюшевом диванчике на двоих – так называемой «тетатетке», – она с очаровательной непринужденностью беседует с Гарольдом Сент-Клером, торговым агентом миннеаполисской компании по производству кальсон. Элси Хикс, что выскочила замуж за трех коммивояжеров в один день неделю-другую назад и выиграла пари – две дюжины бутылок «Будвайзера» – у пригожего и талантливого молодого таксиста Бама Смизерза, прогуливается туда-сюда сквозь балконную дверь вместе с Этельбертом Уиндапом, весьма популярным молодым кандидатом на пост ревизора кожсырья, – его имя знакомо всякому, кто читает полицейские судебные протоколы.
Где-то, сокрывшись среди кустарников, играет оркестр, а в паузах между репликами можно учуять, как в кухне жарится лук.
С рубиновых губок срывается счастливый смех; мужественные лица светлеют, обращаясь к лебединым шейкам и склоненным головкам, робкие взоры говорят о том, что не смеют вымолвить губы, а под шелковыми лифами и тонким сукном сердца бьются в лад нежной мелодии «Юной любовной грезы».
– Ну и где же вас носило столько времени, о неверный паладин? – молвит мисс Сент-Витус Гарольду Сент-Клеру. – Вы, никак, преклоняли колена пред иными святынями? Вы изменили своим былым друзьям? Говорите, сэр Рыцарь, и защищайтесь!
– Да ладно, ладно, – отвечает Гарольд глубоким музыкальным баритоном. – Я тут вкалывал как проклятый, подгонял штаны на криволапых деревенщин из хлопковых джунглей. Ноги у них все в шишках чуть не с тыкву величиной, и ведь каждый ждет, что брюки будут сидеть прям как влитые. Вам когда-нибудь доводилось замерять ноги колесом… э-э-э… я хочу сказать, можете себе вообразить, что за адова работенка – прилаживать к ним штаны? А спрос-то на нуле; никто не желает выкладывать больше трех долларов!
– Ах, юный бонмотист! – молвит мисс Сент-Витус. – Так и сыплет остротами и афоризмами! Чего вы пьете?
– Пивка бы.
– Так подайте мне руку и пойдем в гостиную, откупорим бутылочку. У меня тоже во рту пересохло, точно хлопок жевала.
Рука об руку прелестная чета шествует через всю комнату, приковывая к себе всеобщие взгляды. Людерик Хетерингтон – подающий большие надежды, весьма и весьма одаренный ночной сторож на скотобойне «Одинокая звезда» – и Мейбл Грабб, дочь миллионера – владельца салуна «Горбатый верблюд», стоят под олеандрами, провожая их глазами.
– До чего прелестна, – говорит Людерик.
– Чушь, – говорит Мейбл.
Внимательный наблюдатель давно уже заметил бы одинокую фигуру: этот человек держится особняком и, благодаря абсолютной невозмутимости и самообладанию, а также искусному лавированию по залу, не привлекает к себе излишнего внимания.
Звезда вечера – пианист герр профессор Людвиг ван Бум.
Неделю назад полковник Сент-Витус обнаружил его распивающим пиво в баре на Ист-Пекан-стрит и, по обычаям Остина, заведенным для такого рода случаев, пригласил его в гости. На следующий день профессор был принят в обществе, и ныне к услугам его – немало просторных музыкальных классов.
Профессор ван Бум играет чудесную симфонию соль минор из «Песен без музыки» Бетховена. Стройные аккорды наполняют залу магией волшебных созвучий. Пианист мастерски воспроизводит исключительно трудные для исполнения пассажи облигато, – и когда наконец отгремело великолепное «тедеум» с дополнительными арпеджио, в комнате воцаряется гробовая тишина – та, что дороже сердцу музыканта, нежели оглушительные аплодисменты.
Профессор оборачивается.
Комната пуста.
Пуста, если не считать Тиктока, великого французского детектива, что выпрыгивает из тропических зарослей прямо на него.
Профессор в испуге вскакивает.
– Тихо, – приказывает Тикток. – Ни звука. Вы и так уже порядком нашумели.
Снаружи слышны шаги.
– Быстро, – говорит Тикток, – гоните носки. Нельзя терять ни секунды.
– Was sagst du?
– Ага, признался, – говорит Тикток. – Да-да, те самые носки, что вы унесли из номера кандидата от партии популистов.
Общество возвращается проверить, отчего смолкла музыка.
Ни минуты не колеблясь, Тикток хватает профессора, швыряет его на пол, срывает с него ботинки вместе с носками и спасается вместе с добычей через открытое окно в сад.
Глава 3
Номер Тиктока в отеле «Авеню». В дверь стучат.
Тикток открывает дверь и сверяется с часами.
– Ага, – говорит он, – ровно шесть. Антре, месье.
Все месье незамедлительно антре. Их семеро: кандидат от партии популистов – он здесь по приглашению, сам не знает чего ради; председатель исполнительного комитета Демократической партии, платформа № 2; владелец отеля и три-четыре демократа и популиста – все, сколько нашлось.
– Не понимаю, какого черт… – начинает было кандидат-популист.
– Прошу прощения, – решительно перебивает Тикток. – Извольте молчать до тех пор, пока я не оглашу свой доклад. Меня уполномочили расследовать это дело – и я разгадал тайну. Во имя чести Франции прошу, чтобы меня выслушали со всем вниманием.
– Всенепременно, – соглашается председатель. – Мы с превеликим удовольствием вас выслушаем.
Тикток стоит в центре номера. Над ним ярко пылает электрическая лампочка. Детектив кажется живым воплощением бдительности, энергичности, гения и хитроумия.
Гости рассаживаются на стульях вдоль стены.
– Будучи поставлен в известность об ограблении, – начинает рассказ Тикток, – я первым делом допросил коридорного. Он ничего не знал. Я отправился в полицию. Там тоже ничего не знали. Я пригласил одного из полицейских распить по стаканчику в баре. Он поведал, что в десятом избирательном округе был один черномазый мальчишка, который сдавал наворованное в полицию, чтобы те с блеском раскрывали кражу; да только он однажды не явился к условленному месту ареста – и угодил в тюрьму.
Я задумался. Я принялся рассуждать логически. Никто, говорил я, не понесет носки популиста в кармане, не завернув их предварительно в бумагу. Ему понадобится газета. Где ее взять? Конечно же, в издательстве «Стэйтсмен». Я направился туда. За конторкой восседал молодой человек, его волосы были зачесаны на лоб. Я понял, что он пишет заметки для светской хроники: перед ним на столе лежали девичья туфелька, кусок торта, веер, полупустая бутылка коктейля, букетик роз и полицейский свисток.
– Не покупал ли кто-нибудь у вас газету за последние три месяца? – спросил я.
– О да, – подтвердил он, – мы продали одну вчера вечером.
– Не опишете ли вы покупателя?
– Во всех подробностях. У него были синие усы, бородавка между лопаток, колики, а изо рта так и разило налогом на занятость.
– Куда он направился?
– За дверь. Тогда я пошел…
– Минуточку, – перебил кандидат от партии популистов, вставая. – В толк не могу взять, какого черт…
– И снова я попрошу вас умолкнуть, – отозвался Тикток довольно резко. – Не перебивайте меня в середине доклада.
– Я совершил один неправомерный арест, – продолжал Тикток. – На улице я проходил мимо двух прекрасно одетых джентльменов, и тут один сообщил, что «увел носки». Я надел на него наручники и потащил его к освещенному магазину, но тут его спутник объяснил мне, что тот слегка навеселе и язык не вполне его слушается. Он рассказывал о некой неудавшейся вечеринке, и слова его подразумевали «увял с тоски».
Я тут же освободил его.
Час спустя я проходил мимо салуна и увидел, что у столика пьет пиво профессор ван Бум. Я знал его в Париже. «Вот он!» – сказал себе я. Он поклоняется Вагнеру, живет лимбургским сыром, пивом и кредитом; такой сопрет носки у кого угодно. Я проследил за ним до самого особняка полковника Сент-Витуса и, улучив момент, схватил его и сорвал носки с его ног. Вот они.
Исполненным драматизма жестом Тикток бросил на стол пару грязных носков, скрестил руки на груди и откинул голову.
С яростным криком кандидат от популистов вновь вскочил на ноги.
– Да черт подери! Я скажу то, что хочу! Я…
Двое других популистов, находящихся в комнате, взирали на него холодно и сурово.
– Это правда? – спросили они кандидата.
– Нет, Богом клянусь, что нет! – возопил он, указывая дрожащим пальцем на председателя демократов. – Вот стоит негодяй, состряпавший всю интригу от начала и до конца. Это – распроклятый, подлый политический трюк, затеянный того ради, чтобы наша партия потеряла голоса. Как далеко все зашло? – яростно осведомился кандидат, оборачиваясь к детективу.
– Во все газеты отослан мой письменный отчет об этом деле; «Стэйтсмен» напечатает его на будущей неделе, – благодушно сообщил Тикток.
– Все пропало! – воскликнули популисты, направляясь к двери.
– Ради всего святого, друзья мои, выслушайте меня! – взывал кандидат, устремляясь за ними. – Я клянусь небом, что отродясь не носил носков! Все это – гнусная предвыборная ложь!
Популисты повернулись спиной.
– Ущерб уже нанесен, – заявили они. – История стала достоянием масс. У вас еще есть время, не уронив достоинства, снять свою кандидатуру.
В номере остались только демократы и Тикток.
– Не сойти ли нам вниз выпить бутылку шампанского за счет финансового комитета? – предложил председатель исполнительного комитета, платформа № 2.
Высшее отречение[73]73
Текст с незначительной правкой печатается по: О. Генри. Сердце Запада: Рассказы. Пг.: Скл. изд. «Якорь», 1915.
[Закрыть]
Кудряш-бродяга бочком двинулся к стойке, где была расставлена даровая закуска. Но, поймав на себе мимолетный взгляд трактирщика, он остановился и принял такой вид, словно только что пообедал в отеле Менгера и теперь дожидался здесь приятеля, обещавшего покатать его в собственном автомобиле. Артистические способности Кудряша вполне могли изобразить желаемый тип, но внешних данных несколько не хватало.
Трактирщик, как будто от нечего делать, начал ходить около прилавка, потом взглянул на потолок, словно обдумывая какую-то сложную проблему оштукатуривания, а затем устремился на Кудряша с такой внезапностью, что тот не успел даже дать никаких объяснений своему поведению. Неотразимо, но так спокойно, что с его стороны это казалось почти простой рассеянностью, виночерпий теснил Кудряша к двери и наконец вытолкнул его на улицу с небрежностью, почти переходившей в грусть. Таковы уже были приемы на Юго-Востоке.
Кудряш не торопясь поднялся с тротуара. К изгнавшему его человеку он не чувствовал ни злобы, ни раздражения. Пятнадцать лет бродяжества, составлявшие пять седьмых его двадцатидвухлетней жизни, закалили фибры его духа. Пращи и стрелы, метаемые злобной судьбой, расплющивались о панцирь его стальной гордости. Но с особенной покорностью терпел он поношения и обиды, чинимые трактирщиками. Согласно естественному течению событий они были его врагами; но часто, вопреки естественному ходу вещей, они оказывались его друзьями. Он должен был пользоваться случаем, чтобы поживиться от них, если можно. Но он еще не умел ценить как следует этих холодных, ленивых юго-восточных рыцарей кабацкой стойки, у которых были манеры графа Поутэкетского и которые, если они не одобряли вашего присутствия, выставляли вас с безмолвием и проворством шахматиста-автомата, двигающего пешку.
Кудряш стоял несколько минут на узкой, проросшей мескитной травой улице. Сан-Антонио смущал и беспокоил его. Уже три дня он был бесплатным гостем этого города, на улицы которого свалился из товарного вагона Великой Северной железной дороги, ибо Джонни, смазчик в Де-Муане, уверил его, что Сан-Антонио весь обсыпан манной небесной и что там даром дают обед и даром же угощают сливками и сахаром. Отчасти это соответствовало истине. Гостеприимства там было вволю – гостеприимства беззаботного, щедрого и беспорядочного. Но сам город тяготил Кудряша, привыкшего к шумным, деловым, упорядоченным центрам Севера и Востока. Здесь ему нередко швыряли доллар, но зато очень и очень часто доллар сопровождался добродушным пинком. Один раз банда веселящихся ковбоев накинула на него лассо на Военной площади, протащила его по черной земле и привела туалет Кудряша в такое состояние, что ни один порядочный мешок для тряпок не согласился бы принять его к себе. Извилистые, кривые, никуда не приводившие улицы озадачивали его. А кроме того, имелась маленькая, изогнутая, точно ухват, речонка, ползшая по самой середине города и перекрещенная сотней маленьких мостов, до такой степени одинаковых, что это било Кудряша по нервам. И только что виденный им трактирщик носил штиблеты номер девятый.
Салун стоял на углу. Времени было восемь часов вечера. Прохожие, шедшие домой, и прохожие, шедшие из дома, толкали Кудряша, сталкиваясь с ним на узком каменном тротуаре. Между группой зданий на левой стороне виднелась расщелина, представлявшая, по-видимому, другую большую улицу. На ней царила темнота – светился только один огонек. Но раз там горел свет, очевидно, должны были быть и человеческие существа. А там, где оставались человеческие существа после наступления ночи, возможно, имелась пища и уж наверное имелась выпивка. И потому Кудряш тронулся по направлению к огоньку.
Иллюминация эта исходила из кафе Швегеля. На тротуаре перед самым кафе Кудряш подобрал старый конверт. Возможно, там чек на миллион долларов… Конверт был пуст; но все-таки странник наш прочел адрес – «Мистеру Отто Швегелю» и название города и штата. На штемпеле стояло «Детройт».
Кудряш вошел в салун. Теперь, когда на него падал свет, стало заметно, что он носит на себе печать многих лет бродяжнической жизни. Ему была совершенно чужда опрятность, которая отличает расчетливого и проницательного профессионального бродягу. Гардероб его состоял из брошенных за негодностью образцов полудюжины различных стилей и эпох. Штиблеты для его ног обеспечили совместные усилия двух фабрик. Глядя на него, вы смутно вспоминали мумии, восковые фигуры, русских политических эмигрантов и людей, затерянных на необитаемых островах. Лицо его почти до самых глаз заросло вьющейся каштановой бородой, которую он подрезал перочинным ножом и которая снискала ему его прозвище. Светло-голубые глаза, полные угрюмой злобы, страха, хитрости, нахальства и лести, свидетельствовали о том, как отчаянно приходилось изворачиваться его душе.
Салун был невелик, и в атмосфере его боролись за превосходство запахи мяса и спиртных напитков. Свинина и кислая капуста состязались с водородом и кислородом. За прилавком орудовал сам Швегель вместе с приказчиком, из раскрытых пор которого обильно струился пот. Покупателям подавали к пиву венские сосиски и кислую капусту. Кудряш подошел к самому концу стойки, глухо кашлянул и сообщил Швегелю, что он столяр из Детройта, оставшийся без работы.
Подобно тому, как ночь следует за днем, так и за этим заявлением последовал скунер[74]74
Скунер – большой бокал в один литр.
[Закрыть] пива и закуска.
– Может быть, вы знавали в Детройте Генриха Штрауса? – спросил Швегель.
– Знал ли я Генриха Штрауса? – заговорил Кудряш с нежностью в голосе. – Могу только сказать, хозяин, что хотел бы я иметь по доллару за каждый роббер пинокля[75]75
Роббер пинокля – пинокль – карточная игра; роббер – полная партия в карточной игре.
[Закрыть], в который, случалось, играли мы с Гейни в воскресные вечера!
Перед дипломатом появился еще скунер пива и другая тарелка сосисок. А затем Кудряш, знавший с точностью до одной драхмы пива, сколь долго можно продолжать подобную игру, тихонько исчез на бесприютную улицу.
Теперь-то начал он ощущать все неудобства этого каменного южного города. Здесь не было ни уличного веселья, ни блеска, ни музыки, которые в городах Севера обеспечивают развлечение даже беднейшим. Несмотря на ранний час, мрачные, выстроенные из плит дома уже заперли на замки и засовы, чтобы не проникла хмурая сырость ночи. Улицы казались простыми трещинами, и речной туман струился по ним серыми клубами. Проходя мимо, Кудряш слышал за занавешенными окнами звон монет, смех и музыку, доносившиеся из каждой щели в дереве и камне. Но все эти развлечения были узкоэгоистичны; пора общественного времяпрепровождения еще не наступила для Сан-Антонио.
Наконец Кудряш, бесцельно блуждая, обогнул острый угол другой затерявшейся в лабиринте улицы и наткнулся на шальную компанию скотоводов с дальних ранчо, бражничавших на открытом воздухе перед каким-то старым деревянным отелем. Один из этих обитателей овечьей страны, по-видимому великий кутила, только что подал мысль о всеобщем движении к стойке и, завидев Кудряша, впихнул его в салун вместе с остальным стадом, словно приблудшего козленка. Князья мяса и шерсти приветствовали его как новое зоологическое открытие и с гиканьем и криками старались подольше удержать Кудряша в своей среде, осыпая его комплиментами и нежностями алкогольного свойства.
Через час Кудряш уже плелся прочь из отеля, отпущенный на все четыре стороны своими ветреными друзьями, интерес которых к нему исчез так же быстро, как возник. Он был нагружен до краев алкогольным топливом и набит пищей, и единственная тревожная проблема заключалась теперь лишь в вопросе о крове и постели.
Начал идти мелкий холодный техасский дождь – это нескончаемое, ленивое, безостановочное падение водяных капель, приводившее в уныние людей и подымавшее пар с теплых камней улиц и домов. Так приходят обыкновенно ласковая весна и любезная осень, сопровождаемые то ледяными салютами, то прощаниями приходящей или уходящей зимы.
Следуя своему носу, Кудряш направился вниз по первой попавшейся извилистой улице, куда его привели невменяемые ноги. У нижнего конца ее, на берегу змеившейся реки, он заметил в каменной стене открытые ворота какого-то здания. Во дворе виднелись костры и ряд низких деревянных навесов, пристроенных к трем сторонам стены. Он вошел. Под навесами лошади жевали овес и кукурузу. Вокруг стояло много фур и тележек с упряжью, небрежно брошенной на ваги и колеса. Кудряш сообразил, что это постоялый двор, какие частенько строятся купцами для их провинциальных друзей и клиентов. Кругом не видно было ни души. Очевидно, кучера всех этих экипажей рассыпались по городу, «чтобы повидать слона и послушать сову». По-видимому, те, что ушли последними, слишком торопились оказать свое покровительство местам радости и хорошего настроения и потому оставили большие деревянные ворота открытыми настежь.
Кудряш удовлетворил мучившие его голод анаконды и жажду верблюда и потому был не в таком настроении, не в таком состоянии, чтобы заняться исследованием. Чертя зигзаги, направился он к первому фургону, который различило его зрение в царившей под навесом полутьме. Это оказался парный фургон, крытый белым брезентом. Он был до половины завален беспорядочно набросанными мешками из-под шерсти, двумя-тремя кипами серых одеял и массой тюков, узлов и ящиков. Человек рассуждающий сразу сообразил бы, что груз этот предназначен для ранчо и завтра отправится на какую-нибудь дальнюю гасиенду. Но для сонных мозгов Кудряша все это обозначало лишь тепло, мягкую постель и защиту от холодной, влажной ночи.
После нескольких безуспешных попыток он наконец настолько преодолел тяготение, что вскарабкался по колесу и плюхнулся на самую лучшую и самую теплую постель, на какую только приходилось ему падать за долгое время. Затем он инстинктивно превратился в роющее животное и, подобно степной собаке, стал все глубже закапываться в мешки и одеяла, пока не укрылся от холода и не почувствовал себя так же уютно и удобно, как медведь в берлоге. Три последних ночи сон посещал Кудряша только случайными и холодными дозами. И потому теперь, когда Морфей соблаговолил нанести ему визит, Кудряш ухватился за этого почтенного мифологического джентльмена с такой силой, что можно было только удивляться, как это хоть кому-нибудь еще в сем мире удалось на минуту заснуть в эту ночь.
Шесть ковбоев ранчо Сиболо дожидались у двери кладовой. Их кони тут же щипали траву, стреноженные по техасскому способу. В Техасе лошадей, в сущности, совсем не стреноживают, а просто-напросто бросают поводья на землю, что является гораздо более верным способом удержать их поблизости (такова сила привычки и воображения), чем обычная комбинация из полудюймовой веревки и дубовой палки.
Эти охранители стад расхаживали вокруг, держа в руках коричневую папиросную бумагу и тихо, но неустанно проклинали Сэма Ревелля, эконома. Сэм стоял в дверях, пощелкивая красными резиновыми подтяжками на рукавах розовой мадрасской сорочки, и нежно глядел на свои желтые штиблеты – единственную пару желтых штиблет в радиусе сорока миль. Преступление его было немалое, и душой его в данную минуту поровну владели два одинаково сильных чувства – смиренное покаяние и восхищение перед красотой собственных одежд. Он молча терпел, пока наконец запас ругательств не истощился.
– Я был уверен, ребята, что под прилавком лежит еще ящик табаку, – объяснил он. – А оказалось, что это патроны.
– Можешь не сомневаться, что у тебя гаппендицит[76]76
Гаппендицит – употреблено вместо слова «галлюцинация».
[Закрыть], – сказал Тупица Роджерс, загонщик из потреро[77]77
Потреро – пастбище, окруженное колючей проволокой (исп.).
[Закрыть] на Ларго Верде. – Жаль, что никого не случилось на месте, чтобы угостить тебя кончиком кнута в самую голову. Я девять миль проехал из-за этого табака. Прямо-таки неестественно и неприлично, что тебе позволено было жить на свете.
– Ребята курили рубленую шерсть пополам с сушеными мескитными листьями, когда я уехал, – со вздохом произнес Мустанг Тэйлор из лагеря у «Трех Вязов», по специальности объездчик лошадей. – Они будут ждать меня к девяти вечера. Будут сидеть с бумагой в руках, чтобы перед сном свернуть настоящую папироску. И мне придется им сказать, что этот красноглазый, овцеголовый, желтоногий сын коленкорового жеребца по имени Сэм Ревелль не имеет на руках табака.
Грегорио Фалькон, мексиканский вакеро[78]78
Вакеро – испанское название западноамериканских пастухов.
[Закрыть] и лучший метатель лассо на сибольском ранчо, нахлобучил на чащу своих иссиня-черных локонов тяжелую, вышитую серебром соломенную шляпу и стал скрести в глубинах карманов, надеясь найти хоть несколько крошек драгоценной травы.
– Дон Самуэль, – сказал он укоризненно, сохраняя, однако, кастильскую вежливость, – извините меня. Говорят, что у кролика и овцы самые маленькие на свете sesos – по-вашему это, кажется, называется мозги? Не верьте этому, дон Самуэль. Самые маленькие, извините, мозги у тех людей, которые не держат табаку.
– Ну, ребята, нечего жевать тряпку, – сказал невозмутимый Сэм, наклоняясь и отирая кончики штиблет красно-желтым платком. – Во вторник, когда Ранзе уезжал в Сан-Антонио, я наказал ему насчет табаку. Панчо вчера привел его верховую лошадь, а сам Ранзе приедет на фургоне. Грузу там не очень много – мешки, одеяла, гвозди, персиковые консервы и еще кое-что, чего у нас не хватало. Ранзе наверняка вернется сегодня. Встает он рано, гонит лошадей, как черт, и, наверное, около заката будет уж здесь.
– Какие у него лошади? – спросил Мустанг Тэйлор с некоторой надеждой в голосе.
– Серые, которых запрягают в тележку, – отвечал Сэм.
– Тогда я подожду немного, – согласился Мустанг. – Эти жеребцы бегут быстро, так и едят дорогу, точно скакун, когда его огреешь кнутом. А сейчас, пока нет ничего получше, откупорь-ка мне банку зеленых слив, Сэм.
– А мне – желтых, – приказал Тупица Роджерс. – Я тоже подожду.
Лишенные табака ковбои расселись поудобнее на лестнице кладовой. Сэм ушел внутрь помещения и маленьким топориком принялся сбивать крышки с консервных коробок.
Кладовая, большое белое деревянное здание, напоминавшее амбар, стояла в пятидесяти ярдах от дома. За ней начинались корали для лошадей, а еще дальше виднелись сараи для шерсти и крытые плетнем загоны для стрижки овец. На ранчо Сиболо разводили и рогатый скот и овец. Неподалеку от кладовой стояли крытые травой хижины мексиканцев, вассалов Сиболо.
Дом ранчо состоял из четырех больших комнат с оштукатуренными, сложенными из адобы стенами и из деревянной, в две комнаты, надстройки. Вокруг здания тянулась «галерея» футов двадцати в ширину. Дом был выстроен посредине рощицы из громадных ясеней и вязов, вблизи озера, длинного, не очень широкого, но зато страшно глубокого, в котором по вечерам большие выдры, наслаждаясь ванной, возились и ныряли с шумом гиппопотамов. На деревьях гирляндами и массивными серьгами висел меланхолический серый южный мох. Вообще, поместье Сиболо напоминало скорее Юг, чем Запад. Оно имело такой вид, как будто старый Киова[79]79
Киова – название одного из индейских племен.
[Закрыть] Трусдэлль целиком перенес его с равнин Миссисипи, когда он, в 1855 году, пришел в Техас с карабином под мышкой.
Однако, хотя Трусдэлль родового дома с собой и не принес, он принес такую часть семейного наследства, которая была прочнее камня и кирпича. Он принес с собой фамильную ссору Трусдэллей и Куртисов. И когда один из Куртисов купил ранчо Де-Лос-Ольмос, в шестнадцати милях от Сиболо, на заросших грушей равнинах и в чащах Юго-Запада наступило интересное время. В те дни Трусдэлль очищал заросли от волков, леопардов и пантер; между прочим, пали от его карабина и двое Куртисов. Со своей стороны, на отмели Сибольского озера он похоронил брата с всаженной в него Куртисовой пулей. А затем индейцы из Киовы сделали свой последний набег на ранчо, расположенные между Фрио и Рио-Гранде, и Трусдэлль, во главе своих ковбоев, начисто, до последнего храбреца, освободил от них землю. После этого наступило благополучие в виде растущих стад и расширяющихся земель. И наконец пришли дни старости и горечи, когда Трусдэлль, со своей гривой белых, словно цветы «испанского кинжала», волос и со своими хищными бледно-голубыми глазами, сидел в тенистой галерее Сибольского ранчо и рычал, словно пумы, которых он убивал когда-то. Старость он презирал, и горький привкус, отравивший его жизнь, проистекал не от нее. Горько было то, что его единственный сын Рэнсом хотел жениться на Куртис, последней оставшейся в живых юной представительнице враждебного дома.
Некоторое время у кладовой слышались только стук оловянных ложек, бульканье фруктового сока в горле у ковбоев, топот пасущихся пони да тягуче-грустная песенка Сэма. Сэм напевал ее, в двадцатый раз самодовольно причесывая щеткой свои каштановые волосы перед истрескавшимся зеркалом. Из двери кладовой можно было видеть неровный уклон тянущейся к югу степи с пятнами светло-зеленых волнистых мескитовых зарослей по низинам и почти черным низким кустарником по холмам. По мескитовым лужайкам вилась дорога, через пять миль соединявшаяся со старым правительственным трактом, ведшим в Сан-Антонио. Солнце стояло так низко, что самое незначительное возвышение бросало целые мили серой тени в золотисто-зеленое море света.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































