Текст книги "Сергеев и городок"
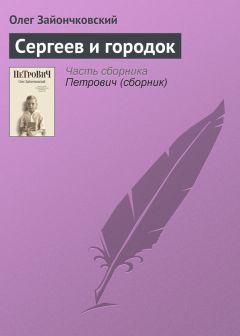
Автор книги: Олег Зайончковский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
За этой бытовухой, за деторождением, за посиделками под портвейн, культурными и не очень, за ежедневным добыванием и проеданием насущного куска шло время. А время, между прочим, несло перемены, которых домогались наши мыслители. Капитан Самофалов состарился и вышел на пенсию; он редко показывался в городке, а все больше сидел в своем садике и слушал, как с деревьев падают яблоки, – ему казалось, что кто-то кидает камни через забор. Проспект Красной Армии переименовали в проспект Демократии и хотели ликвидировать в городке все памятники советским вождям, однако обнаружилось, что общественность опередили сдатчики цветмета и первыми покончили с наследием прошлого. Других пунктов в программе мыслящей общественности не оказалось; к тому же везде, где она пыталась о себе заявить, всякий раз получала по соплям, только уже не от Самофалова, а от каких-то новых мордоворотов с цепями на шеях. Один лишь Арзуманян преуспел в новой жизни: он завел торговую палатку на нашем рынке и разъезжал на иномарке, купленной на деньги своих армянских родственников. Он думать забыл о Вадике с Вероникой, и Кочуев давно износил его тапки.
Отставные наши мыслители, вновь укрепившись в отрицании действительности, развлекались участием в каких-то общественных объединениях, благо теперь им в этом никто не препятствовал. Местом своих сходок они полюбили назначать почему-то наш краеведческий музей. Однако и здесь у них назревал конфликт, только уже не с властями и не с «крутыми» в цепях, а с монастырем, пожелавшим вернуть себе помещение, но, похоже, и этот соперник был общественности не по зубам…
Вот, кстати, в монастыре зазвонили… Сергеев спустился с холма. Встрепенулся ветерок, решив, как видно, впервые за целый день прибраться в переулках: помел в канавы опавшую листву и обертки от жвачек. Проходя мимо глухого облупившегося забора, Сергеев вытянул шею и, обнаружив в саду хозяина, поприветствовал:
– Здравствуйте, дядя Толя!
– Здоров… – хмуро ответил Самофалов.
Старый мент стоял под деревом в телогрейке и синих галифе, задумчиво вертя в руке яблоко. Яблоко это только что стукнуло его по темечку, но не породило в голове никаких теорий. Самофалов лишь констатировал, что яблоко червивое и незрелое. «А хорошо бы гусеницу оттель выковырнуть, а его обратно на ветку посадить…» – пробормотал он, но, усмехнувшись собственной глупости, отшвырнул яблоко прочь.
Сергеев тем временем шел уже дальше и через пару переулков встретил Веронику с коляской. За руку она вела старшего внука. Сергеев поздоровался и с ней:
– Как дела?
– Да какие мои дела… – Она поддала коляску. – Вот мои дела.
– А Ленка где?
– А… – Вероника неопределенно махнула рукой. – Шляется где-то. А Вадька на какое-то собрание побежал…
– Я его видел…
Вероника чуть помолчала и с чувством сказала:
– Главное – что? При живых родителях – и опять безотцовщина растет, вот что мне обидно…
Про любовь
Всякая лошадь по мере приближения к дому ускоряет шаг. Даже старый мерин Щорс, возвращаясь к себе на нефтебазу, гнал, что твой орловский рысак. Он предвкушал покой в конюшенном сумраке, припахивавшем керосином, и то особое дремотное полузабытье, сладостное для потрудившейся лошади.
Но надо заметить, что и время при известных обстоятельствах ведет себя сходным образом. Едва заклубится вдалеке кладбищенская роща, тучкой севшая на пригорок, его уже не унять. Почуяв кладбище, окаянное время прямо-таки переходит на рысь, словно спешит в свое заветное стойло.
Для Кузоватова, чем старше он делался, тем быстрее мелькали годы-версты – так, что некогда стало привыкать к их порядковым номерам. Дни укоротились настолько, что он не успевал заводить часы. Эта заводка часов превратилась в почти что непрерывный процесс – неудивительно, что головка его «победы» полысела подобно собственной голове Василь Трофимыча. Циферблат часов с допотопными «лупастыми» цифрами порыжел и пошел мелкими трещинами, гравировка на задней крышке стерлась, так же как стерлись наколотые синим буквы «В-А-С-Я» на кузоватовских конопатых пальцах.
«Победу» эту подарила ему жена в честь первого года их совместной жизни. Вася, помнится, пожурил ее за безрассудно потраченные хозяйственные деньги, а потом, разобрав на крышке гравировку, рассмеялся. «В. Т. Кузоватову от любящей жены». – «Эх ты, балда! Так только на венках пишут». Жена тогда надулась, сказала: «Не нравится – выбрось!» Но вот уже пять лет, как она в могиле, а часы все ходят. И надпись на венке не она ему, а он ей заказывал… Такие дела.
Тщетно пытаясь ухватить корявой подагрической щепотью скользкую головку, Кузоватов каждое утро давал себе слово снести часы в починку. Но известно, как делаются дела у стариков: то пенсию задержали, то на улице скользко, то в боку закололо. Проходил месяц за месяцем, а он все собирался. Однако бывают в году такие дни, когда кто-то свыше посылает старикам команду встать со своих лежанок и заняться делом. Это хорошо заметно на автобусных остановках: ни с того ни с сего высыпят деды с бабками, сидят рядами на лавочках – вдруг занадобилось им всем куда-то ехать. Куда же? А вот, к Маше – давно у нее не была… А другая – в церковь… А третья – на рынок… А тот «перец» с клюшкой за грибами собрался – дойти бы ему до лесу…
В такой-то день – майский, погожий – решился наконец и Кузоватов исполнить свое намерение. Надел он пиджак с медалью, взял выходную палку с инкрустацией и отправился в поход. «Победа» путешествовала в ремонт на руке Василь Трофимыча, но в кармане его на всякий случай лежала от нее коробочка с пожелтевшей инструкцией и заводской гарантией, закончившейся сорок пять лет назад. Несмотря на то что Кузоватов твердо решил не отступать и не ворочаться домой, не наладив часов, его не отпускали сомнения. «Не ровен час, что-нибудь испортят халтурщики… Или ничего не сделают, а только денег сдерут…» Но он сам себя ободрял: «Пусть попробуют! Проверю досконально, и если что не так, до начальства доберусь. Кузоватова в городке знают… найду на них управу!»
К Дому быта Василь Трофимыч дошаркал в довольно воинственном состоянии духа. Войдя в холл, он долго оглядывался, потом, стуча палкой, двинулся вдоль стен, читая все объявления. Какой-то молодой человек в синем халате спросил его:
– Дедуля, что вы хотели?
Старик неприязненно на него посмотрел:
– Какое такое «хотели»? И теперь еще хочу… Часы где тут чинят?
Молодой человек ткнул пальцем в окошко с крупной надписью: «Ремонт часов». «И как я сразу не увидал?» – подосадовал Кузоватов. Он подошел к окошку и заглянул внутрь. Сквозь стекло он разглядел обрамленную седыми кудрями плешь часовщика, сосредоточенно ловившего пинцетом что-то невидимое на залитом светом столике. Простояв с минуту и не дождавшись, чтобы мастер поднял голову, Василь Трофимыч покашлял. Эффекта это не дало. Тогда он постучал по стеклу пальцем. Часовщик, не отрываясь от своего занятия, пробурчал:
– Там звонок есть.
Тут только Кузоватов заметил сбоку от окошка кнопку звонка и надпись: «Вызов мастера». Он почти со злобой нажал на кнопку, и в каморке у «часового» раздался прихотливый сигнал в виде соловьиной трели. Он-то и возымел нужное действие: голова за стеклом поднялась, и вместо лысины Кузоватов увидел обращенное к нему лицо с лупой в глазу.
– А что, милок, так не видать меня было? – раздраженно начал Василь Трофимыч, но часовщик неожиданно его перебил:
– Кого я вижу… Трофимыч! Спрашивается, что ты молчишь?
Приглядевшись, и Кузоватов признал мастера – это был Иосиф Урбах.
– Надо же! Ёська! Сколько лет…
Ёська сделался само радушие:
– Чего же ты там стоишь? Давай заходи, в моем офисе есть стул.
Кузоватов отыскал дверь, толкнул ее – и оказался как бы по ту сторону границы. Теперь он уже был не простым посетителем, а приятелем мастера со всеми вытекающими привилегиями.
– Вот уж не думал, что ты еще работаешь, – радовался он, входя. – Думал, ты давно или помер, или в Израиль уехал…
– Ты прав, – Урбах усмехнулся. – Теперь все хорошие часовые непременно либо там, либо там… Но ты меня слишком рано хоронишь.
Живой и очень толстый, он сидел на хлипком вращающемся стульчике, все время страдальчески скулившем и взвизгивавшем под его грандиозным задом. В «офисе» было тесно и пахло Урбахом. Повсюду недружно щелкали разнообразные часы, и каждые вели свой собственный счет времени. На полках словно пойманные блохи, накрытые стеклянными колпачками, лежали микроскопические часовые деталюшки. Ёську в определенном, видимо, строгом порядке окружали натыканные в специальных гнездах и ровно разложенные крошечные молоточки, отверточки и всякие другие инструментики. Было непонятно, как этот громоздкий человек управляется с такой мелочью. Казалось, чихни он посильнее – и все тут разлетится так, что не соберешь вовеки.
Трофимыч пристроил в углу свою палку и сел на свободный табурет. Урбах накрыл своих блох на столе колпачком; стул его с болезненным криком сделал пол-оборота:
– Ну, рассказывай… У тебя, я понимаю, сюда важное дело?
– Да, брат, беда… Головка у меня стерлась.
– Головка, говоришь?.. – Ёська ухмыльнулся. – Это имеет объяснение в нашем возрасте… Ну, давай, что ты принес.
Кузоватов протянул ему свою «победу».
– О да! – Урбах уважительно взял часы двумя пальцами. – Это механизм. В один прекрасный день за такую «победу» отец меня… добрая ему память.
Он вытащил из часов ремешок:
– Что это?.. «В. Т. Кузоватову…» Именные?
– Ты читай… Видишь: «…от любящей жены». Даша подарила, на нашу первую годовщину.
– Я извиняюсь, у тебя тут все салом заросло. Ты их когда-нибудь чистил?.. Кстати, как твоя Даша?
– Даша-то? Шестой год как схоронил…
– Что ты говоришь! – Урбах сокрушенно покачал головой. – Это немыслимо…
– Рак, что ты хочешь…
– У нас совершенно погубили всю экологию… Мира будет потрясена…
– Не спросил… Что там она? Не болеет?
– Смешной вопрос! Как может Мира не болеть, дай Бог ей долгих лет… – Урбах усмехнулся: – Я скажу тебе другую вещь. У нас с ней одна болезнь на двоих.
– Это как? – не понял Кузоватов.
– Наша дочь. Она уже пять лет живет в Америке и вышла замуж за пидораса.
– Постой… У нее же был муж.
– Этого Гошу она там бросила. Он со своим дипломом сторожит кегельбан и шлет нам письма. Он хочет вернуться, когда накопит на дорогу.
– А нового ты за что ругаешь?
– Почему ругаю? Я сообщаю тебе факт: у них пидарас уважаемый человек и называется «гей».
– Гей?
– Ну да, гей.
– Пидорас?
– Ну да, что я тебе толкую!
Кузоватов почесал лысину:
– Тогда я не понял… Зачем пидорасу жена?
– Мы с Мирой тоже задавали такой вопрос… Может быть, с ней надо ходить на приемы? Ведь он адвокат и живет в Голливуде, где снимают кино.
– Адвокат?
– Ну да, адвокат. Дочь пишет, там полно этих геев и им нужны адвокаты. В Америке без адвоката, я извиняюсь, никто покакать не ходит.
Урбах в продолжение разговора успел разобрать часы:
– Знаешь, им надо задать хорошую профилактику.
– Кому?.. – рассеянно переспросил Кузоватов. – А, да, конечно… – Он думал о другом: – Странно, Ёся… Ты говоришь, как будто это нормально.
– Что? Ты о пидорасе? У них это нормально. В Америке даже есть такой закон, я знаю, чтобы принимать на работу одного гомосека, одного негра, ну и там… женщину.
– А еврея?
– Нет, евреи как все идут, – Урбах хмыкнул. – Если не пидорасы, конечно.
Старики замолчали. Иосиф погрузился в работу; при этом он не мог не сопеть, но соблюдал осторожность, чтобы не сдуть чего-нибудь со стола. Его толстые пальцы действовали аккуратно и точно. Кузоватов наблюдал за ним с одобрением. Он и сам всегда любил порядок в каждом деле. Бывало, соберется починить, например, настольную лампу, так обязательно прежде примет рюмку, чтобы рука стала тверже. Газетку подстелит, инструмент приготовит, кошку выгонит, чтобы на стол не прыгнула. Жену тоже выставит в другую комнату: Даша, царство ей небесное, никогда не могла удержаться от советов. «Шибко умная была», – Трофимыч ей так и говорил. Кузоватов вздохнул… Что толку от этих советов. Дочь она тоже всю жизнь на ум наставляла, а что вышло?
Трофимыч расстегнул ворот:
– Душновато у тебя…
Урбах не ответил, занятый делом.
– А у меня, брат, тоже… дочь.
– М-м?
– Дура бестолковая… Твоя хоть с адвокатом живет, а моя… не пойми с кем – с Колькой Барботкиным.
– Может быть, у них любовь?
– Любовь, это точно. Втюхалась в этого пьяницу… подштанники его драные стирает.
– Любовь – это главное. Это вам не с геем по контракту жить.
– Как так – по контракту?
– Ты меня спрашиваешь? Мы с Мирой прожили тридцать лет безо всяких контрактов… Дочь пишет, он обязуется ее содержать и тому подобное. Я не знаю, но родители у них в этом контракте не значатся. От Гоши мы получили две посылки, а от нее только открытки: Фрида под пальмой со своим пидорасом на фоне «кадиллака»… Фрида в бассейне… Фрида на фуршете…
– Бывает… – посочувствовал Кузоватов. – Моя тоже не больно…
– Это у нас бывает, а у них так заведено! – Урбах разволновался, стул под ним рыдал. – Очень прекрасно, не надо родителей. Раз так, пусть себе сдохнут и тому подобное. Но вы мне скажите, что они сделали с любовью? Любовь к контракту не подколешь, или я не прав? Я тебе отвечу на твой вопрос: любовь они победили вместе с другими болезнями и поэтому живут так долго.
– Эк ты разошелся, – Трофимыч усмехнулся. – Смотри, со стола смахнешь…
Но Иосиф отложил работу и повернулся к нему:
– Нет, ты слушай сюда… Скоро техника заменит человека, об этом пишут в газетах. Машины будут делать машины и так далее. Скотину выведут такую, чтобы сама себя пасла, я знаю, сама казнила и сама разделывала. Что, спрашивается, останется человеку? Он будет писать инструкции и контракты. Как ты себе думаешь? На свете останутся одни юристы, адвокаты и пидорасы… благодать! Господь Саваоф сойдет на землю и попросит вид на жительство. И они с ним тоже заключат, между прочим, контракт… И при чем здесь любовь, про которую ты спрашиваешь?
– Да я ничего… – Кузоватов был несколько озадачен. – Я не против… Ты сам завел про это дело. Моя дура тоже все: «любовь», «любовь»… А я ей говорю: любовь-то любовь, а расписаться надо. Хоть на алименты, случай чего, подашь… Хотя, конечно, без любви тоже нельзя: подштанники простирнуть юриста не попросишь.
В эту минуту в окошко мастерской просунулась голова клиента. Это был Сергеев:
– Привет, аксакалы!.. Иосиф Григорич, как там моя «сейка»?
Урбах пошарил в ящике:
– На…
– Жить будет?
– Будет… хотя, я извиняюсь, но это не часы, а говно. Вот посмотри: абсолютно нельзя сравнивать… «Победа»! От любящей жены.
Травкин
Шесть часов. Январское утро.
Но утро это только для тех, кто встает по будильнику: в природе еще глубокая ночь. Собаки нимало не выдохлись – их оргии в разгаре. Рыкающие, взвизгивающие стаи – ветер в ушах – проносятся, ломая кусты, пугают дворничих, и те замахиваются вслед лопатами. Собаки на бегу кусают снег и чужие холки, их брюхи и морды звенят сосульками, хвосты закладываются, отрабатывают в крутых поворотах.
Январское утро. Мороз. От фонарей в небо уходят стрелками голубые лучи. Дворничихи скребут у подъездов лопатами, и звуки эти – как вздохи астматика. Где-то далеко, а кажется – рядом, забормотал автобус – первый – он, конечно, пуст. И пусты улицы: только дворничихи и безумные собаки. Псиный запах – единственная пряность в дистиллированном воздухе.
Но вот скрипнула калитка (дом номер восемь по улице Котовского). Из калитки выехал и прислонился к забору велосипед пензенского завода. Машина стара, это видно даже в свете фонаря: заднее крыло глядит набок, как собачий хвост, колеса неодинаковы и спорят, в каком из них больше спиц. Велосипед этот служит явно не для прогулок: руль его, облупленный и пошедший старческими пятнами, прихотливо выгнут хозяином для удобства каждодневной езды.
Хрустнула цепь, снег стрельнул под шиной, тренькнул на кочке звонок, утробно звякнул подсумок, притороченный к седлу. Пензорожденный бицикл отправился в путь. Седло его не слишком отягощал сухой зад Максима Тарасыча Бурденки, нашего городского невропатолога. За спиной Максима Тарасыча висел рюкзачок, правая штанина зашпилена была прищепкой, а голову, несмотря на мороз, прикрывала лишь кепочка с ушами. Путь предстоял неблизкий – на другой конец городка, в Мадрид. Пока они ехали, на улицах стали уже появляться первые прохожие – утренние страдальцы, бегущие по снежному первотропу. Скукоженные, несчастные, они тем не менее, завидев велосипед, почти все глухо здоровались из своих воротников:
– Здрась, Макс Трсс…
Наш Мадрид, в отличие от одноименного испанского города, пострадавшего от итало-германских бомбежек, продолжал смотреться руиной. В далеком двадцать девятом году власти разгромили монастырь, приспособив остатки под жилье для приезжих пролетариев. «Приспособив» – громко сказано: просто «рассадник мракобесия» превратился в клоповый рассадник. С тех пор много керосина сгорело в мадридских примусах. Пролетарии получили в большинстве нормальное жилье, но почему-то Мадрид оставался все так же полон. Жизнь в монастырских развалинах продолжалась, ползучая и неугасимая, как торфяной пожар.
Но в то раннее утро лишь два-три тускло светящихся окошка выдавали присутствие в Мадриде жизни. Да еще мерин Щорс стоял у одного из подъездов, запряженный в телегу с керосиновой бочкой. Морда его была седа от инея, а под задними копытами ароматно парила свежая куча собачьего деликатеса. Щорс кивнул Максиму Тарасычу и фыркнул, покосившись на веломашину. Подъезды в Мадриде не освещались отродясь, но Бурденко и во тьме привычно перешагнул сломанную ступень деревянной лестницы. Он поднялся на второй этаж и тихонько поскребся в драную дерматиновую дверную обивку. Дверь тут же отворилась: его ждали.
– Это я, – шепотом сообщил Бурденко.
– Здравствуйте, Максим Тарасович! Как хорошо… Проходите, пожалуйста, – тоже шепотом ответили ему.
Коммуналка еще спала, только в конце коридора дверная щель прочерчивалась полосой света. Туда и прокрался Бурденко в сопровождении мелко шаркающей фигуры. В лучах электричества фигура оказалась старушкой в кофте и заштопанной шали.
– Здрасьте, Олимпиада Иванна, – Максим Тарасыч снял свою кепку.
– Не слишком раздевайтесь, прошу вас, у нас очень холодно. – Старушка приняла у него головной убор.
– Что вы, не беспокойтесь, я морозоустойчивый.
– Липа… Липа! – раздался дребезжащий голос из глубины комнаты. Там за ширмой стояла кровать. – Липа, налей доктору чаю.
– Ах, ну конечно! – Старушка засуетилась. – Надеюсь, Максим Тарасович, вы согласитесь пить из термоса? Не хотелось бы тревожить соседей…
– Что вы, Олимпиада Иванна, зачем вы спрашиваете! Мы с вами всегда пьем из термоса.
– Ах, извините, я забыла. Вот что возраст делает с людьми.
Приятная беседа строилась на несходстве взглядов их на чай из термоса. Олимпиада Ивановна строго судила свой чай, Максим же Тарасыч находил его замечательным.
– Ах, простите, ваша чашка не цела. Позвольте, я налью в другую.
– Что вы, не беспокойтесь, я уже выпил.
За ширмой лежал супруг Олимпиады Ивановны, Петр Александрович Лурье. С ним полгода назад случился апоплексический удар, и Бурденко приходил делать ему массаж и пользовать травами. В целебных травах наш невропатолог считался большим докой, он даже прозвище получил от горожан – Травкин.
Напившись горячего чаю и заалев ушами, Травкин, не слишком мешкая, приступил к больному. Петр Александрович уже несколько оправился от удара: к нему вернулись речь и способность ходить в подкладное судно. Однако один глаз его и вооружение по правому борту почти бездействовали. Правая рука умела лишь устроить погром на тумбочке да с невероятной скоростью отращивать ногти. Тем не менее старик уже пытался вернуться к любимому своему занятию, игре по переписке в шахматы, и снова стал интересоваться вопросами текущей политики.
Надо сказать, Лурье не всегда жили в Мадриде. Лучшие свои годы (этих лет было пять) они прожили в большой квартире, в первой и единственной нашей довоенной пятиэтажке. В тридцатые годы инженер Лурье участвовал в строительстве химзавода, а потом назначен был главным конструктором. Завод начал давать продукцию, и все шло хорошо. Но однажды из леса прямо в цех, со страшным звоном выбив стекло, влетел огромный глухарь и умер. Суеверные рабочие из крестьян сочли это дурным знамением – и оказались правы. Спустя короткое время Петра Александровича забрали в НКВД, это был тридцать девятый год. Арестовали тогда не одного его, а почти все руководство завода, чем безусловно здорово ухудшили производственные показатели. Лурье объявили (надо полагать, из-за фамилии) французским шпионом. Московский следователь смеялся до слез, читая его собственноручное признание в том, что завербовали его господа Золя и Бальзак. Смешливый чекист, однако, держал его двое суток стоймя, добиваясь подробностей, и больше года томил в лубянской камере. Потом все переменилось: пришел Берия и посадил того чекиста, а Лурье, наоборот, со смехом выпустили «по амнистии», хотя его никто и не судил.
Тем временем супруга шпиона Липа на законных основаниях также была подвергнута некоторому гонению. Впрочем, с ней поступили великодушно, приняв во внимание ее беременность. Ее всего лишь переселили из квартиры сюда, в мадридский клоповник, где она вскорости и разрешилась мертвой девочкой. Изо всех тогда арестованных лишь один Лурье вернулся на завод, зато с великой верой в торжество справедливости. Конечно, многие перестали с ним здороваться, конечно, об инженерской должности мечтать ему теперь не приходилось, зато какого монтера получил РМЦ – грамотного и непьющего. На войну Петр Александрович ушел ополченцем, но и там судьба была к нему милостива. Демобилизовавшись после нескольких ранений, он вернулся в цех и с годами дослужился до начальника техбюро, в каковой должности, переработав лишних пять лет, вышел на пенсию. В жизни своей он жалел лишь об одном – о том, что не сумел восстановиться в партии. Но ничто не мешало ему придерживаться твердых партийных взглядов. Однажды, будучи членом международного заочного клуба шахматистов, он отказался играть с датским полицейским. Лурье прочитал в «Известиях» о разгоне в Копенгагене рабочей демонстрации и предпочел шахматное поражение поражению в принципах.
Максим Тарасыч не знал биографии Петра Александровича, но ощущал глубокое благородство, исходившее от старика. Он искренне надеялся поднять его на ноги посредством своих знахарских отваров. К тому же ему нравилось заезжать сюда до начала приема и кушать чай с Олимпиадой Ивановной. Собственные его родители тоже любили беседовать за чаем, но они умерли почти одновременно лет десять тому назад на Украине.
Коммуналка между тем начинала пробуждаться. В комнате стариков чувствовалось, как она будто подергивается, отходя от ночного наркоза. Очнувшись, квартира приступала к исполнению утренней части своей ежедневной симфонии. Партии вступали одна за другой: барабаны торопливых пяток, носовые горны, кастрюльные литавры. Все шло в аккомпанемент несогласному с ранья матерному речитативу.
Максим Тарасыч вздохнул:
– Мне пора…
Он достал из рюкзачка пакетики с травами:
– Вот… Три раза в день. Только не забудьте дать настояться. А это для клизмы.
Совершив церемонию прощания, Бурденко вышел от стариков. Пробираясь к выходу захламленным коридором, он столкнулся с бабой в халате.
– Ой! – заулыбалась баба. – Здрасьте, Максим Тарасыч!
– Здрасьте… Как здоровье? Отвар пьете?
– Отвар-то? М-м… А как же!
– Ну, молодца.
На улице было еще темно. Щорс уже ушел на маршрут, оставив по себе пирамидку остывших яблок да яму в снегу, прорытую терпеливым копытом. Железный его сочлен по профсоюзу встрепенулся, завидев хозяина. Пора было и им продолжить путь.
Наша поликлиника, где принимал Максим Тарасыч, возводилась изначально как общежитие для молодых медиков. Власти замахнулись тогда отгрохать чуть ли не лечебный центр, но средств хватило лишь на это здание с балконами, совсем небольничной архитектуры. Сюда упихнули всех, включая лабораторию кала и мочи, которая никак не могла удержать свои ароматы в пробирках. Бурденко делил кабинет с «ухогорлоносом» по фамилии Ялда, мужчиной довольно грубым. В этом Ялде, вероятно, скрывался садист: он так глубоко засовывал пациентам в рот шпатели, что они давились и выпучивали глаза, а гайморитчиков всех заставлял носом пить соленую воду. В отличие от него Максим Тарасыч был с больными ласков, говорил тихо и пристально засматривал им в лица, словно был не невропатолог, а психиатр. Впрочем, и больными-то многих из них назвать было нельзя. Часто другие специалисты, не найдя «патологии» у очередного ипохондрика, посылали его к Бурденко. Втайне они считали его шарлатаном, но народ любил у него лечиться, и очередь к нему не иссякала. Единственным лекарством, которое он признавал, были травы. Их он сам и его шестеро детей собирали все лето, сушили и раскладывали по пакетикам.
В тот день все шло как обычно. Он принял одну бабушку с трясучкой головы и рук, трех прыщавых пареньков (за справками – куда-то поступать), Варвару Кураеву (благодарила яйцами за прошлое лечение), Гусева-шофера (нога «отымается»). Он принимал, а очередь прибывала.
Гусев-шофер, выйдя из кабинета, на лестнице застал курящим своего приятеля Зайцева.
– Кого я вижу! Здоров, Заяц.
В ответ Заяц мрачно усмехнулся:
– Какой, на хер, здоров – вчерась так прихватило… А ты чего тут делаешь?
– Да вот, к Травкину ходил. Нога у меня.
– Ну и чего он?
– Чего, чего… Травок надавал. Выйду – выкину. Заяц нахмурился:
– Ты это… слышь, Гусь, только здесь не бросай. Он их потом из урны вытаскивает.
– Ладно. Вообще-то он мужик нормальный.
– Я и говорю… А ты попей травки-то – может, помогут.
– Ну их на хер, сама пройдет. Он еще говорит, курить бросай.
– Правильно, ебть! А как бросишь при такой жизни…
Сам Максим Тарасыч не курил и не пил, но не из одних только гигиенических соображений. Шестеро ребятишек – тоже весомая причина для воздержания. Он принимал, если случалось, благодарственные приношения и никогда не отказывался перекусить, бывая на вызовах. Замечали многие, что, приходя в дома, Бурденко не разувается, но мало кто догадывался, что виной тому не бескультурье, а дырявые носки. Как-то в бане, попивая принесенный Травкиным целебный отвар, Сергеев спросил его сочувственно:
– Скажи, Тарасыч, как это тебя угораздило столько детей настрогать?
– Да Бог его знает… – Травкин невольно покосился на свои смуглые чресла, несоразмерные худым ляжкам. – Наверное, порода такая. Нас самих двенадцать детей было, только померли уси в голод. Слыхал, голод на Украине був? Ось и я недомэрок…
– Что это ты по-хохляцки заговорил? Слыхал. Но ты небось лучше бы жил, если б не эта твоя… порода.
– Лучше? – Тарасыч пальцем вынул из глаза слезинку. – Лучше – это как? Считаешь, я неправильно живу?
Сергеев, смутившись, отвел глаза.
– Нет… не то… Извини, я глупость сказал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































