Текст книги "Сергеев и городок"
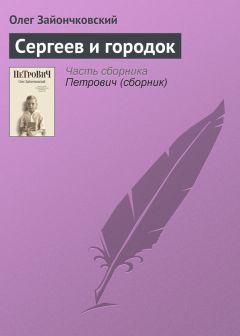
Автор книги: Олег Зайончковский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Не поле перейти…
Хорошо жить в рабочем квартале, под крылом родного завода. Будильника здесь не требуется: встаешь по гудку, а если, к примеру, вечор перебрал – все одно не проспишь. Пятиэтажка панельная в семь утра наполняется такими звуками, так содрогается, что, кажется, и мертвый из гроба встанет. Этот грозный шум означает: встает, подымается рабочий народ – кто к станку, кто к рулю… И не определишь, кто пердит, кто сморкается – все сливается в мощном гуле. Звенят шкафы, ревет в унитазах вода, скорый топот тяжелых пяток заставляет прыгать люстры. За окошком уже слышно: скрип-скрип… потом скрип-скрип-скрип… снежный скрип нарастает и сливается, так что может почудиться, будто сходит с горы лавина или оползень. Посмотришь на улицу – и сердце зайдется в радостном изумлении: как же нас много! Ровным, широким потоком идут рабочие, оставляют за собой густые шлейфы дыма, словно ход им дает паровая машина; инженеры выпрыгивают в толпе, как горбуша, спешащая на нерест…
Хорошо, между прочим, жить в десяти минутах от проходной: и утром не опоздаешь, и в обед успеешь сбегать щец холодных навернуть, и, главное, вечером завсегда до дому дойдешь – в крайнем случае донесут товарищи.
Однако Ване Шишкину эти блага жизни присвоены не были, потому что ездил он на завод аж из деревни Короськово. Пойти на завод надоумила Ваньку мать его Пелагея. Все зудела:
– Ступай, Ванька, в завод работать, ить сопьесси в деревне-то, как отец твой.
Вот простота! Будто в заводе не «сопьесси»… Все талдычила:
– Ступай, Ванька, не то век будешь коровам хвосты заносить. И денех колхоз не плотит… А в заводе из тебя, дурака, человека сделают.
Тут права была Пелагея. Рабочий человек тогда был самый уважаемый: тебе и почет, и заработок, и в Евпаторию бесплатная путевка. Только рабочую закваску… ее с молоком матери всосать надобно – железо не каждому в руки дается, его чувствовать нужно. А сколько знаний требуется: и допуски, и посадки, и в чертежах разбираться! Инженер прибежит, шлепнет бумажный ворох на верстак, а ты мозги ломай… Кроме того, рабочий человек, не в пример крестьянину, чистоплотный: если баба, скажем, в ванне белье замочит или карпа магазинного туда плавать пустит, он сейчас ей втык сделает: «А ну, – скажет, – освобождай немедля – или где я, по-твоему, должен жопу мыть?» Не то что у них в деревне: погадит в огороде и не всякий раз еще лопухом подотрется.
Так что поначалу нелегко пришлось Ваньке в цехе. Работу, конечно, давали ему что попроще: стружку убрать, кирпич перетащить… В колхоз посылали по разнарядке – вот смеху! – к себе же в деревню, как городского; уж он там три нормы делал… Но постепенно Шишкин у нас прижился; народ мы добродушный: отчего же, коли из себя не строишь – живи. К одному его не могли никак приучить – ноги мыть. И так ему намекали, и этак: «До чего ж ты, Ванька, вонючий… Посмотри, у тебя черно между пальцами». А он только улыбался и отвечал: «Мы деревенские, у нас ваннов нету». – «Да ты хоть в душ сходи – рядом же с раздевалкой!» – «Куды… там народу полно», – ежился Ванька. Это он, значит, стеснялся голым в коллективе показаться, а вонять ему стыдно не было… деревня, одно слово. Между тем смердел Шишкин безо всяких шуток – даже не так сам, как почему-то его шкафчик. Вокруг этого шкафчика была мертвая зона, как на химическом полигоне: три справа от него и три слева стояли пустые. Как-то зашел в раздевалку начальник цеха Бубнов Анатолий Иваныч, понюхал воздух и прослезился. А потом как гаркнет:
– Чей шкаф?! Вы что, мать вашу, здесь покойника держите, что ли?
Из-за Ванькиных ног вышла однажды конфузия. Послали его раз в бухгалтерию столы двигать, так одной нервной бухгалтерше плохо сделалось. Больше его в инженерный корпус не командировали… В общем, непросто с ним было: терпеть приходилось и запах его, и невежество деревенское, и, главное, непроходимую крестьянскую тупость.
Но и Ваня терпел немало по милости мамки Пелагеи. Каждый день страдание доставляла ему дорога из Короськова в город и обратно. Особенно зимой: выйдет он затемно – а поле перемело, тропинок нет и вешки все ветром повалило. Таранит Ваня снег брюхом, как кабан, но кабан-то зверь могучий, не сын алкаша деревенского. До большой дороги идти и идти… и вот она уже видна, и видно, как по ней проносятся машины, но пока догребешь до нее, все силы оставишь в проклятом поле. А после надо работать… В цехе дурак, не дурак – работу любому найдут, дураку еще и с верхом прибавят. Первое время Шишкин никак не мог привыкнуть к заводскому шуму: станки воют, болванки грохочут, шланги шипят, инструмент пневматический взвизгивает так неожиданно – в штаны наложишь. А поверху ходит кран, страшный, как поезд, и все норовит крюком тебе голову снести. Поначалу от этого шума Ваня все время засыпал: только присядет, смотришь – у него глаза, как у петуха, снизу пленочкой затягиваются.
Боялся он всего: кара проедет – он отпрыгивает, пресс вздохнет – он вздрагивает. Больше всего почему-то страшил его кран; так, наверное, куропатка опасается всего, что сверху налетает. Но судьба распорядилась ему именно с краном работать. Вообще-то стропить ему не полагалось, на то были обученные стропальному искусству опытные рабочие. Но какой уважающий себя стропальщик станет таскать цеховую байду с мусором – ее и прозвали-то «парашей». Так что нацепили Ване на руку красную повязку, как дружиннику, нахлобучили желтую каску и показали, что надо делать:
– Сюда крюк… сюда крюк… Майна, вира – сообразишь? И туда, на трактор вываливаешь. Да она сама все знает… Фью-у-у-у!!! Зи-инка-а! Заснула, что ли?!. Гляди, вот этот с тобой будет!
На том кончилось учение, началось мучение. Во-первых, Шишкин не умел свистеть, во-вторых, и голоса такого, чтобы цех переорать, не имел. Да он и стеснялся кричать: ему казалось, все на него глазеют, все, кроме противной Зинки. А «параша» между тем полная, и трактор с телегой ждет… Вот встал Ваня на видное место и крикнул:
– Э!
Зинка даже голову не показала.
– Ау!
Ноль внимания.
Мимо проходил Славка Корзинин:
– Ты чего аукаешь – здесь тебе не в лесу.
– Дык вот… мусор надо… – забормотал Шишкин.
– Новенький? Ясно… С ней построже надо – вот смотри: Зи-инка-а!! Пизда ленивая! Кончай спать, давай работать!!
Сей же миг в кабине крана показалась Зинкина голова. Протерев глаза, крановщица деловито посмотрела вниз и, ловко задвигав рычагами, со снайперской точностью опустила над «парашей» малый крюк. Ваня неумело, с помощью Корзинина, накинул «паука» и зацепил им байду.
– Вира! – крикнул он, покосившись на «наставника».
– Чего?! – переспросила Зинка.
– Поднимай, еж твою двадцать!! – заорал Славка и показал рукой.
– А… Поняла! – закивала крановщица и пугнула Ваньку звонком. – Отойди, придурок, зашибу!
Он еле успел отскочить.
– Ладно, давай сам, а то не научишься, – Корзинин хлопнул его по плечу и пошел дальше.
Первую «парашу» Шишкин, конечно, вывалил на себя, но хорошо хоть, что не убился. Потом он немного приспособился, но все равно цеховая наука давалась ему с трудом. Единственное, чему Ваню не пришлось учить, – это пить водку. Правда, и тут он мужиков насмешил, когда они его первый раз с собой взяли… Выпивали рабочие или наскоро в раздевалке, или не спеша «на природе». Этих «рюмочных-распивочных» в городке тогда не было; зачем, когда кругом столько «бугорков», и рощу пионеры насадили, и стадион завод отгрохал… Ну вот, взяли они Ваню с собой на стадион, расположились на трибуне; внизу пацаны мяч гоняют, а мужики культурно после работы выпивают. Ваня от людей не отстает… Закурили… Тут Шишкин всех и огорошил:
– А когда, – говорит, – драться пойдем?
Мужики изумились:
– Ты что, Вань? Тебя обидел кто?
– Нет… Дык выпили же… – отвечает Ваня.
Вот оно что! Видать, у них в Короськове без драки не пьют – экий дикий народ… Мы, понятно, тоже не прочь иногда «помахаться», но с толком и по делу, а это что же – просто выпил и давай?
Но ничего, приучили Шишкина и отдыхать по-людски. Вообще он за год немного обтесался: приоделся, разговорчивей стал, и даже, кажется, меньше стало от него пахнуть… а может, это мы к нему принюхались. Вот только бабы у него не было ни постоянной, ни какой-нибудь. В деревне у них, он рассказывал, доярки все на возрасте, а в городе кто ж ему даст, такому недотепе, – он и сам это понимал. Между тем стали мужики замечать, что заглядывается Ванька на нашу Милку-нормировщицу. Нормировщица – это такая должность, резать рабочим расценки, поэтому будь на Милкином месте хоть с шестым номером, все равно бы ее никто не любил. Мужики, завидя ее, заводили всякие шуточки и всяко над ней насмехались, чтобы она ушла поскорее со своим секундомером. Однако если посмотреть непредвзято, то женщина она была ничего и к тому же, кажется, разведенная. Но почему это Ваня так на нее запал – загадка… Возможно, из-за имени, ведь так в деревне коров называют. Ну а уж коли заметили мужики, что он Милку глазами провожает, пошли шуточки и в его адрес. Частушку пели, хоть и не в рифму она выходила: «Как завижу мою Милку – сердце бьется об ширинку…» Шишкин отмалчивался… Наконец кто-то спросил его, когда она мимо проходила:
– Хороша баба… Стал бы, Вань?
– Чего? – не понял Ванька.
– Ну… Милку трахнул бы?
Шишкин помолчал, постепенно краснея, и ответил:
– Нет.
– Это почему же? – спросивший удивился. – Ведь она тебе нравится.
– Дык… – Ванька замялся, – не дасьть она мне.
Хохот стоял в цехе минут пять.
И все же, видать, случай этот настроил его мысли более определенно в отношении нормировщицы. Люди заметили, что он, превозмогая себя, стал мыться в душе, а в цеху при Милкином появлении краснел и начинал фасонить: однажды даже громко выругался матом, чего раньше с ним не случалось. Но на Милку его заходы, ясно, не действовали, а на мат она обернулась и сказала:
– Свинья!
Так что до кадрежки дело у них не дошло… А может, и было у них какое объяснение, кто знает, потому что однажды Ванька, прогуляв с обеда, напился. Он напился, шлялся по городку, а вечером, встретив Кашлева с Корзининым, добавил с ними еще… Была зима, пурга; Кашлев с Корзининым замерзли и пошли по домам – получать от жен положенный причесан. А Шишкин… Шишкина нашли только через два дня в короськовском поле под снежным сугробом. Из города-то ушел Ванька, а домой не вернулся, такие дела…
История в чем-то и поучительная. Не слюбился парень ни с Милкой, ни, в общем-то, с заводом, ни с городом. И мы его, скажем честно, не особенно полюбили. А все почему? Понудила его неразумная Пелагея идти через это поле… Останься он в своем Короськове – другой бы был и рассказ о нем.
Друзья
Мужская дружба в ее, разумеется, естественном виде – явление столь же распространенное, сколь и непонятное. Каких только странных альянсов не возникает за бутылкой и без нее под влиянием таинственной силы дружеского тяготения.
Вот пример: несколько уже назад отсюда во времени жили-были и работали в одном цеху два слесаря-сборщика – Попов и Савельев. Не бывало, казалось, на свете столь непохожих людей. Попов – мужчина полный, основательный, неторопливый. Савельев – сухощавый, подвижный, характером горячий. Попов имел партбилет и, стараясь понравиться начальству, не пропускал ни одного собрания. Савельев, напротив, с начальством вечно ругался, а пустые заседания терпеть не мог. Он говорил, что его даже в детстве не приняли в пионеры, потому что батя его отдал Богу душу на каком-то канале. Совпадали они только местом работы, профессией да еще возрастом: обоим уже перевалило на шестой десяток, что для русского мужика, притом работяги, считалось немало. Еще их объединяла общая для наших слесарей страстишка к дегустации некоторых спиртосодержащих смесей. Водка в те времена считалась напитком праздничным и скорее дамским, а в ежедневном ходу у трудящихся были заводские бесплатные побочные продукты химического производства. Назывались они по-разному, потому что разными были рецепты их приготовления: «Борис Федорович» («БФ»), «Сучок», «Ветродуй» и так далее. Но суррогаты пили все, а дружили так крепко, как Попов с Савельевым, немногие.
Вкалывали они, конечно, на пару – оба по шестому разряду, оба уважаемые люди. Шестой разряд в сетке для слесарей самый высокий, «старику» просто полагался. Но пока добирались до этой карьерной вершины, друзья, увы, подзабыли многую слесарную премудрость. Чертежи они всегда разбирали с трудом, больше полагаясь на память, а вот ее-то и повыветрило временем и «Ветродуем». Прикинут на глазок, где сверлить и как да что… ан промахнулись! Выходил брак. Начиналось разбирательство: кто напортачил? Попов? Не может быть – он член партии, опора и надежа цехового начальства. И виновным назначали Савельева – вот тебе и КТУ[2]2
КТУ – ежемесячная премия, начисляемая согласно так называемому коэффициенту трудового участия.
[Закрыть], вот тебе и премия… Мастак злорадно скалился: «Один ноль в твою пользу!» – и ставил ему минус ноль один на специальном стенде. Тогда-то Савельев и показывал свой характер: ругался, брызгал слюной и грозился все начальство вывести на чистую воду. Но его никто не боялся, разве что мастер держался временно подальше от его горячих кулаков. А на следующий день Савельев и сам уже не помнил обиды: хлопал мастака дружелюбно по спине и, нацепив очки с резинкой, старательно портил очередное изделие. Хитрован Попов, увиливая от ответственности, подводил базу, объясняя, что оплачивает свою неприкосновенность членскими взносами. Но Савельев и так никогда на него не обижался, потому что на друга обижаться нельзя.
Зато с бабой своей он ругался без устали: Савельевы вели промеж себя почитай уже тридцатилетнюю войну. Додирались они иногда прямо в цеху, потому что работала Райка тут же, кладовщицей в ИРК[3]3
ИРК – инструментальная рабочая кладовая.
[Закрыть]. К их скандалам привыкли, и никто на участке не удивлялся, встретив Райку с густым «бланшем» под глазом. Савельеву бы взять пример с Попова: там в семье царила тишь да гладь, ни драк, ни ревности – полное взаимопонимание. Поповская Валька работала в буфете и приносила в дом не меньше мужа. Все знали, что в интересах дела, особенно по молодости, она давала себя щупать нужным людям, однако никто бы не припомнил, чтобы Попов поднял на нее руку. Впрочем, оба друга баб своих любили и называли их за глаза ласково «наши кастрюли».
Материальное положение в их семьях тоже резко различалось, несмотря на одинаковую зарплату. У Попова имелись мотоцикл с коляской, огород, большой настенный ковер. Савельевы же вроде и суетились: то капусту квасили, то картошку запасали, а все у них были дыры в хозяйстве – вечно до получки занимали. Попов только с виду казался неповоротливым – он всегда знал, где что на заводе лежит не у дела: высмотрит, припрячет да и шасть через забор. И ни разу не попался. А Савельев однажды только хотел ножовку вынести (на свою же рабочую карточку у Райки выпросил!), да поперся с ней через проходную и влип.
Такими они были разными, Попов и Савельев, но их объединяло настоящее таинство мужской дружбы. Не только в аванс или получку, а и в обычные дни часто находился у них повод прогуляться после смены в пионерскую рощу. Друзья завели такую специальную грелку, в которой выносили этот «повод» с завода. Роща начиналась вскоре за заводским забором – ее и высаживали в качестве санитарной зоны между химзаводом и городком. Вечерние косяки работяг процеживались сквозь зеленый фильтр, пьющие оседали, застревали в кустарнике, как рыбешка в китовом усе, и в результате их бесчувственные тела меньше потом засоряли улицы городка.
Наши друзья шли на собственное, давно ими облюбованное укромное место. Распитие грелки требовало сосредоточенности и не терпело посторонних глаз. Все разновидности заводского пойла чрезвычайно трудно усваивались организмом и только при помощи специального набора приемов, выработанного годами тренировки. Молодежь с третьим-четвертым разрядами просто раз за разом блевала, повторяя «заходы», прежде чем «приживется» очередная порция. «Старики» же, выучась искусно управлять своими внутренностями, могли даже обходиться почти без закуски, пользуясь разве что березовым побегом или сорванным здесь же в роще листиком щавеля. Пили Попов с Савельевым из «дежурного» стакана, который с собой не уносили, а оставляли в роще, вешая вверх дном на древесный сучок. Зимой и летом стакан неизменно встречал товарищей на привычном месте, вызывая у них приятное ощущение устойчивости бытия. В часы неторопливых попоек лишь этот рыжий стакан, давно утративший былую прозрачность, составлял им испытанное общество. А на полянах гомонили шумные компании: заводчане приходили в рощу порой целыми бригадами и оскверняли вечер производственными разборками, переходившими иногда в рукопашную. Часто и наших друзей зазывали на лихие сборища, но они отказывались: им уже милей были покой и тихая беседа. О чем? О жизни: о бабах, о детях, о старости и о многом таком, что можно доверить только рыжему стакану… Они разговаривали так тихо, что, наткнувшись в сумерках, их можно было принять за два шелестящих дерева, и однажды, собственно, так и случилось…
Шла как-то вечерней рощей собирательница Любка (по фамилии то ли Лапутина, то ли Лазутина). В одной руке несла Любка авоську, а в другой – палку. Палкой она, что-то ища, шерудила в траве, а найденное складывала в авоську. Искала она, конечно, не грибы, не ягоды, а пустые бутылки – это и был ее промысел. Шла Любка, тыкая своей палкой, как слепая, и надвигалась прямо на Попова с Савельевым, которые, замолчав, с любопытством за ней наблюдали. Вдруг вместо дерева палка стукнула по мужской ноге.
– Ай! – вскрикнула Любка, отпрянув.
– Чего орешь? – строго спросил Попов.
– Очинно испугалась… – Баба смущенно улыбнулась, показав немногочисленные зубы.
– Не бось, не укусим.
Любка уже оправилась. Чуток постояв, она сказала:
– Здрасьте…
– Здорово, здорово.
Она еще помолчала, затем поинтересовалась:
– Мужчины, у вас «пушнины» нету?
– Чего?.. Нету. Видишь, из грелки пьем.
Но баба не уходила, а продолжала застенчиво переминаться. Наконец она отважилась:
– Ребята, а я вас знаю…
– Ну и что? – равнодушно отозвался Попов.
– Любка я… И жену твою знаю…
– Ну и хуй с тобой.
Она боролась с застенчивостью:
– Вы мне это… двадцать капель не плеснете?
Друзья переглянулись:
– Из нашего стакана? Иди ты…
– Зачем из вашего, – заторопилась Любка, – у меня свой есть.
Они переглянулись опять.
– Ну что, плеснем ей? – предложил Савельев.
– Ладно, давай… – согласился Попов. – Только, ты слышь, у нас заводской, – предупредил он бабу.
– А мне ништяк! – просияла она. – Спасибо, мальчики!
В другой раз они бы ее отшили, но тут дали слабину: видно, были уже «втертые». Любке налили, потом еще, и завели с ней снисходительный разговор.
– И как же дошла ты до такой жизни? – спросил ее Савельев.
– До какой? – не поняла Любка.
– До такой… Бутылки собираешь… и зубов вон у тебя не осталось.
Она замигала глазами, хрюкнула носом да и заплакала:
– Ы-ы-ы… Много я горя видела…
– Какого еще горя? Небось все по этому делу… – Попов, усмехнувшись, щелкнул себя по горлу.
– Ох, не знаете вы жисть мою… ы-ы… – скулила она, размазывая слезы.
Друзья выпили еще по полстакана, отдышались, помолчали. А баба все не унималась.
– Экая слезливая попалась… – Попов задумчиво посмотрел на Любку. – Что с ней делать?.. Слышь, Савельев, вроде не старая еще… Может, отдерем – что ей за так наливали?
При слове «отдерем» Любка перешла на вой и в страхе поползла прочь.
– Эй, дура, ты куда? – удивились они.
– Чего я вам сделала? – заголосила баба. – Я вам что, не даю? Ебите, если хотите, а драть-то зачем?
– Э-э, да ты и правда дура! – засмеялись мужики. – Мы ж про то и говорим! Ползи обратно…
Алкоголь и потемки – лучшие гримеры: что-то они такое сделали с собирательницей бутылок, что даже Попов с Савельевым соблазнились на грех. Разложив безотказную Любку, они ласкали ее одновременно и каждый по-своему. В то время пока практичный Попов, задрав несвежий подол, направился прямиком в ее грешные недра, Савельев – кто б мог представить – целовал ее в беззубые уста!
Долго ли, коротко совершалась их оргия, но наконец угасла. Как угас и день – роща погрузилась во мрак. Попов, пошатнувшись, встал с лесной подстилки, помочился и бережно спрятал свое «хозяйство». Сделав дело, он склонился, вглядываясь в лежащие тела… Савельев с Любкой спали, обнявшись, будто юная пара, утомленная любовью где-нибудь на цветочном лугу. Попов хотел разбудить друга, но передумал; усмехнувшись, он отнял руку и выпрямился. Он постоял в задумчивости, потом вздохнул и побрел один, ощупью находя в темноте дорогу.
Савельев очнулся на рассвете; тело его свело от холода и сырости. Он с трудом сел и огляделся. Любки не было; рядом с ним валялись только рыжий стакан в росе и пустая грелка. Савельев нарочно задрожал, пытаясь согреться, и задвигал плечами. Из-за кустов неожиданно выбежала собака, гавкнула и скрылась. Он еще немного посидел и попробовал встать; голова его закружилась, и Савельеву пришлось прислониться к дереву. Стоя так, он увидел сквозь ветки медленно бредущую по роще женскую фигуру; вглядываясь в траву, женщина что-то искала…
– Люб!.. – хрипло позвал Савельев.
Женщина услышала и пошла на голос. Когда она приблизилась, он понял свою ошибку: это была не Любка, а его жена Райка.
– Ты чего тут делаешь? – спросил он, протирая глаза. Она ответила не сразу, а сделала паузу, глядя сурово в упор на перепачканного супруга.
– А ты как думаешь? – молвила она мрачно.
Райка еще постояла, потом круто повернулась и пошла прочь. Савельев отлепился от дерева и нетвердым еще шагом стал ее догонять. Они шли домой в молчании, хлюпая промокшей от росы обувью.
– Рая! – вдруг подал голос Савельев.
Она обернулась:
– Ну чего тебе?
– Ничего…
Он не стал говорить, а про себя решил, что больше никогда не будет с ней драться.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































