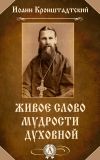Автор книги: Ольга Жукова
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Искусство как духовно-философская рефлексия. Импульс развития, приданный русским авангардом культуре XX века, нашел выражение и в творческих судьбах художников, чей мировоззренческий стиль тяготел к духовно-интеллектуальному типу классической культуры. Глубинная установка творческого мышления, проявляющая себя в опыте искусства как форме философской рефлексии, связывает авторов советской культуры и русской эмиграции с линией русской классики, с большим временем европейской и, шире, мировой культурной традиции.
Философская концепция культуры, с характерным масштабом осмысления феномена творчества, искусства, человека, имеет свои отличительные свойства. К характеристикам данного типа культурного самосознания можно отнести следующие установки:
– классический набор тем и сюжетов;
– событием творчества является художественное произведение, сохраняющее структурно-содержательные принципы, сложившиеся в европейской традиции;
– творчество самоопределяется в ценностно-смысловой сфере культуры, содержащей в себе архив исторической памяти;
– творчество воплощает универсалии культурно-интеллектуальной деятельности, вбирая в себя философскую проблематику традиционных для классического типа культуры вопросов, таких как художник и время, традиции и новаторство, время и вечность, вера и разум, жизнь и смерть, добро и зло…
Воплощение духовно-философской концепции жизни в истории русской культуры XX века, связывающей ее с религиозным толкование смысла творчества, можно видеть на примере творческих биографий Бориса Леонидовича Пастернака (1890 –1960) и Михаила Афанасьевича Булгакова (18 91–19 4 0). В эпоху политического официоза литература, тяготеющая к этико-философской проблематике русской культуры, стала значимым звеном самообоснования и развития традиции. Пастернак и Булгаков привнесли в литературу свой опыт преодоления катастрофы, постигшей Россию. Если понимание творческого пути в истории и культуре предстает в произведениях Пастернака как экзистенциальное событие жизни, то Булгаков превращает свой опыт жизни в культуре в метафору судьбы художника.
Воспитанный в атмосфере творческих поисков Серебряного века, выросший в семье известного художника, Пастернак получил прекрасное образование. До конца жизни он сохранил любовь и привязанность к философии, музыке, изобразительному искусству. Уже первые поэтические опыты свидетельствовали о метафизической направленности таланта художника. Существовала глубинная связь между психическим складом его личности и характером его стихов. Метафорическая насыщенность пастернаковских стихов как бы отражала метафизическую цельность природы, искусства и человека, сближая авторскую интуицию с интуициями символизма и авангарда о единстве универсума, о взаимосвязи идеального и материального мира. В образном строе его поэтических творений лес мог быть уподоблен органу, дождь – художнику и поэту, улицы – волнам, гражданская война – поездному составу, одиночество – холодному и манерному рококо. В мироощущении поэта различные элементы – природные, бытовые, исторические, культурные, психологические – переплавлялись и синтезировались как сопричастные бытию творческой личности. Подобной экзистенциально-личностной переплавке подверглось и время.
Мгновение у Пастернака фиксируется с помощью образов, принадлежащих вечному времени культуры и памяти человека. Субъективное впечатление переводится в план интерсубъективных духовно-культурных ценностей. Такая диалектика интериоризации-экстериоризации личностного опыта определит не только творческую психологию поэта, но и сформирует образ лирического героя, проживающего свою судьбу во времени культуры и истории. «Вертикальный» личностный вектор вхождения в историческую «горизонталь» культурного предания создаст особое поле напряжения – персонально-трагедийный тон его творчества, подчеркивая уникальность пути в преодолении «материала» истории. Лирический герой Пастернака персонифицирован авторским голосом, а в его судьбе прочитывается судьба самого поэта.
Название поэтического сборника «Сестра моя – жизнь» может восприниматься как метафора судьбы самого Пастернака. Связанный с жизнью «кровными» узами, поэт восхищается красотой природы – часто эмоционально-стихийная общность с явлениями окружающего природного мира служит для выражения психологического состояния героя. Своеобразные природные и эмоциональные «созвучия» подчеркивают непосредственность восприятия реальности с характерным для поэта ощущением жизни как бесконечно развивающегося речного потока. Переживание чистоты и первозданности бытия связывается с представлениями о нравственной чистоте и целомудренности человеческих отношений, в которых формируется понимание единства законов мироздания и нравственных законов человеческой жизни, что станет главной темой зрелого периода творчества Б. Л. Пастернака.
Центральным творческим событием для самого художника стал роман «Доктор Живаго», который, разрешив все мучения и сомнения Пастернака, явился обретением новой жизненной правды. Автор говорил о том, что роман дал ему возможность все распутать, дать всему определения, избавившись от мучений и недоумений, и утвердить большое горячее чувство, дух творчества, вернув в литературу проблему жизни и смерти как главную тему жизни человека. Поэтому роман судьбы может быть назван романом о бессмертии человека в цельности его душевно-духовной жизни. Повествование о судьбе героев, живущих в конкретную историческую эпоху, перерастает, в первую очередь для самого автора, в поэму Воскресения, превращаясь в обосновывающий жизнь и оправдывающий ее текст – в литературное Евангелие, в философскую книгу Бытия.
Пастернак подчеркивал христианскую проблематику своего произведения, ставя акцент на вопросах нравственных. Этой книгой художник давал ответ современности, утверждавшей насилие, ложь, духовную нищету и приспособленчество, выражая протест личности против омертвляющей философии фарисейства. Подлинная реальность жизни, по Пастернаку, таинственна и малоизвестна – она есть Чудо. Гамлетовский вопрос для каждого человека неизбежен и разрешается мужественным сопротивлением неправде жизни. Философская коллизия романа – победа над смертью «усильем воскресенья» – составляет внутреннюю драму и самого художника, с его идеалом творчества как чудотворства. «Я не говорю, что роман нечто яркое, что он талантлив, что он удачен. Но это – переворот, это – принятие решения, это было желание начать договаривать все до конца и оценивать жизнь в духе былой безусловности, на ее широчайших основаниях. Если прежде меня привлекали разностопные ямбические размеры, то роман я стал, хотя бы в намерении, писать в размере мировом. И – о, счастье, путь назад был раз навсегда отрезан», – признается в письме к Вяч. Иванову Борис Пастернак[258]258
Пастернак Б. Л. Биография в письмах. М.: Арт-Флекс, 2000. С. 314–315.
[Закрыть].
Твердая решимость писателя утверждаться правдою воскресила к жизни дух русской литературы со специфической для нее задачей нравственного служения и стояния в истине ценой собственной жизни. В ситуации идеологической травли, когда у Церкви не осталось амвона, а у культуры была отнята университетская кафедра, сама возможность творчества оправдывалась только нравственным масштабом личности: «…Все чаще раздаются голоса самых близких родных и самых проверенных друзей, которые видят упадок, утерю мной самого себя и уход в ординарность в моих интересах последнего времени и давшейся мне так нелегко моей нынешней простоты. Что же, не горе и это. Если есть где-то страданье, отчего не пострадать моему искусству и мне вместе с ним? Может быть, друзья мои правы, а может быть, и не правы. Может и очень может быть, я прошел только немного дальше по пути их собственных судеб в уважении к человеческому страданью и готовности разделить его… Я говорю о самом артистическом в артисте, о жертве, без которой искусство не нужно и скандально-нелепо…»[259]259
Там же. С. 348.
[Закрыть].
Возвращая смысл жертвенного служения в культуру, которая, изгнав церковное предание, изгнала и мировую историю, художник восстанавил линию преемственности памяти традиции, проживая трагические страницы своего романа как духовные события биографии, и, тем самым, придал религиозный смысл своему пути в искусстве, вернув художественному творчеству духовный горизонт подлинной культуры, противостоящей культуре официальной.
В условиях господства крепнущей идеологии социалистического реализма, активной разработки его эстетической платформы и утверждения нормативно стилевых признаков, произведения М. А. Булгакова потребовали от читателя особой способности – сотворчества воображения. Появление в середине 1920-х гг. первого значительного произведения Булгакова романа «Белая гвардия» – сравнивали с литературным дебютом Достоевского и Толстого. За графическими линиями булгаковской прозы открывался мир идей – реальности, которая созидается искусством и творческим воображением. Но умение визуализировать образы и события – всего лишь первая ступень работы понимающего сознания. Булгаковские тексты требуют, в первую очередь, сотворчества мысли, опирающейся на духовный опыт читателя, поскольку слово в авторской трактовке предполагает переход от физического бытия к метафизическому. Слово значимо в контексте второй реальности – реальности образов. Двойственность художественного мира, освещение одного плана события с точки зрения иного, имеющего, как правило, инфернальную природу, столкновение разновременных и многопространственных миров становится ведущим художественным принципом Булгакова и получает гениальное воплощение в романе «Мастер и Маргарита».
Булгаков называл себя «мистическим писателем». Но его мистику нельзя назвать ортодоксально церковной или оккультной. Для писателя мистическая оптика есть особый «орган зрения»: это умение видеть многоплановость, многомерность жизни, обнаруживая вечное во временном, возвышенное в обыденном, невидимое в видимом. Для Булгакова не существует однолинейная, одноцветная, монологическая правда о человеке. Социальный фон как знак современности всегда присутствует в произведениях писателя, выступая в качестве портрета самой культуры.
Чутко улавливая идеологическую тональность эпохи, анализируя ее события и тенденции, писатель приходит к выводу, что становление одной идеи, истребляющей другие, в общественном бытии равносильно культурному самоубийству. Нравственное чувство писателя выступает внутренней мерой ответственности за происходящее в стране. Но невозможность вести прямой диалог с читателем приводит его к созданию произведений, говорящих языком философской притчи. Моделируя обстоятельства сюжета, Булгаков заставляет своих героев вступать в отношения, через которые современность не просто самопрезентируется, но и саморазоблачается. В этом смысле «Собачье сердце» – притча об опасности научного эксперимента с человеческим сознанием, указывающая на причины и культурные результаты русской революции; «Мастер и Маргарита» – романизированная притча, развернутая в рассказ о любви, вере, добре и зле, Боге и дьяволе, человеке и истории, художнике и его творении. Его творчество посвящено темам общечеловеческого культурного предания, которые были изъяты, «экспроприированы» из опыта нового социума.
«Мастер и Маргарита», как итоговое произведение, обобщает все главные темы творчества М. А. Булгакова. Мир романа соткан из образов – культурных архетипов. При этом узнать их могут только люди, помнящие историю и живущие правдой сердца. Искусство в этом опыте является той силой, которая удерживает человека в вечности, дает ему бессмертие, поскольку говорит о вечных значениях человеческой жизни. «Рукописи не горят», – формула бессмертия искусства и личного бессмертия художника, которая стала для Булгакова новым исповеданием веры – веры в созидающую силу добра, которому приходится вступать в соглашение со злом, чтобы таким парадоксальным образом обнаружить свое присутствие в мире человека. «Отнюдь не строгий христианин, пишет исследователь творчества Булгакова В. Я. Лакшин, – автор дорожит содержанием заповедей христианства, усвоенных европейской гуманистической культурой. Более того, он не видит в сфере нравственного чего-либо, что можно было противопоставить безусловной вере в добро. В разгар богоборчества, прследования священников и разрушения храмов по проторам русской земли Булгаков пытается предложить свою художественно-научную версию жизни Христа, свое, “пятое Евангелие”, адресованное отвернувшемуся от церковности, атеистическому миру»[260]260
Лакшин В. Я. Мир Михаила Булгакова // Булгаков М. А. Собрание сочинений: в 5 т. М.: Художественная литература, 1989. Т. 1. С. 59–60.
[Закрыть]. Искусство в этой системе координат становится трансцендентной целью жизни, выступая как условие спасения и оправдания личности в истории и, в конечном итоге, во времени вечности, ибо надежда на милость и прощение Богом, скрытая, даже похороненная во фразе о писателе, заслужившем только покой, все же остается.
Как спасением для Мастера стал его роман о ершалаимском проповеднике Ешуа Га-Ноцри, так и единственным спасением для Михаила Булгакова стало его творчество, развернутое в притчу о художнике, искусстве и бессмертии творческого духа. Оно обращено не только к читателю – человеку высокой книжной культуры, в чем творческом понимающем сознании видит мастер Булгаков залог своего бессмертия, но и к Спасителю. В этом парадоксальном опыте сочинения апокрифического Евангелия, где литература вынуждено берет на себя функции изгнанного из культуры Св. Писания, присутствует трансцендентный смысл творчества как спасения и оправдания, который наследуется не в живом опыте церковного предания, но в исторически опосредствующей его русской литературе с ее устойчивым архетипом взаимодействия и смысловой обусловленности религиозного и художественного опыта.
Если в литературе и искусстве XX века духовная преемственность стала возможна на уровне этического самосознания художника, его экзистенциального прорыва в интерсубъективный горизонт духовных ценностей культуры, то в новом искусстве кино оказался востребованным и научный, и эстетический потенциал русской культуры.
Авторство экранного слова и образа. С изобретением кинематографа появилась новая художественная реальность со специфическим способом изложения и организацией материала. Вопрос о природе киноискусства продолжает оставаться дискуссионным как с точки зрения эстетических принципов, так и технологии. Появление кино стало знаком рождения новой культурной реальности, связанной с иным типом аудиовизуальных систем общения, новым принципом культурной коммуникации. Возможности кино как искусства были освоены русской-советской культурой на основе своей художественно-эстетической и духовно-нравственной традиции. Отметим, что кино возникает как совершенно новый тип художественной наррации и новый художественный дискурс XX века. Кинематограф – ожидаемое и востребованное культурным сознанием современника искусство. Можно выделить несколько важнейших тенденций XX века, в фокусе пересечений которых и возникло искусство кино как новый культурный феномен.
Первая связана с техническим перевооружением современной цивилизации, с достижениями научно-технической революции – новым типом отношений между фундаментальной наукой и прикладным знанием. Мощное развитие техники и интеграция ее в реальное производство знаменовало собой рост индустриальной цивилизации.
Вторая характеризуется появлением нового типа технологий как способа организации знания и производства – совершенно иным уровнем мышления, которое подготавливает рывок современности в постиндустриальную цивилизацию.
Третья характеризует социокультурные изменения в рамках изменения цивилизационных парадигм и связана с развитие новых систем коммуникации, иного принципа функционирования информации как продукта культурной деятельности и духовно-интеллектуального творчества человека.
Четвертая реализует собственно художественно-эстетические поиски культуры XX века, которая пытается создать новый художественный язык, способный выразить мировоззрение и смысложизненные вопросы человека современной эпохи.
Пятая относится непосредственно к ситуации, возникающей внутри нового искусства, и связано с процессом рефлексии, с проблемой самопонимания кино как новой музы XX века, с философией экранного образа, его духовными горизонтами, художественно-эстетическими возможностями кинематографа.
И, наконец, следует выделить, ранее отмеченную нами, теоретическую составляющую культурных процессов XX века, которая связана с появлением фундаментальных философско-культурологических идей и теорий – эпистемологической базы гуманитарного знания. В своем отборе методологических подходов и инструментария для анализа сложных культурных систем, объектов, феноменов теория киноискусства становится одной из лабораторных площадок гуманитарного знания – важным направлением гуманитарной науки, опирающейся на достижения психологии, лингвистики, социологии, культурологии, семиотики, герменевтики. Она позиционирует себя как междисциплинарная область знания и выражает отмеченную нами тенденцию превращения искусства в своеобразную форму философской рефлексии.
Основная проблематика киноискусства лежит в плоскости определения организации художественной реальности, которая перестает быть простой фиксацией движения, превращаясь в произведение смысла, т. е. художественное произведение. Подобное отмечал и Ю. Тынянов, рассматривая движение в кино как некоторый смысловой знак. Звукозрительное отражение мира в кинематографе преобразуется в смысловое произведение – в целое, называемое фильмом. Путь к фильму – огромная творческая работа всей истории искусства – умозрительная и экспериментально-технологическая.
С момента своего возникновения кинематограф стал комментатором новой эпохи: современность нашла адекватный способ самовыражения, который соединил в себе уровень развития цивилизации и духовный поиск культуры. Кино как бы фиксировало современность и, одновременно, проектировала ее. Вопрос онтологических оснований киноискусства был сформулирован уже на раннем этапе его существования, связав проблему общих принципов искусства как такового с природой человеческого мышления. История российского кино представляет собой поиск и обоснование формы и содержания нового искусства, интегрируя теорию и практику, эстетику и технологию в творческом опыте кинематографических гениев советской эпохи.
Так, С. М. Эйзенштейн обнаруживает взаимосвязь между закономерностями построения формы и композиции и «ходом внутреннего мышления». Между внутренним и внешним, между материалом и формой Эйзенштейн пытается найти аналоговые структуры. Здесь самым «естественным» и одновременно самым «культурным» материалом оказывается история, а методом ее осмысления в рамках актуальных вопросов современности – кинематограф. Тем самым новое искусство включается в процесс самообоснования культурной традиции. Не случайно в этом смысле превращения кинопроизведений советской эпохи в самостоятельное историческое предание, обладающее аргументированной достоверностью художественного образа, который, подчас, становится более «правдивым», чем его исторический прототип. Кинематограф прочно вписан в социальную мифологию советской эпохи, что не отменяет его открытий и художественных достижений. Теоретические истоки можно видеть в концепции кинематографа С. Эйзенштейна, который сводит новое искусство к трем главным критериям. Кино – это:
– массовое искусство, самое демократическое в иерархии искусств;
– социально направленное, востребованное временем, организующее культурное общение, предлагающее анализ современности и несущее определенную идеологическую нагрузку;
– модель научно-технического уровня развития эпохи, выражающая ее интеллектуальный потенциал.
Таким образом, определяется центральная проблема киноискусства, которая концентрирует научно-творческую мысль С. М. Эйзенштейна и многих выдающихся мастеров XX века. Эта проблема, по определению К. Э. Разлогова, «трансформации звукозрительного материала при его включении в произведение, т. е. – проблема структурирования реальности на экране»[261]261
Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана: Сб. статей / Отв. ред. К. Э. Разлогов. М., 1984. С. 11.
[Закрыть]. Переводя технологическую задачу трансформации звукозрительного материала в эстетическую, результирующей целостностью которой является художественное произведение, искусство кино в XX веке открывает образ как идеальный объект теории.
Кино заново воссоздает в новых смысловых координатах время и пространство, предметную среду, реалии культурной истории через специфические звуковой и зрительный ряды. Способ связи действий, явлений, предметов подчиняется особой логике – ассоциаций, образных параллелей и сопоставлений. Последовательное описание дополнятеся конструированием реальности. Кинематограф открывает новый конструктивно-логический принцип организации материала – монтаж, в рамках которого конструктивно-символические и изобразительные принципы других искусств приобретают дополнительный смысл. В толковании С. Эйзенштейна монтаж предстает как художественно-технический аналог образного мышления, что соответствует его пониманию визуальной природы киноискусства. Кинореальность структурируется кадрами и композиционными ходами. От идеи монтажа как «сборки элементов» он приходит к идее синтеза, к обобщающей теме – образу.
Определение, данное Эйзенштейном, способствовало более точному пониманию универсальной природы кино. Для киноискусства, органически связанного с классическими видами художественной деятельности по общим морфологическим и грамматическим признакам, образ конституирован в способе мышления. Это одна из центральных исследовательских проблем. Открытие монтажного метода в рамках киноискусства стало характерным методом мышления искусства XX века в целом. Технический прием приобрел статус понятия. Дальнейшие теоретические изыскания в области теории и философии кино были связаны с проблемой киноизображения, концепции языка кино, трактовки таких эстетических категорий, как символ, образ, знак, речь, повествование, высказывание. Экранный образ как идеальный объект теории и изображения выполнил «интегральную» интеллектуально-художественную функцию в развитии кинематографа. Настоящая тенденция получила наиболее четкую концептуальную разработку в авторском кино, примером чего является творчество Андрея Арсеньевича Тарковского (1932–1986).
«Кинематограф Тарковского» – сегодня уже философско-культурологический концепт. Творческий опыт режиссера показателен в отношении поставленной нами проблемы наследования культурной традиции в рамках новых коммуникативных систем. Являясь одной из признанных вершин авторского кино, искусство Тарковского воплощает интеллектуально-духовную кульминацию российского кинематографа, составляя очевидный этический параллелизм с центральными темами русской культуры. Творчество Тарковского демонстрирует путь понимания культуры как опыта традиции в экзистенциальной актуализации духовных смыслов бытия. Автор «режиссирует» от начала до конца весь процесс создания фильма, подчиняя своей художественной воле все этапы его производства от сценария до монтажной склейки, от работы с актерами до мельчайшей детализации натурных и павильонных съемок, от звукового наполнения кадра до его визуального воплощения.
Фильмы режиссера сразу становились экранной классикой, хотя первые впечатления у зрителей, как правило, сопровождались шоком. Тарковский привнес в кинематограф новый принцип работы с материалом, воспроизводя действительность художественными средствами, почерпнутыми из разных художественно-языковых систем: живописи, литературы, музыки, поэзии, архитектуры, театральной драматургии. Он создал целостную визуально-пластическую реальность, которая по способу изложения материала и развития идеи-образа приближается к структуре философского текста, выполняя функцию художественно-философской рефлексии. Тарковский стремился до предела обнажить некую правду – истину, поисками которой обременены герои. Сводя до минимума фабульное, сюжетное, повествовательное начало, событийно-концептуальной основой своих произведений он делает духовно-нравственную коллизию героя, его внутреннюю историю. Экранное время становится экзистенциальным временем жизни героя, совершающего моральный выбор. Не случайно, размышляя о природе кинообраза, Тарковский подчеркивал, что образ в кино строится на умении выдать за наблюдение свое ощущение объекта, тем самым фокус зрительского восприятия совпадает с восприятием происходящего самого героя. Это позволило режиссеру максимально приблизить мир «по ту сторону» экрана к миру зрителя, превратив пассивного потребителя визуальной продукции в сопереживающего участника разворачивающихся на экране событий, сделать его если не соавтором, то «включенным» собеседником, не застрахованным от мучительных вопросов, заставляющих работать нравственное сознание, у которого нет готовых ответов.
Определяя внешнее через внутреннее, режиссер предельно субъективирует образ времени, делая акцент на переживании душевных терзаний. В его картинах предметно-событийный ряд выстраивается как проекция внутреннего мира: экранный образ излучается духовной энергией героев. Драма исторического времени, в котором находят себя герои, призвана выразить мироощущение автора-режиссера. Эта нравственная позиция, по своей природе максималистская, стала для Тарковского единственной формой существования в реальном времени истории и культуры. Она оправдывала саму возможность творчества в атмосфере, далекой от духа и смысла русской культуры, от той степени свободы, которую творчество могло бы дать художнику, наследующему опыт мировой культурной истории.
В стремлении выразить внутренний мир героя Тарковский выстраивает кинематографическое время-пространство как глубоко личностный опыт ощущений. Потому событийный ряд течет неравномерно, фрагментарно, бессюжетно или подчиняется внутренней логике ассоциативных связей. Ассоциативные ряды играют важную роль в создании целого: каждый мотив завершен и получает свою исчерпывающую «сюжетную» трактовку. Визуально-пластические образы семантически нагружаются, образуя единое смысловое пространство. Каждый мотив «проживает» в фильме свою судьбу и воспринимается как развернутая во времени метафора. В качестве последней могут выступать образы предметов, пейзажа, действия, идеи. Таков, например, акт самосожжения и, следом, несение свечи как символа духовного горения героя, его нравственного выбора в «Ностальгии»; образ дерева, которое завещает маленькому сыну Александр в «Жертвоприношении», указывая на путь духовного делания. В позднем творчестве метафорическая многозначность, семантическая нагруженность кинематографического языка сохраняется, однако, авторская речь звучит более лаконично. Метафора из художественно-поэтического средства становится жанровой формулой. Сам фильм начинает восприниматься как развернутая метафора – притча, в которой отчетливо слышна авторская интонация проповеди и завещания.
Для Тарковского кино, технически громоздкое и сложное искусство, стало инструментом поэтического воссоздания мира с характерным для поэзии единством словесного и образного ряда, идущего от органики человеческой мысли и речи. Литературно-повествовательное и живописно-изобразительное начало в кинопроизведениях Тарковского, в авторском высказывании приобретают значение слова-образа, обладающего онтологической и аксиологической перспективой. Слово-образ требует иного зрителя, способного и стремящегося совершить интеллектуальное, в конечной цели духовно-нравственное усилие, в сопереживании героям обретающего некое изменение своего духовного мира – катарсис, или трансцензус, очищающий и преображающий ум в духе. Преодолевая сопротивление кинематографического материала, автор создал глубоко органический мир – высокопоэтический синтез мысли и образа, поставив искусство кино на высоту нравственной проповеди и философско-художественного постижения мира человека. В рамках новой художественной реальности кинематографа, новых условиях художественной коммуникации он продолжил и развил классические темы русской культуры – нравственной ответственности человека и художника за судьбу поколения, за судьбу мировой культуры, отстаивающей человеческое в человеке. Творческая одаренность для самого Тарковского оправдывается нравственным масштабом личности, а события биографии выстраиваются в провиденциальную линию пути-судьбы художника в истории культуры.
Рассматривая в данном ключе тенденции развития художественной культуры России в XX веке, мы сталкиваемся с проблемой отношения к традиции. Настоящим противоречием является, с одной стороны, задача наследования, обеспечивающая непрерывную трансляцию социального и духовного опыта, с другой – преодоления традиционализма, поскольку в понятие творчества вложены открытие и новация. Радикальным вариантом преодоления инерции художественного мышления стал опыт авангарда с его онтологией арт-мифа, сакрализующей образ автора-творца. Социальная версия русского футуризма как свое-иное оформилась в стилистическую и эстетическую доктрину социалистического реализма с его традиционалистским комплексом официальной культуры в новой исторической целостности свершившегося для авангарда будущего. Другая линия была связана с наследованием комплекса эстетических и этических ценностей русской культуры, мотивируемых идеей жертвенного служения творчеством, религиозной по смыслу. Может сложиться впечатление, что различными путями русская художественная культура в XX веке заново перерешала свое исходное начало, положенное как историческое основание традиции. Но тем весомее в исследовательской перспективе «текст» минувшего столетия, что он открывает подлинную драму культуры, где столкнулись две позиции в понимании феномена творчества, по-разному определяющие меру свободы личности как творческого актора.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?