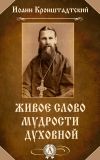Автор книги: Ольга Жукова
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Вторым условием для полноценного исторического анализа, по методологии Грановского, является почва. Интеллектуальной почвой для поколения Станкевича были гегельянские кружки. Они развивались, по определению исследователя русской философии В. В. Зеньковского, в рамках внецерковного эстетического гуманизма. Это направление в 30–40-е годы XIX века «приобретает новую творческую силу, обнаруживает бесспорную живучесть, как основной принцип русского секуляризма»[357]357
Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. С. 41.
[Закрыть]. Как отмечает Зеньковский, «у многих представителей этого течения мы встречаем подлинную и глубокую личную религиозность, которая кое у кого сохраняется на всю жизнь, – но это не мешает им вдохновляться началами автономизма, развивать свои построения в духе секуляризма. В этом смысле не случайно, что почти все защитники секуляризма оказываются в то же время “западниками”, – т. е. открыто и прямо примыкают к западной секулярной культуре и стремятся связать пути русской мысли с проблемами Запада»[358]358
Там же. С. 41.
[Закрыть].
Зеньковский указывает также на другую характерную черту этого направления, связывая ее с социально политическим радикализмом. В нем «по-новому воскресает и своеобразно углубляется “теургическое беспокойство” – чувство ответственности за историю и искание путей к активному вмешательству в ход истории»[359]359
Там же.
[Закрыть]. По мнению о. Василия Зеньковского, отмеченные черты «образуют идеологию русской внецерковно мыслящей интеллигенции, замыкающейся, по верному выражению одного писателя, в своеобразный “орден” – с прочной традицией в путях мышления, с своеобразной психологией секты – фанатической и нетерпимой»[360]360
Там же.
[Закрыть]. С таким выводом Зеньковского можно согласиться лишь отчасти. Если Белинский или Бакунин действительно по своим личностным характеристикам могут соответствовать социально-психологическим чертам сектантского поведения, то яркий представитель этого течения Станкевич, чьи воззрения Зеньковский пытается реконструировать, под определение «философского ордена» с психологией «нетерпимых фанатиков» никак не подходят.
Тезис о том, что русский секуляризм рос на почве европейского гуманизма и просвещения, кажется бесспорным. Но здесь требуется объективная оценка социокультурных результатов русской секуляризации по европейскому образцу – этой линии просвещенного русского европеизма, ярким представителем которого был Станкевич. Очевидно, что в социальной истории России европеизм в своих научных, образовательных, художественных и интеллектуально-философских формах оказался исключительно значимым и плодотворным, став культурной почвой и предпосылкой модернизации российской политической системы. Это право философской критики своей собственной исторической и культурной традиции русское общество приобретало долго и трудно. Процесс трансформации политической системы и социального порядка был чрезвычайно драматичным. Период умственного взросления Станкевича пришелся на ни колаевскую эпоху, самое яркое свидетельство о которой, вероятно, принадлежит Александру Ивановичу Герцену (1812–1870), мыслителю, публицисту, издателю «Колокола».
В главе XXV «Былого и дум» – возможно лучшей мемуарной философской прозы XIX века, Герцен вспоминает эпоху кружков как время идейного самоопределения русской молодежи, указывая на причины появления этого сущностного для русской жизни социально-культурного феномена. Как отмечает Герцен, это был ответ на неправду сложившегося общественного порядка в России, на то разложение, которое затронуло аристократический класс и правящие верхи. По его словам, «самое появление кружков, о которых идет речь, было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни» – ответом на падение нравственного уровня общества после перелома 1825 года, когда «развитие было перервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни»[361]361
Герцен А. И. Былое и думы. С. 369–370.
[Закрыть]. Испуганное дворянство выслуживалось, народ продолжал молчать. И только дети, по мнению Герцена, находясь, между «крышей и основой», подняли голову. Россия очнулась и пришла в себя, опамятовалась душевными и умственными порывами юного поколения.
Отмечая определенное сходство в умонастроениях своего круга и круга Н. В. Станкевича, Герцен, тем не менее, проводит границу между философской созерцательностью юных последователей Шеллинга, Фихте и Гегеля и более радикально настроенной молодежью, которая образцом для подражания выбрала дело, начатое декабристами: «В тридцатых годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтоб не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокаивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, и самую науку считали средством.
Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях наших»[362]362
Там же. С. 371.
[Закрыть].
Самодержавная власть испугалась студентов, каждый смешок которых был чреват, по ее мнению, революционной угрозой. Бывшие студенты отправились в заключения и ссылки. Русская молодежь радикализировалась, ее идейные умонастроения начали расходиться. Этот внутренний раскол среди послевоенного поколения детей дал начало расхождению идейно-философских позиций, выстроив линию защиты национально-культурных особенностей русского бытия, с одной стороны, и апологию универсализма политической и инетллектуальной культуры Западной Европы, с другой. Анализируя причины расхождения внутри поколения детей, Герцен пишет о судьбе кружковцев, на выбор которых наложила отпечаток их драматическая встреча с действительностью русской жизни: «В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова – и исчез. В 1835 году сослали нас; через пять лет мы возвратились, закаленные испытанным. Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних. Это было самое блестящее время Станкевичева круга. Его самого я уже не застал, – он был в Германии; но именно тогда статьи Белинского начинали обращать на себя внимание всех.
Возвратившись, мы помирились. Бой был неровен с обеих сторон; почва, оружие и язык – все было розное. После бесплодных прений мы увидели, что пришел наш черед серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и немецкую философию. Когда мы довольно усвоили ее себе, оказалось, что между нами и кругом Станкевича опоры нет.
Круг Станкевича должен был неминуемо распуститься. Он свое сделал – и сделал самым блестящим образом; влияние его на всю литературу и на академическое преподавание было огромно, – стоит назвать Белинского и Грановского; в нем сложился Кольцов, к нему принадлежали Боткин, Катков и проч. Но замкнутым кругом он оставаться не мог, не перейдя в немецкий доктринаризм, – живые люди из русских к нему не способны.
Возле Станкевичева круга, сверх нас, был еще другой круг, сложившийся во время нашей ссылки, и был с ними в такой же чересполосице, как и мы; его-то впоследствии назвали славянофилами. Славяне, приближаясь с противуположной стороны к тем же жизненным вопросам, которые занимали нас, были гораздо больше их ринуты в живое дело и в настоящую борьбу.
Между ними и нами, естественно, должно было разделиться общество Станкевича. Аксаковы, Самарин примкнули к славянам, то есть к Хомякову и Киреевским. Белинский, Бакунин – к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим, Грановский, был нашим с самого приезда из Германии.
Если б Станкевич остался жив, кружок его все же бы не устоял. Он сам перешел бы к Хомякову или к нам»[363]363
Там же. С. 371–372.
[Закрыть].
Это идейное расхождение некогда близких по воззрениям людей стало осевой развилкой в истории общественной мысли России. Западники возглавили линию русского европеизма, а русскость в ее допетровском изводе стала идентификационным маркером славянофилов-почвенников, которые постепенно присвоили себе монополию на патриотическую риторику. Идейные наследники Станкевича не удержались на высоте его культурно-просветительского универсализма. Российское общество входило в эпоху острых социально-политических противоречий, которые обостряли цивилизационные споры и заставляли интеллектуалов вновь и вновь возвращаться к парадигмальной для русской мысли дилемме – Россия и Европа.
Культурфилософские идеи Н. В. Станкевича и институализация русской мысли. Кружок Станкевича оказал огромное влияние на развитие русской мысли. Но еще большое влияние имел сам лидер кружка, вдохновивший своим творческим просветительским примером большой круг русских интеллек туалов, впечатленных его пониманием философских проблем культуры, истории и творчества. Философский опыт Станкевича ставит перед нами вопрос о формировании отечественной культурфилософии как самостоятельной области философского знания, ее взаимосвязи и взаимообусловленности с эстетикой и философией истории и возвращает к парадигмальной проблеме культурного и интеллектуального диалога России и Европы.
По справедливому замечанию известного русского философа искусства и историка культуры В. В. Вейдле, «вопрос о России и Западе, вопрос о месте России, в Европе или вне Европы, – не только русский вопрос, хотя нигде он с такой болезненной остротой не ставился, не обсуждался так судорожно, как в России. Очень верно ощущали его у нас, как основной вопрос нашего исторического бытия»[364]364
Вейдле В. В. Умирание искусства. М.: Республика, 2001. С. 121.
[Закрыть].
В этом контексте вопрос о русском типе философствования, в том числе и специфике русской культурфилософии, неизбежно приводит к вопросу о взаимодействии с другими типами философской рациональности, прежде всего европейской. Он связан с определением возможных форм смысловой взаимообусловленности и диалога в ситуации встречи, с особенностями усвоения субъектами интеллектуального творчества философских концептов и культурных архетипов, выработанных внутри другой традиции. Указывая на данную проблему, мы исходим из исторического факта, свидетельствующего о том, что русское общество в первой половине XIX века активно осваивало культурные результаты европейского Просвещения. Тем самым русская культура становилась частью европейской цивилизации эпохи модерна, мыслившего себя как универсальный проект. Цель проекта состояла в генерировании современного социально-политического и культурного уклада. Принимающая и осваивающая ценности модерна русская культура, сохраняла при этом исторически сложившуюся специфику, что дает основание интерпретировать ее как национальную версию общей европейско-христианской цивилизации.
В этом идеологическом горизонте складывались и концептуально оформлялись основные темы и сюжеты русской мысли с ее историософской и этико-религиозной доминантой, во многом предопределившей содержание русской философии преимущественно как философии культуры, что стало очевидным на рубеже XIX–XX вв., в эпоху расцвета русской философии, вступившей в период создания оригинальных систем. В целом, линия развития русской философии XIX в. совпадает с этапами внутреннего развития новоевропейской философии, и не случайно также, что русская культурфилософия в период наивысшего подъема коррелирует с поисками европейских мыслителей, интерес которых смещается с проблематики философии природы и общества в область философии культуры. В связи с этим обратим внимание, что в истории русской мысли проблема границы между европейской и русской философскими традициями остается открытой. Она актуализируется рядом вопросов, например, как разграничить влияния предшествующих текстов и высоких практик культуры в субъективном опыте русских интеллектуалов, как определить форму диалога европейской философии и русской мысли, репрезентирующую диалог авторов, их творческих сознаний? Немаловажно также выявить пути овладения русскими мыслителями предшествующим опытом – характер и содержание новаций, которыми они обогащают возникшие на европейской почве философские идеи.
Речь идет о специфических механизмах культурного диалога, при котором культура отграничивает себя как целое и способна помыслить свое бытие как нечто отдельное и отличное. Эта ситуация универсальна и в случае с опытом человека как субъекта жизнетворчества, у которого при встрече с другим индивидом (коллективной личностью, коллективным предшествующим опытом, культурой) запускается процесс самоидентификации в сложном взаимодействии «своего – иного/другого».
Механизмы культурного диалога с точки зрения принимающей стороны были описаны Ю. М. Лотманом. На наш взгляд, они отвечают и ситуации с российской общественной мыслью первой половины XIX века, осваивающей выдающие образцы интеллектуального творчества западно-европейской философии и искусства, ее классико-романтический дискурс. Согласно концепции Лотмана, культура – это семиотизированный универсум. Диалогическая ситуация на уровне семиосферы (то есть культуры) означает «отделение своего от чужого, фильтрацию внешнего, которому приписывается статус текста на чужом языке, и перевод этого текста на свой язык»[365]365
Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 265.
[Закрыть]. В данных условиях «пространство, которое в одной системе кодирования выступает как единая личность, в другой может оказаться местом столкновения нескольких семиотических субъектов. Пересеченность семиотического пространства многочисленными границами, – уточняет Лотман, – создает для каждого движущегося в нем сообщения ситуацию многократных переводов и трансформаций, сопровождающихся генерированием новой информации, которое приобретает лавинообразный характер»[366]366
Там же. С. 262.
[Закрыть].
В диалогическом сопряжении различного рода культурных целостностей (субъектов культурного творчества – коллективного и индивидуального) наиболее активными источниками «семиообразовательных процессов», по мнению культуролога, являются границы семиосферы. Обращает на себя внимание толкование Лотманом феномена границы: «Понятие границы двусмысленно. С одной стороны, она разделяет, с другой – соединяет. Она всегда граница с чем-то и, следовательно, одновременно принадлежит обеим пограничным культурам, обеим взаимно прилегающим семиосферам. Граница – би– и полилингвистична. Граница – механизм перевода текстов чужой семиотики на язык “нашей”, место трансформации “внешнего” во “внутреннее”, это фильтрующая мембрана, которая трансформирует чужие тексты настолько, чтобы они вписывались во внутреннюю семиотику семиосферы, оставаясь, однако, инородными»[367]367
Там же. С. 265.
[Закрыть].
В случае с новоевропейской философской и художественной культурой русская культура была поставлена перед задачей освоения «чужих» текстов и практик, в результате чего происходила интериоризация готовых образцов духовно-культурного творчества, их интеллектуальная авторизация и персонализация в границах индивидуального опыта. Особенность развития русской мысли состоит в том, что она после европейской модернизации, проведенной Петром Великим, выступала именно принимающей стороной. Наследники петровских реформ с подражательным рвением неофитов подчинились иной культуре с более высоким уровнем рациональности, обладающей дисциплинарным мышлением, сложившейся институализированной системой образования, философским и художественным языком, способным на уровне абстрактных идей, литературных и живописных образов выразить отношение к миру, истории, высшим реальностям, человеку.
Логика данного развития вполне отвечает схеме, предложенной Лотманом: «относительная инертность той ли иной структуры выводится из состояния покоя потоком текстов, которые поступают со стороны связанных с ней определенными отношениями структур, находящихся в состоянии возбуждения. Следует этап пассивного насыщения. Усваивается язык, адаптируются тексты. При этом генератор текстов, как правило, находится в ядерной структуре семиосферы, а получатель – на периферии. Когда насыщение достигает определенного порога, приводятся в движение внутренние механизмы текстопорождения принимающей структуры. Из пассивного состояния она переходит в состояние возбуждения и сама начинает бурно выделять новые тексты, бомбардируя ими другие структуры, том числе и своего “возбудителя”. Процесс этот можно описать как смену центра и периферии. При этом, что очень существенно, происходит энергетическое возрастание: система, пришедшая в состояние активности, выделяет энергии гораздо более, чем ее возбудитель, и распространяет свое воздействие на значительно более обширный регион. Из этого, – делает вывод Лотман, – вытекает прогрессирующий универсализм культурных систем»[368]368
Там же. С. 269.
[Закрыть].
Удачная формула Лотмана – «прогрессирующий универсализм культурных систем» – как нельзя лучше характеризует историческую ситуацию русской интеллектуальной культуры первой половины XIX века. Это «энергетическое возрастание» принимающей стороны, возмущенной вторжением чужих культурных текстов, выполнявших роль философско-эстетических матриц мышления, было воплощено гением Пушкина и Глинки. На волне подъема национального самосознания, обеспеченного геополитическим успехом России в Европе после победы над Наполеоном, русская культура посредством своих художественно-эстетических достижений стала обретать лицо, узнаваемое в Европе. Однако успехи русской философии были не столь очевидны. Она находилась в преддверии создания школы, на пороге системной институализации предметных полей исследования – разделов философского знания. Да и драматическая судьба первых русских мыслителей – Радищева и Чаадаева, как и ранее украинско-русского самородка Сковороды – только подчеркивала неоднозначность положения самостоятельно мыслящей личности в России и в XVIII веке, и в XIX – на вершине ее имперского могущества.
В первой трети XIX века складывающаяся философская культура в России продуцировалась в первую очередь системой университетского образования. При всех особенностях жизни университетов, связанных с политико-идеологическим контролем власти, неяркостью профессорско-преподавательского состава, идейном консерватизме, она было нацелено не только на усвоение знаний. Запрос на естественно-научные и философские новации выражал себя достаточно сильно и в самой университетской среде, и в обществе. В гуманитарных науках интеллектуальный голод ощущался особенно остро. Бедность своей собственной философской традиции, не знавшей школы критического рефлексивного мышления, подталкивала неспокойные, взыскующие нового знания умы к диалогу с европейской интеллектуальной культурой. В системе отношений по формуле «учитель – ученик» русским умам, конечно, была объективно уготована роль «учеников» европейских мэтров и светил. И в этом тоже была сложившаяся на протяжении XVIII и начала XIX вв. традиция ученичества, по примеру главного ученика – царя-Петра, блестяще освоенная к этому времени людьми творческих профессий – музыкантами и художниками-пансионерами Императорской Академии художеств. Одна из ее устойчивых форм – обучение и стажировка в образовательных центрах Европы – дополнялась программами индивидуального совершенствования мастерства, как в случае с художниками-пансионерами. Но если композиторы и живописцы стремились в Италию – страну, обладающую колоссальным запасом античных, ренессансных и барочных художественных открытий, что прочно обеспечивало ей лидерство в европейской художественной культуре, то выпускники университетов двух столиц стремились в Германию, чьи университеты превратились в мировые центры образования, в кузницы социально-политических учений и теоретических идей. Николай Станкевич, после окончания словесного факультета Московского университета продолживший обучение в Германии, яркое свидетельство этого вектора развития русской философии.
Отметим, что прежде, чем Станкевич стал интересоваться немецкой философией, он попробовал свои силы на поэтическом поприще. Можно с уверенностью утверждать, что его интерес к философии первоначально носил эстетический и творческий характер. Будучи спровоцирован прецедентом поэтического сочинительства, он оставался эстетическим по преимуществу и тогда, когда Станкевич всерьез занялся Шеллингом и Гегелем, вычитывая в них именно смысл, связанный с характеристикой человека как субъекта творчества в трансцендентном горизонте, преодолевавшем как свои собственные границы, так и границы культурной истории. Этическая и эстетическая проблематика русской литературы для отечественных мыслителей так и осталось «приводным ремнем» творчества философского. Этико-религиозный и художественно-эстетический дискурс русской философии, собственно и оказался той оригинальной теоретической и стилистической чертой, которая типологически отличает русскую философскую традицию в многообразии европейских философских школ[369]369
См. подробнее: Жукова О. А. Метафизика творчества. Искусство и религия в истории культуры России. М.: Изд-во НОУ ВПО «СФГА», 2008. С. 12.
[Закрыть].
Достаточно рано Станкевич стал «изъясняться стихами». Такая модель поведения мало чем выделяла юного барина от иных юношей его круга. Однако стремление получить признание, попробовать себя на поприще литературы, отличалось заметной активностью и самостоятельностью. С 1829 года, сначала в петербургском журнале «Бабочка», а затем в московских – «Телескопе», «Молве», «Атенее», он публикует свои стихи, отдавая предпочтение жанру элегии. Романтические мотивы, превращающие юношу, питавшего некогда надежды, в одинокого странника «пустыни мира» («Два пути», «Не сожалей», 1832), как и традиционный для романтической фантазии набор космических и потусторонних образов («Ночные духи», 1831; «Избранный», 1830; «Филин», 1831, и др.) говорят, с одной стороны, о подражательной зависимости от доминирующей эстетики, с другой, о стремлении персонализировать используемую стилистическую систему образности. В схожей юношеско-романтической тональности, пятистопным ямбом написана и трагедия «Василий Шуйский», в которой молодой автор пылко выражает свои патриотические чувства, обличая врагов народа, вводящих его своими лукавыми замыслами в соблаз и неверие. Интересно, что анонимный рецензент, которым оказался А. А. Дельвиг, отмечая незрелость сочинения молодого сочинителя, оценил этот опыт весьма серьезно, пред полагая в Станкевиче определенный талант и литературную будущность.
К подобной творческой удаче можно отнести стихотворения «Мгновение» (1832), где лирический герой созидает «новый мир» души, и «Подвиг жизни» (1833), в котором повзрослевший автор говорит о подвиге причастности к «жизни повсюдной», достигаемым трансцендентным усилием преодоления «предела земного». Характерный для Станкевича познавательно-волевой мотив, который можно считать его программой духовного поиска и личностного совершенствования, определен философской формулой «и все наполнится тобой». Именно эта программа будет приложена и реализована в изучении немецких гениев мысли. Но прежде она будет раскрыта опять-таки в литературном произведении – в повести «Несколько мгновений графа Т***, опубликованной в 1834 г., под псевдонимом Ф. Зарич и посвященной другу Станкевича, Януарию Михайловичу Неверову, который является прототипом героя. Однако настоящий герой данного произведения – сам автор повести.
По замыслу Станкевича, повесть раскрывает важные вехи интеллектуальной биографии автора. Духовная эволюция связана с поиском истины, сменяется периодом философской рефлексии, сомнения и скепсиса, преодолевается героем, который обретает готовность к подвигу, пытается применить свои творческие силы на практике, но неудачно[370]370
Отражает факт биографии Станкевича, после окончания университета некоторое время бывшего почетным смотрителем Острогожского уездного училища. Однако уже в 1835 г. Станкевич вернулся в Москву.
[Закрыть]. Результатом этого пути оказывается обращение героя (и автора) к искусствам, особенно к музыке. Интеллектуальное восхождение завершается художественно-эстетическим апофеозом: абсолютная красота и истина открываются ему в искусстве и музыке. Именно искусство и музыка воспринимаются героем как образы трансцендентного, выступая, своего рода, «представителями неба на земле»[371]371
Станкевич Н. В. Избранное. М.: Советская Россия, 1982. С. 75.
[Закрыть]. Они дают творческой личности не только душевное прибежище, но и духовный прообраз совершенства. Согласно устойчивой романтической схеме, в конце повести герой умирает, обретая любовь, которая его обновляет. Трагико-романтическое предчувствие, к несчастью, сбылось в судьбе самого Станкевича. Не достигнув возраста двадцати семи лет, он скончался от туберкулеза, в Нови-Лигуре, на руках любимой им женщины, сестры М. А. Бакунина, В. А. Дьяковой, и своего друга А. П. Ефремова.
Восприимчивый не только к эстетическому совершенству, Станкевич активно интересовался реальной историей. Для самосознания молодого дворянина события 1825 г. на Сенатской площади стали этически травмирующей точкой отсчета. Не удивительно, что в кружке Станкевича в эстетические переживания вторгалась социальная правда истории, обостряя обсуждение болевых проблем современности. Кружок, возникший зимой 1831–1832 гг., включал в себя Я. М. Неверова, И. П. Клюшникова, В. И. Красова, А. А. Беера, П. Я. Петрова, О. М. Бодянского, к нему присоединились В. Г. Белинский, К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, В. П. Боткин, в Германии Станкевич сблизился с Т. Н. Грановским. Молодые интеллектуалы отнюдь не замыкались в рамках романтической эстетики. Кружок Станкевича на русской почве знаменовал собой начало расцвета специфического типа личности, возможного в культуре с доминантой метафизических ценностей, но с ограниченным социальным полем практического приложения сил. Этот тип «практических метафизиков» хорошо известен в русской истории по своему радикальному – революционному крылу. Но в эпоху расцвета кружка, бывшего по составу идей и умонастроений далеко не однородным, это размежевание эстетических и революционных идеалистов не было столь очевидным.
Идейное единство обеспечивалось поисками общего метафизического (вселенского) смысла, а психологическое единство – искренностью душевных порывов. Однако участники кружка всячески культивировали критический, трезвый взгляд на текущие интеллектуально-художественные и социальные процессы, вырабатывая принципы новой эстетики и критики, отвергавшей ложно-патетическую интонацию и излишнюю аффектацию. Это позволяло им бороться с литературными авторитетами и производить «переоценку ценностей», пересматривая творчество А. А. Бестужева-Марлинского, Н. В. Кукольника, В. А. Каратыгина, царивших на олимпе литературной и театральной славы. Поиск подлинного в искусстве позволил Станкевичу разглядеть в молодом Алексее Кольцове несомненный талант и способствовать не только утверждению нового имени в русской поэтической традиции, но и новой народно-песенной эстетики. Станкевич, с которым Кольцов встретился в 1830, опубликовал его стихи с коротким предисловием в «Литературной газете». Благодаря Станкевичу Кольцов познакомился с Белинским, который оказал на него большое влияние, с Жуковским, Вяземским, Одоевским и Пушкиным, опубликовавшим в своем журнале «Современник» стихотворение Кольцова «Урожай».
Широкий круг интересов, впрочем, как и внимание к литературным событиям, еще не обеспечивает собственно философского пути познания, хотя и создает благоприятную почву для философского опыта. Надобен источник, сильный стимул в виде учителя или поражающей воображение и ум встречи. В судьбе Станкевича таким открытием-откровением стала встреча с философским творчеством Фридриха Шеллинга. Целостность философского взгляда на жизнь человека давала прочные основания личности, выстраивающей свои отношения с миром, по-христиански жаждущей спасения. В письме к Грановскому Станкевич признается: «Грановский! веришь ли – оковы спали с души, когда я увидел, что вне одной всеобъемлющей идеи нет знания… и что все другое – призрак»[372]372
Станкевич Н. В. Избранное. С. 149.
[Закрыть].
Об этой встрече с идеалистической философией Шеллинга убедительно говорит историк русской философии В. В. Зеньковский: «Философски Станкевич прежде всего испытал влияние Шеллинга, на которого, по его словам, “напал нечаянно”. Любо пытно, – замечает Зеньковский, – что сам Станкевич считает, что Шеллинг “опять обратил меня на прежний путь, к которому привела было эстетика”»[373]373
Зеньковский В. В. История русской философии. С. 42.
[Закрыть]. Как считает Зеньковский, именно Шеллинг «вернул Станкевича к целостному восприятию мира и жизни: “я хочу полного единства в мире моего знания, пишет он вслед за упоминанием Шеллинга, …хочу видеть связь каждого явления с жизнью целого мира, его необходимость, его роль в развитии одной идеи”. У Шеллинга (по свидетельству самого Станкевича), – продолжает рассуждение Зеньковский, – он учится понимать единство истории и природы, учится связывать разные стороны бытия в живое целое. Вместе с тем у того же Шеллинга Станкевич берет его трансцендентализм, его концепцию космоса»[374]374
Там же. С. 42–43.
[Закрыть].
Единство в мире знания достигается Станкевичем через синтез религии и философии, точнее, опытом христианской души, не отвергающей автономии разума, но примиряющей последние вопросы бытия в Боге: «только для души, примиряющейся с Богом… вся природа обновляется; тяжелые нравственные вопросы, неразрешимые для ума, решаются без малейшей борьбы. Жизнь снова становится прекрасной и высокой»[375]375
Переписка Николая Владимировича Станкевича. С. 283.
[Закрыть]. Не трудно заметить, что на вершине пирамиды стоит идеал «прекрасной и высокой» жизни – жизни эстетически и нравственно совершенной. По мысли Станкевича, духовное совершенство имеет ярко выраженное эстетическое и моральное содержание, измеряется им. Этот идеал не дан как простой образец в вере отцов – его нужно заново открыть в себе, утвердить как духовно-нравственный стержень личности, иначе невозможно. Век разума и просвещения ставит перед человеком новые задачи, пересматривая значение религии, которая не всегда может дать искушенному в науках и знании человеку спасение. Внутренняя, глубокая религиозность Станкевича, отмечаемая многими, казалось бы, могла входить в противоречие с его требованием автономности разума. Однако он нашел этот положительный синтез философии и религии, понимая веру как опытно достигаемое знание, признающее ограниченность и недостаточность автономного разума. И именно о таком, рефлексирующем религиозном сознании говорит Станкевич в одном из своих писем к братьям и сестрам из Берлина, от 17/29 октября 1837 года: «Другие, и в наш век, могут удовольствоваться верою (разумею, не историческую); я не могу и некоторые из Вас не могут. Мы так далеко зашли, противоречие развилось слишком сильно, струны на душе порвутся, если им не дать этого строя; нет исхода, нет спасения… В самом деле, человек только тогда узнает, чего ему надобно, когда узнает вполне, что он такое и согласится, примет это значение, насладится им»[376]376
Там же. С. 161.
[Закрыть].
Шеллинг помог обнаружить Станкевичу бытийную связь человека с миром природы и культуры, понять, что в человеке «действует разумная жизнь всей природы»[377]377
Станкевич Н. В. Стихотворения. Трагедия. Проза. С. 149–151.
[Закрыть]. Это позволило молодому философу приблизиться к осознанию назначения человека – конечной цели его жизни. В письме Станкевич формулирует свой тезис: «вся природа есть лестница, по которой я идет к полному разумению в человеке»[378]378
Переписка Николая Владимировича Станкевича. С. 585.
[Закрыть]. Достоинство человека напрямую связано с задачей совершенствования, воспитания и преображения души. Проецируя эту задачу на будущее, Станкевич, уже в духе Гегеля, вменял ее не только человеку, но и целым народам. Важнейшим инструментом совершенствования он полагал философию, трактуя ее как «могущество ума, одушевленного добрым чувством»[379]379
Там же. С. 594.
[Закрыть]. Эта мысль высказана и в письме к Бакунину от 24 ноября 1835 г.: филосо фия «…показывает человеку цель жизни и путь к этой цели, расши ряет ум его. Я хочу знать, до какой степени человек развил свое разумение, потом, узнав это, хочу указать лю дям их досто инство и назначение, хочу призвать их к добру, хочу все дру гие науки во одуше вить еди ною мыслию»[380]380
Станкевич Н. В. Избранное. С. 134.
[Закрыть]. По справедливому замечанию биографа Станкевича, П. В. Анненкова, «и в философии, и в эстетике Станкевич отстаивал права чувства, ему важно было узаконить все надежды сердца»[381]381
Анненков П. В. Биография Н. В. Станкевича // Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография. М., Типография Каткова, 1857. С. 9.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?