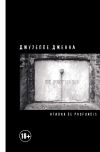Текст книги "Исповедь: De Profundis"

Автор книги: Оскар Уайльд
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
За этой разнузданной телеграммой, как и было тобой задумано, последовали формальные письма твоего адвоката, которые только подзадорили твоего отца.
Ты не оставил ему никакого выбора, и он вынужден был защищаться. Это стало для него вопросом чести, а скорее бесчестья, и именно этого ты добивался брошенным ему вызовом. Вот почему его следующая атака на меня была уже не как на твоего близкого друга и не в личном письме к тебе, а как на публичную фигуру и на глазах у публики. Дело дошло до того, что мне пришлось однажды выставить его из своего дома. Он ходил по всем ресторанам и разыскивал меня, чтобы публично, перед всем светом, поносить меня в таких выражениях, что, ответь я ему тем же, я погубил бы себя, а не ответь – все равно погубил бы.
Вот тогда-то и было самое время вмешаться тебе и внушить своему отцу, что ты ему не позволишь делать меня мишенью его гнусных нападок и наглого преследования и что, поскольку он это делает из-за тебя, ты готов отказаться от каких бы то ни было притязаний на мою дружбу.
Надеюсь, теперь ты это понимаешь. Но в ту пору ты ни о чем подобном не думал. Тебя ослепляла Ненависть. Ты не мог придумать ничего умнее (если, конечно, не считать оскорбительных писем и телеграмм отцу), чем купить этот нелепый пистолет и выстрелить в ресторане отеля «Баркли», что вызвало такой скандал, об истинных размерах которого ты и сам не догадывался. Впрочем, тот факт, что из-за тебя разгорелась столь ожесточенная вражда между твоим отцом и таким известным человеком, как я, приводил тебя в полный восторг. Естественно предположить, что это только льстило твоему самолюбию и возвышало тебя в своих собственных глазах.
Если на минуту представить, что, в качестве выхода из конфликта, твой отец получил бы твою физическую оболочку (которая не интересовала меня) и оставил бы мне твою душу (которая не интересовала его), тебя бы такой вариант не устроил. Увидев шанс устроить публичный скандал, ты не мог упустить его. Тебе не терпелось спровоцировать битву, в которой ты сам оставался бы в полной безопасности. Никогда раньше я не видел тебя в таком приподнятом расположении духа, как в то время. Тебя огорчало лишь то (во всяком случае, так мне казалось), что никаких встреч между мной и твоим отцом, а следовательно, и стычек между нами, больше не происходило. Чтобы утешить себя, ты начал посылать отцу такие немыслимые телеграммы, что несчастному пришлось отдать распоряжение прислуге ни в коем случае не вручать их ему, о чем он известил в письме и тебя. Но это ничуть не остановило тебя.
Ты решил использовать преимущества открыток, учитывая, что он не сможет их не читать, и стал забрасывать его ими. Этим ты еще больше раззадорил его. Впрочем, в любом случае он не отказался бы от своих намерений – я в этом уверен. Уж слишком сильно говорили в нем родовые инстинкты. Его ненависть к тебе была столь же неукротимой, как и твоя ненависть к нему, а я служил для вас обоих лишь удобным предлогом для взаимных атак, орудием для нападения и обороны.
Потребность находиться в центре внимания – и чем скандальнее повод, тем лучше – была в твоем отце даже не личной чертой, а фамильной. Ну а в том случае, если бы его пыл стал угасать, ты раздул бы его заново своими письмами и открытками. Так, собственно, и случилось.
Более того, отец твой, как и следовало ожидать, пошел еще дальше. Поначалу он травил меня как лицо частное и частным образом, потом – как фигуру публичную и публично, но в конце концов решил прибегнуть к самому эффективному способу – атаковать меня как Художника, причем именно в том месте, где я представляю свое Искусство публике, то есть в театре… Он обманным путем достает билет на премьеру моей новой пьесы и замышляет устроить в театре грандиозный скандал, а именно: прервать спектакль, произнести гнусную речь в мой адрес, а заодно оплевать и моих актеров или же, когда закончится представление и я выйду на вызовы публики, осыпать меня грязными и непристойными оскорблениями – словом, разделаться со мной, прибегнув к какой-нибудь безобразной выходке и использовав в качестве орудия мое же Искусство.
По чистой случайности об этом становится известно другим, ибо он, в припадке пьяной откровенности, имел неосторожность распустить перед ними язык насчет своего хитроумного плана. Они сообщают об этом в полицию, и его в театр не пускают. Вот тут бы тебе и сказать свое веское слово: случай представился как нельзя более подходящий.
Неужели ты до сих пор не понял, что тебе следовало бы, пользуясь моментом, заявить тогда во всеуслышание, что ты не дашь в обиду мое Искусство, не позволишь, чтобы оно было принесено в жертву ради тебя. Ведь ты знал, что значит для меня Искусство, знал, что оно – та великая вечная музыка, дивные звуки которой помогли мне открыть свою душу – сначала для себя, а затем и для всех других; что оно – подлинная моя страсть, главная моя любовь, рядом с которой все мои другие чувства – все равно что болотная жижа по сравнению с красным вином или крошечный светлячок по сравнению с волшебным зеркалом луны. Неужто ты и по сию пору не понял, что отсутствие воображения – самый пагубный порок твоего характера?
В создавшейся тогда ситуации перед тобой стояла в высшей степени простая и ясная задача, но тебя ослепляла Ненависть, не давая тебе увидеть, что нужно делать. Не мог же я просить прощения у твоего отца за то, что он почти девять месяцев подряд преследовал и оскорблял меня самым разнузданным образом. Исключить тебя из своей жизни я тоже не мог, хоть и пытался не раз.
В конце концов, в надежде укрыться от тебя, я решил бежать из Англии за границу, но это тоже не помогло. Ты был единственным человеком, кто мог бы меня спасти. Ключ к решению ситуации был только в твоих руках. У тебя была уникальная возможность хотя бы отчасти отблагодарить меня за всю мою любовь, привязанность, доброту и щедрость к тебе, за всю мою о тебе заботу. Если бы ты ценил во мне хотя бы десятую долю моего художественного таланта, ты знал бы, что делать, и сделал бы это.
То свойство, «которое одно лишь позволяет человеку понимать других в их реальных и идеальных проявлениях», полностью в тебе омертвело. Ты думал только о том, как бы упрятать своего отца за решетку. Увидеть его «на скамье подсудимых», как ты неустанно любил повторять, стало твоей идеей фикс, одним из scies[46]46
Scies – здесь: навязчивый лейтмотив (фр.).
[Закрыть] всех твоих разговоров.
Ты произносил эти слова по несколько раз за каждой трапезой. Что ж, твое желание исполнилось. Ненависть даровала тебе все, о чем ты мечтал. Она была доброй твоей Госпожой, во всем тебе потакавшей. Такой она бывает со всеми, кто ей преданно служит. Два дня ты просидел на возвышении рядом с шерифами, наслаждаясь зрелищем своего отца на скамье подсудимых в Центральном уголовном суде. А на третий день на его месте оказался я. Что же произошло? А то, что вы с отцом, играя в вашу чудовищную игру в ненависть, оба бросили кости, ставя на мою душу, и тебе не повезло – ты проиграл. Вот и все.
Итак, я дошел в своем рассказе до того дня, когда попал в следственную тюрьму. После ночи в полицейском участке меня отвезли туда в тюремной карете. Ты был в высшей степени добр и внимателен ко мне. До того как уехать за границу, ты регулярно, едва ли не каждый день, проделывал все это расстояние до Холлоуэя[47]47
Холлоуэй – в эту тюрьму Уайльда поместили в начале апреля 1895 г.
[Закрыть] специально для того, чтобы повидаться со мной. Ты писал мне очень теплые, очень славные письма. Но при этом тебе и в голову не приходило, что посадил меня в тюрьму вовсе не твой отец, а именно ты, что с самого начала и до конца ты, и один только ты был за это в ответе, – словом, что попал я сюда исключительно из-за тебя, благодаря тебе и по твоей милости. Твоя омертвелая, лишенная воображения душа не пробудилась даже тогда, когда ты увидел меня за решеткой моей деревянной клетки.
Если ты и сочувствовал мне, то сочувствие твое было чисто сентиментального свойства – нечто вроде того абстрактного сострадания, которое вызывает у театрального завсегдатая герой какой-нибудь душещипательной трагедии. А то, что автором этой трагедии был никто иной, как ты, тебе и в голову не приходило.
Я прекрасно видел, что ты совершенно не сознаешь, насколько ужасно со мной поступил. Тем не менее я не стал открывать тебе глаза на то, что должно было подсказать тебе сердце, – и, наверное, подсказало бы, если бы ты не позволил Ненависти ожесточить его до полной бесчувственности.
Человек должен до всего доходить сам – своей собственной головой и своей собственной совестью. Какой смысл растолковывать ему то, чего он ни почувствовать, ни понять не в состоянии?! Если я и взялся сейчас за эту неблагодарную задачу, то вынудили меня к этому твое долгое молчание и непонятное поведение во время моего заточения.
Как в конце концов оказалось, удар обрушился на меня одного. Я был этому только рад. Существовало немало причин, ввиду которых я готов был покорно сносить страдания, но твоя полнейшая и безнадежная слепота относительно собственной роли во всем этом деле казалась мне более чем достойной презрения.
Помню, с какой нескрываемой гордостью ты показал мне письмо, написанное тобой обо мне и посланное в какую-то дешевую газетенку. Оно было сформулировано в чрезвычайно пристойных и умеренных выражениях, но производило впечатление ужасно банального сочинения. Ты напоминал в нем читателям о пресловутом понятии «английской честной игры» или о чем-то столь же избитом и призывал «не бить лежачего».
Такого рода письма уместно писать в тех случаях, когда несправедливому обвинению подвергают какого-нибудь добропорядочного обывателя, к тому же лично не знакомого пишущему, но речь-то ведь шла обо мне. Однако тебе это письмо казалось шедевром. Ты считал, что проявил рыцарское, чуть ли не донкихотское благородство. Мне известно, что ты писал и другие письма и посылал их в другие газеты, но там их попросту не печатали. И неудивительно: в них не говорилось ни о чем другом, кроме как о том, насколько ты ненавидишь своего отца. А кому это было нужно? Неужели ты до сих пор не понял, что Ненависть, если говорить о ней с философской точки зрения, есть вечное отрицание, а с точки зрения чувств – это один из видов их атрофии, поскольку Ненависть умерщвляет все, кроме самой себя.
Писать в газеты о том, что ненавидишь какого-то человека, это все равно что во всеуслышание заявлять о своей тайной и постыдной болезни, и то обстоятельство, что человек этот – твой родной отец и что он отвечает тебе точно такими же чувствами, отнюдь не служит тебе оправданием, а только лишний раз подтверждает, что ненависть в тебе – наследственная болезнь.
Мне снова вспоминается письмо, которое я написал тебе после того, как было конфисковано все мое имущество, проданы с молотка все мои книги вместе со всей обстановкой и над моей головой нависла угроза быть объявленным несостоятельным должником. Так вот, я и словом не обмолвился в том письме, что судебные исполнители, явившиеся ко мне в дом – тот самый, где ты так часто обедал со мной, – описали мою собственность, в сущности, тоже из-за тебя: в счет уплаты за подарки, что ты получал от меня. Но в то время я искренне думал – не знаю уж, обоснованно или нет, – что, напиши я тебе об этом, ты ужасно расстроишься, а потому ограничился изложением одних голых фактов, не раскрывая причин. Ну а что касается этих фактов – описи моего имущества и грозящего мне банкротства, – мне казалось, о них ты все-таки должен знать.
Твой ответ на мое письмо, присланный тобой из Булони,[48]48
Булонь – город на севере Франции на побережье пролива Па-де-Кале.
[Закрыть] был написан чуть ли не в восторженно-приподнятом духе.
Ты сообщал мне, что у твоего отца в настоящее время «ветер свистит в карманах», что на судебные издержки ему пришлось выложить целых полторы тысячи фунтов и что на самом деле мое банкротство – не поражение, а «блестящая победа» над твоим дражайшим папочкой, так как теперь он не сможет выудить у меня ни единого пенса из этой суммы!
Удостоверился ли ты хоть теперь, что Ненависть действительно может ослепить человека? Согласишься ли ты со мной хоть сейчас, что, характеризуя ее как чувство, вызывающее атрофию всех других чувств, кроме нее самой, я, в сущности, дал научное определение психологическому феномену, имеющему место в реальной жизни?
Тебе было наплевать, что с молотка пойдут все эти прелестные, дорогие для меня вещи: и рисунки Бёрн-Джонса,[49]49
Эдвард Бёрн-Джонс (1833–1898) – английский живописец, рисовальщик, мастер декоративно-прикладного искусства. Как и другие прерафаэлиты, прибегал к стилизации приемов итальянской живописи XV в., писал лирические картины на темы средневековых легенд. Уайльд поддерживал довольно близкое знакомство с Бёрн-Джонсом.
[Закрыть] и наброски Уистлера,[50]50
Джеймс Уистлер (1834–1903) – американский художник, подолгу живший в Англии и одно время друживший с Уайльдом. По манере своей живописи был близок к французским импрессионистам.
[Закрыть] и мой Монтичелли,[51]51
Монтичелли (1824–1866) – французский художник итальянского происхождения, близкий к импрессионистам.
[Закрыть] и мой Саймон Соломон;[52]52
Саймон Соломон (?–1905) – английский художник, близкий к кругу прерафаэлитов; в 1873 г. был осужден за аморальное поведение; умер в богадельне.
[Закрыть] и моя коллекция фарфора; и моя обширная библиотека с ее коллекцией редчайших йditions de luxe,[53]53
Ditions de luxe – роскошные издания, преимущественно фолианты или раритеты (фр.).
[Закрыть] с прекрасно изданными, в великолепных переплетах произведениями обоих моих родителей, с ее уникальным собранием дарственных томиков почти всех современных поэтов – от Гюго до Уитмена, от Суинберна[54]54
Алджернон Суинберн (1837–1909) – английский поэт, прославлявший чувственность и языческий гедонизм.
[Закрыть] до Малларме,[55]55
Стефан Малларме (1842–1898) – французский поэт-символист.
[Закрыть] от Морриса[56]56
Уильям Моррис (1834–1896) – английский художник, писатель, теоретик искусства. Литературное творчество Морриса отмечено романтической стилизацией.
[Закрыть] до Верлена;[57]57
Поль Верлен (1844–1896) – французский поэт-символист.
[Закрыть] и весь великолепный набор моих школьных и университетских наград, и многое, многое другое.
Но ты дал мне понять в своем ответном письме из Булони, что такие материи тебе ужасно скучны, – вот и все сочувствие, какого я от тебя дождался. Намного более интересным тебе показалось то, что благодаря моему банкротству твой отец потеряет несколько сотен фунтов.
Это мелочное соображение привело тебя в настоящий восторг.
Ну а если уж говорить о столь волнующих тебя судебных издержках, то тебе небезынтересно будет узнать, что твой отец публично заявил в Орлеанском клубе буквально следующее: обойдись ему эти издержки не в полторы, а пусть даже в двадцать тысяч фунтов, и то он считал бы эти деньги не напрасно потраченными – такое удовольствие, ликование и торжество он испытал от судебной расправы надо мной.
Сознание, что он сумел не только упрятать меня за решетку на целых два года, но и вытащить меня оттуда на один-единственный день специально для того, чтобы объявить меня перед всем светом банкротом, наполнило его сердце такой острой радостью, что это удивило даже его самого. Увы – то, что воспринималось им как триумф, я переживал как крайнюю степень унижения.
Я уверен, что, если бы твой отец не пытался переложить свои судебные издержки на меня, ты, конечно же, проявил бы ко мне сочувствие (по крайней мере словесное) в то нелегкое для меня время, когда я потерял всю свою библиотеку, а ведь такая потеря для писателя совершенно невосполнима – она для него, пожалуй, самая тяжелая из всех материальных потерь.
А если бы ты вспомнил, какие огромные суммы я тратил не скупясь на тебя и сколько времени ты жил полностью на мой счет, то ты уж постарался бы выкупить для меня хотя бы некоторые из моих книг. Лучшие из них пошли менее чем за полтораста фунтов огулом: примерно столько же я обычно тратил на тебя за неделю.
Но мелкое чувство злорадства, которое ты испытывал при мысли о том, что твой отец может потерять лишние несколько пенсов в результате того, что меня объявят неплатежеспособным, заставило тебя начисто забыть, что тебе следовало бы в качестве элементарной благодарности попытаться вернуть для меня хотя бы часть моего имущества, и особенно книги. Казалось бы, это было так естественно, так просто, так недорого сделать и в то же время это так помогло бы мне в постигшей меня беде. Но помощи от тебя я не дождался.
Разве я не прав, уже в который раз повторяя, что Ненависть ослепляет человека? Понимаешь ли ты это хоть теперь? Если нет, то постарайся понять.
Я-то, конечно, прекрасно все понимал – и тогда и теперь. Но я сказал себе: «Чего бы мне это ни стоило, я должен сохранить в своем сердце Любовь. Если я отправлюсь в тюрьму без Любви, что станет с моей Душой?»
В письмах, которые я писал тебе в то время из Холлоуэя, Любовь по-прежнему звучала главной мелодией моей души, хотя у меня были все основания терзать твое сердце горькими, гневными упреками и осыпать тебя самыми ужасными проклятиями. Я мог бы поднести к твоему лицу зеркало, чтобы ты увидел себя в таком страшном обличье, что не сумел бы узнать себя. И лишь обнаружив, насколько точно отражение в зеркале передразнивает твои гримасы и жесты, ты понял бы наконец, что за чудовище взирает на тебя оттуда, и навек возненавидел бы и его и себя.
Скажу больше того. На меня были взвалены грехи, которые совершил не я, а другой человек, и если бы я захотел, то мог бы на любом из обоих судебных процессов указать на истинного виновника и таким образом спасти себя если не от позора, то, во всяком случае, от тюрьмы.
Будь у меня желание, мне ничего не стоило бы доказать, что три самых важных свидетеля обвинения были соответствующим образом проинструктированы твоим отцом и его адвокатами, что они не только о многом умалчивали, но и давали заведомо ложные показания, приписывая мне – намеренно, по заранее задуманному и согласованному друг с другом до мельчайших подробностей плану – поступки и действия, совершенные другим человеком.
Я мог бы добиться от судьи отстранения от дачи свидетельских показаний всей троицы, причем сделать это было даже проще, чем в случае этой несчастной жертвы лжесвидетельств Аткинса.[58]58
Фредерик Аткинс – один из случайных знакомых Уайльда, свидетель обвинения на его судебном процессе, дававший столь противоречивые показания, что был в конце концов привлечен к ответственности за лжесвидетельство.
[Закрыть] Я мог бы выйти из зала суда свободным человеком, сунув руки в карманы, с победной улыбкой на лице.
Люди, чьей единственной заботой было и остается мое благополучие и благополучие моей семьи, настойчиво убеждали меня помешать свершению несправедливости; да что там убеждали – умоляли и заклинали меня. Но я отказался. Я не пошел на это. И никогда не сожалел о своем решении, даже в самые тяжелые минуты своего заточения. Такая линия поведения была бы ниже моего достоинства. Изъянов плоти не стоит стыдиться. Это болезни, и лечить их – дело врачей. Изъяны души – вот что нужно считать постыдным. Добившись своего оправдания недостойными средствами, я обрек бы себя на пожизненную пытку.
Но скажи мне, неужели ты считал себя достойным любви, которую я в то время к тебе проявлял? Неужели обманывался иллюзией, что я и в самом деле мог думать, будто ты достоин такой любви? В том-то и дело, что я никогда так не думал. Просто мне казалось и кажется до сих пор, что Любовь не выносят на рынок, не швыряют на весы торгаша. Главное для нее, как и для нашего разума, – ощущать себя живой. Любить – вот в чем назначение Любви, и только в этом.
В сущности, ты был для меня врагом – худшим из врагов, какого только может иметь человек. Я отдал тебе свою жизнь, а ты, в угоду самым презренным и низменным страстям человека – Ненависти, Тщеславию и Корысти, – растоптал ее. Менее чем за три года ты сумел погубить меня во всех отношениях.
Но мне, ради себя же самого, оставалось только одно – любить тебя, как и прежде. Ведь если бы я позволил себе возненавидеть тебя, то в иссушенной пустыне моего существования, по которой я вынужден был брести и бреду до сих пор, каждая скала лишилась бы своей тени, каждая пальма увяла бы, каждый родник был бы отравлен в своем истоке. Начинаешь ли ты это понимать хоть теперь?
Просыпается ли твое воображение, так долго погруженное в летаргический сон?
Ты уже хорошо знаешь, что такое Ненависть. Так, может быть, к тебе приходит и понимание того, что такое Любовь и в чем она может проявляться? Тебе еще не слишком поздно постигнуть это, но для того, чтобы преподать тебе этот урок, мне пришлось угодить в тюремную камеру.
После того как мне вынесли приговор, несправедливый и беспощадный, напялили на меня тюремную одежду и захлопнули за мной тюремные ворота, я оказался среди развалин и обломков своей прекрасной жизни, раздавленный тоской, скованный страхом, ошеломленный болью. Но все же я не хотел ненавидеть тебя. Ежедневно, с утра до вечера, я неустанно твердил себе: «Нужно и сегодня сберечь Любовь в моем сердце, иначе как прожить этот день?»
Я старался убедить себя, что ты поступил со мною так дурно без злого умысла. Я заставлял себя думать, что ты натянул свой лук не целясь и стрела лишь случайно поразила царя сквозь швы лат.[59]59
См. Ветхий Завет, Третья книга Царств, XXII, 34.
[Закрыть]
Я чувствовал, что взвешивать твою вину на одних весах с обрушившейся на меня трагедией, кладя на мою чашу весов абсолютно все мои горести и утраты, включая самые мелкие, самые незначительные, было бы несправедливо. Я решил, что буду и на тебя смотреть как на мученика, заставил себя поверить, что пелена наконец-то спала с твоих давно не видящих глаз. Я часто представлял, с каким ты, должно быть, ужасом взираешь на страшные деяния рук своих, и мне становилось за тебя больно.
Даже в те тяжелые для меня дни, самые тяжелые во всей моей жизни, нередко бывало так, что мне хотелось разделить с тобой твои душевные муки и успокоить тебя. Вот до чего я был уверен, что ты наконец-то понял свою вину и что это заставило тебя страдать.
Мне тогда и в голову не приходило, что среди твоих многочисленных недостатков есть еще и поверхностность – и в чувствах, и в мыслях, и в отношении к людям. А ведь я ужасно переживал, что, получив наконец право на переписку – увы, в ограниченном объеме, по одному письму за определенный период, – я вынужден был первое свое послание написать не тебе, а посвятить его улаживанию семейных дел. Объяснялось это вот чем.
Брат моей жены сообщил мне в письме, что если я напишу ей – пусть даже всего один раз, – то она не станет, ради меня и наших детей, возбуждать дело о разводе со мной, ну и я, конечно, счел своим долгом первое свое письмо из тюрьмы написать именно ей. Не говоря уже о других причинах, для меня была невыносимой мысль, что меня могут разлучить с Сирилом,[60]60
Сирил (1885–1915) – старший сын Уайльда; после ареста Уайльд больше не видел ни Сирила, ни второго своего сына Вивиана.
[Закрыть] моим чудесным, горячо любимым и любящим меня сыном, лучшим из всех моих друзей, самым близким мне человеком, один волосок с золотой головы которого дороже для меня не только тебя и твоей дружбы, но и всех сокровищ Земли. Собственно, таким он был для меня всегда, но понял я это слишком уж поздно.
Где-то через пару недель после твоего обращения к начальству тюрьмы с просьбой разрешить мне переписку с тобой я узнал последние новости о тебе. Их сообщил мне Роберт Шерард,[61]61
Роберт Шерард (1861–1943) – английский писатель и журналист, близкий друг Уайльда, написавший о нем четыре книги.
[Закрыть] самый, кстати, бесстрашный и благородный из всех блистательных людей, которых мне доводилось знать.
Когда он пришел ко мне на свидание, я, попросив его рассказать о тебе, вдруг узнаю, что ты собираешься опубликовать в этом нелепом журнале «Mercure de France»,[62]62
Французский общественно-литературный журнал «Меркюр де Франс» издавался с 1890 г. группой писателей и поэтов символистского направления.
[Закрыть] со столь смехотворной настойчивостью тщащемся выдавать себя за центр литературного декаданса и безнравственности, свою статью обо мне с выдержками из моих писем.
Роберт спросил – неужели я дал на это согласие? Я был просто-таки ошарашен, а еще больше разгневан, услышав такую новость, и попросил его сделать все, чтобы этого не допустить.
Мне была известна твоя небрежная привычка бросать мои письма как попало и где попало, так что твоим дружкам-шантажистам ничего не стоило их похищать у тебя, а когда ты останавливался в отелях, мои письма валялись у тебя на самых видных местах, и их раскрадывали слуги и горничные с тем, чтобы затем продавать.
С одной стороны, это говорило о том, насколько ты неаккуратен, а с другой – насколько тебе безразлично то, о чем я тебе пишу. И все же мне трудно было поверить, что ты действительно собираешься опубликовать выдержки из тех писем, которые каким-то чудом не растаскали. Интересно, какие из них ты решил отобрать? Этого я так и не смог узнать. Такова была самая первая новость, которую я узнал о тебе. Естественно, она не привела меня в особый восторг.
За первой вскоре последовала и вторая. Ко мне в тюрьму явились поверенные твоего отца, чтобы вручить уведомление о неуплате мною каких-то несчастных семисот фунтов – в такую сумму они оценили судебные издержки. Меня объявили несостоятельным должником и доставили в суд. А я ведь считал (как считаю и до сих пор – впрочем, я еще вернусь к этому), что названные издержки должна была оплатить твоя семья. В том-то и весь вопрос, что ты лично заверил суд в том, что оплату издержек полностью возьмут на себя твои родственники.
Поверенный твоего отца возбудил против меня дополнительное дело о признании меня банкротом, исходя именно из твоих заверений. Так что полную за это ответственность нес только ты. Но даже безотносительно к тому, что ты от имени своей семьи взял на себя эти злополучные обязательства, неужели тебе не пришло в голову, что, и без того явившись причиной обрушившегося на меня бесчестья и разорения, ты мог бы по крайней мере уберечь меня еще и от этой порции унижения, когда меня вновь объявили неплатежеспособным из-за совершенно ничтожной суммы, составлявшей менее половины того, что я истратил на тебя за три летних месяца в Горинге. Впрочем, больше я распространяться об этом не стану. Напомню лишь те слова, которые помощник поверенного передал мне от тебя относительно этого дела, а точнее, в связи с тем, что он приехал ко мне в тюрьму по этому делу.
В тот день, снимая с меня письменные показания, он вдруг перегнулся ко мне через стол – а дело происходило в присутствии начальника тюрьмы – и, сверившись с какой-то бумажкой, которую он вынул из кармана, тихо, почти шепотом, произнес:
– Принц Флёр-де-Лис[63]63
Флёр-де-Лис (Fleur-de-Lys) – в переводе с французского, «цветок лилии». Принц Флёр-де-Лис – прозвище Альфреда Дугласа, полученное им после того, как он написал балладу «Нарцисс и Флёр-де-Лис».
[Закрыть] просил передать вам привет.
Я с недоумением уставился на него. Он снова повторил то же самое. Но я по-прежнему не понимал, о чем речь.
– Этот джентльмен сейчас за границей, – таинственно добавил он.
Только тогда меня осенило – так вот он о ком! И меня, помимо моей воли, начал разбирать смех. Да, да, я отлично помню: я не смог удержаться и расхохотался – в первый и последний раз за все время моего пребывания в темнице. Это был горький смех, в нем звучало все презрение мира.
Так вот оно что: принц Флёр-де-Лис! Мне вдруг стало как никогда ранее ясно – и все последующие события только подтвердили мою правоту, – что, несмотря на случившееся, ты так ничего и не понял. Ты по-прежнему видел себя в роли очаровательного принца в изящной комедии, а не в роли зловещего героя мрачной трагедии.
Все происшедшее представлялось тебе как золотое перо на шляпе (но шляпа эта венчала такую узколобую голову) или как розовый цветок на камзоле (но за этим камзолом было спрятано сердце, что питается Ненавистью, одной только Ненавистью, а вот для Любви, одной лишь Любви, остается абсолютно холодным).
Надо же, принц Флёр-де-Лис! Хотя, в конечном итоге, ты был прав, обратившись ко мне под вымышленным именем. Ведь сам я в то время был лишен какого бы то ни было имени.
В огромной тюрьме, где я томился в неволе, моим именем стали буквы и цифры на двери моей тесной камеры – один из тысячи мертвых номеров на дверях точно таких же камер, выстроившихся вдоль бесконечно протянувшейся галереи; один из тысячи номеров, обозначающих мертвую жизнь.
С другой стороны, есть великое множество реальных, исторических личностей, чьи имена подошли бы тебе гораздо больше, чем придуманный тобой Флёр-де-Лис. По любому из этих имен я легко узнал бы тебя. Но распознать тебя под мишурным забралом и блестками, пригодными лишь для легкомысленного бала-маскарада, было не так-то просто.
Ах, если бы твоя душа – ради нее же самой – стонала бы, раненная жалостью, скорбела бы, терзаемая раскаянием, мучилась бы, истомленная состраданием, она не выбрала б себе такого обличья, чтобы под этой личиной найти доступ в Обитель Скорби!
Все, что есть великого в жизни, великим и выглядит, хотя именно по этой причине, как ни странно, мы не можем его распознать. Ну а мелочи жизни – это символы, с помощью которых жизнь самым наглядным образом преподает нам свои самые горькие уроки. Твой случайный – на первый взгляд – выбор для себя выдуманного имени имел на самом деле символическое значение. Он полностью раскрыл твою суть.
Через шесть недель пришла и третья новость. Я лежал тогда в тюремной больнице, самочувствие у меня было прескверное, и вдруг меня вызывают к начальнику тюрьмы в связи с полученным от тебя письмом, направленным на его имя. В письме, которое он прочитал мне вслух, ты сообщал, что собираешься опубликовать в «Mercure de France» («этот журнал», добавлял ты неизвестно зачем, «примерно соответствует нашему английскому „Фортнайтли ревю“) статью „о суде над мистером Оскаром Уайльдом“ и хотел бы получить „разрешение этого джентльмена на публикацию некоторых выдержек из его писем“. Из каких же, интересно? Оказывается, из тех, что я писал тебе из тюрьмы Холлоуэй!
Подумать только – это ведь те письма, которые, как никакие другие, должны были бы стать для тебя чем-то священным, сокровенным и неприкосновенным! Так нет же, тебе понадобилось опубликовать именно их – и ради чего?
Неужели только ради того, чтобы над ними презрительно кривил губы какой-нибудь пресыщенный dйcadent?! Или чтобы их использовал в своих пасквилях какой-нибудь бесцеремонный и бойкий feuilletoniste?![64]64
Feuilletoniste – фельетонист, писака(фр.).
[Закрыть] Или чтобы их жадно проглатывали и цитировали друг другу юные светские львы из Quartier Latin?![65]65
Quartier Latin – Латинский квартал, где расположен Парижский университет Сорбонна.
[Закрыть]
И если в твоем сердце не нашлось ничего, что могло бы возопить против столь чудовищного святотатства, то, по крайней мере, ты мог бы вспомнить сонет, написанный тем, кто с такой болью, с таким гневом наблюдал, как продают на аукционе в Лондоне письма великого Джона Китса, и тогда ты смог бы наконец понять истинный смысл моих строк:
Что же ты собирался сказать своей статьей? Может быть, тебе просто хотелось, чтобы миру стало известно, как сильно я был привязан к тебе? Но об этом и так знает каждый парижский gamin.[67]67
Gamin – (уличный) мальчишка (фр.).
[Закрыть] Все в Париже читают газеты, а многие даже пописывают для них.
Или ты думал таким образом открыть французам глаза на то, что я гениален? Но французы, слава Богу, видят это и сами; они давно уже сумели распознать и по достоинству оценить всю уникальность моего таланта, чего, между прочим, ты сделать так и не смог – да от тебя этого и нельзя было ожидать.
Или же ты пытался доказать, что гениальности нередко сопутствуют самые удивительные отклонения в страстях и желаниях? Что ж, отлично – но, мне кажется, пусть лучше этим предметом занимается Ломброзо,[68]68
Чезаре Ломброзо (1835–1909) – итальянский судебный психиатр и криминалист, родоначальник антропологического направления (ломброзианства) в криминологии и уголовном праве. Выдвинул положение о существовании особого типа человека, предрасположенного к совершению преступлений в силу определенных биологических признаков.
[Закрыть] а не ты. Кроме того, такого рода патологические явления встречаются и среди тех, кого природа не одарила гением.
А может быть, твоей целью было поведать миру, что в ненавистнической войне между тобой и твоим отцом я служил для вас обоих одновременно и оружием и щитом? Или, более того, что когда твой драгоценный родитель по окончании этой войны подверг меня чудовищной травле, то ему удалось настигнуть меня только потому, что мои ноги запутались в расставленных тобой тенетах? Да, так оно все и было, но, как мне стало известно, об этом уже написал Анри Бауэр,[69]69
Анри Бауэр (1851–1915) – французский журналист и театральный критик; в июне 1895 г. опубликовал в газете «Эхо Парижа» статью, осуждающую судебное преследование Уайльда.
[Закрыть] причем сделал это превосходно.
Даже в том случае, если ты просто хотел подтвердить факты, сообщенные им в своей публикации, то для этого вовсе не было необходимости печатать мои письма – по крайней мере те, что были написаны в тюрьме Холлоуэй.