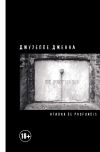Текст книги "Исповедь: De Profundis"

Автор книги: Оскар Уайльд
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Ты, конечно, скажешь в свое оправдание, что в одном из писем, написанных в Холлоуэе, я и сам просил тебя попытаться обелить меня в глазах хотя бы небольшой части общества. Да, не спорю, я действительно просил об этом. Но вспомни, почему я нахожусь здесь и как я сюда попал. Неужели ты думаешь, что я очутился здесь за какие-то особые отношения со свидетелями, выступившими на моем процессе?
Смею тебя уверить, что мои вымышленные или реальные отношения и с ними, и с другими людьми ни в малейшей степени не интересовали ни Правительство, ни Общество в целом. Они ничего не знали и не желали знать об этом, а попал я сюда лишь за то, что попытался посадить в тюрьму твоего отца. Разумеется, мне это не удалось.
Мои защитники не смогли меня защитить. Твой отец сделал так, что мы с ним поменялись ролями, и не он, а я оказался в тюрьме, где и сижу до сих пор. Вот за что меня презирают. Вот из-за чего мной гнушаются. Вот по какой причине мне придется отбывать полный срок в этой ужасной тюрьме – до последнего дня, до последнего часа, до последней минуты. Вот почему на все мои прошения отвечают отказом.
Ты был единственным, кто мог бы, не подвергая себя насмешкам, риску или осуждению, придать всему этому делу иную окраску, представить его в ином свете, приоткрыть хотя бы до некоторой степени истинное положение вещей.
Конечно, я при этом не мог ожидать и даже не хотел бы, чтобы ты рассказывал о том, каким образом и зачем ты просил моей помощи, когда у тебя были неприятности в Оксфорде. или же о том, как почти на целых три года ты сделался моей тенью, бесцеремонно навязывая мне свое общество, и какие при этом ты преследовал цели, если таковые у тебя действительно были.
Точно так же тебе не было бы необходимости рассказывать со всеми теми подробностями, которые я привожу в этом письме, о моих постоянных попытках положить конец нашей дружбе, столь губительной для меня как художника и как человека с определенным положением в обществе, да и, если угодно, просто как члена общества.
Равным образом я бы не хотел, чтобы ты описывал те сцены, которые ты устраивал мне с такой утомительной регулярностью, или чтобы оглашал свои эксцентричные телеграммы, которые ты присылал мне в таком изобилии и в которых романтичность столь причудливо сочеталась с расчетливостью, или чтобы цитировал, как это вынужден делать я в этом письме, самые отвратительные места из твоих писем, говорящие о твоей абсолютной бессердечности.
И все же мне казалось, что было бы очень неплохо – причем не только для меня, но также и для тебя, – если бы ты все-таки попытался опровергнуть представленную твоим отцом суду версию нашей дружбы, столь же абсурдную, сколь и гнусную; столь же нелепую по отношению к тебе, сколь и унизительную по отношению ко мне.
Эта версия уже успела стать достоянием истории, и, по всей видимости, навсегда: на нее ссылаются, ей верят, она стала общепризнанным фактом и излюбленной темой проповедей священников и назиданий ханжей-моралистов, в то время как я, привыкший беседовать со всеми веками – и давно минувшими, и грядущими, – был вынужден выслушивать свой приговор от века нынешнего, века лицемеров и шутов.
Выше в этом письме я уже говорил – причем, признаюсь, не без горечи, – что не удивлюсь, если по иронии судьбы твой отец станет героем нравоучительных брошюр для воскресных школ, тебя поставят в один ряд с отроком Самуилом, а мне отведут место между Жилем де Ретцем и маркизом де Садом. Что ж, если даже так и случится, то, может быть, это и к лучшему. Я не собираюсь сокрушаться по этому поводу.
Один из многих уроков, которые преподает нам тюрьма, заключается в той простой истине, что порядок вещей таков, каков он есть, и все, чему суждено свершиться, свершается. Кроме того, у меня нет ни малейших сомнений, что в компании прокаженного злодея времен средневековья[70]70
Имеется в виду уже упоминавшийся Уайльдом французский маршал Жиль де Ретц.
[Закрыть] или в компании автора «Жюстины»[71]71
Автор «Жюстины» – маркиз де Сад.
[Закрыть] я буду чувствовать себя гораздо уютнее, чем в компании Сэндфорда и Мертона.[72]72
Сэндфорд и Мертон – Уайльд говорит о популярной в XIX в. назидательной книге для детей «История Сэндфорда и Мертона», написанной английским писателем Томасом Деем (1748–1789). Герои этой книги были воплощением викторианской добропорядочности.
[Закрыть]
Но в то время, когда я писал тебе из Холлоуэя, я был убежден, что для нас обоих будет лучше, разумнее и правильнее все-таки попытаться опровергнуть ту ложь о наших с тобой отношениях, которую твой отец сумел навязать через своего адвоката суду в назидание нашему филистерскому обществу. Вот почему я и попросил тебя написать в какую-нибудь газету или журнал и рассказать, хотя бы в самых общих чертах, как все происходило на самом деле. От этого было бы, по крайней мере, побольше толку, чем от тех статеек, которые ты печатал во французских газетах о семейной жизни своих родителей.
Ну скажи мне, какое французам дело до того, жили ли твои родители в согласии или нет? Невозможно представить себе более неинтересную для них тему. Их интересовало другое – как получилось, что знаменитый писатель, оказавший своим творчеством такое заметное влияние на французскую мысль, развивавший то направление в искусстве, олицетворением которого он сам был, мог своей жизнью навлечь на себя подобную травлю и подобный трагический финал?
Я мог бы еще понять, если бы ты решил опубликовать в своей статье, о намерении написать которую ты сообщил начальнику моей тюрьмы, отрывки из тех моих писем к тебе – а таких, я думаю, большинство, – в которых я писал о твоем пагубном влиянии на мою жизнь, о тех безумных приступах ярости, которым ты поддавался во вред и мне и себе, о моих неоднократных попытках положить конец нашей дружбе с тобой, во всех отношениях губительной для меня, – но даже в этом случае я все равно не разрешил бы их публикацию.
Мне вспоминается в связи с этим, как адвокат твоего отца, пытаясь уличить меня в непоследовательности, внезапно предъявил суду мое письмо, написанное тебе в марте 93 года. В нем я заявлял, что скорее предпочел бы «подвергаться регулярному вымогательству со стороны каждого арендодателя в Лондоне», чем выносить те гнусные сцены, которые ты беспрестанно и с таким противоестественным удовольствием устраивал мне.
Так вот, видеть, как эту глубоко личную сторону нашей дружбы выставили напоказ перед глазами охочей до дешевых сенсаций публики, было мне мучительно больно. Но еще более острую муку, еще более глубокое разочарование я испытал, когда убедился в полной твоей неспособности видеть то, что в жизни есть удивительного, чувствовать то, что в жизни есть утонченного, и воспринимать то, что в жизни есть прекрасного, о чем красноречиво свидетельствовало твое намерение опубликовать как раз те мои письма, в которых (и посредством которых) я старался сохранить живыми самый дух и саму душу Любви, чтобы не дать им покинуть мою телесную оболочку во все долгие годы предстоящих мне унижений.
Боюсь, я слишком хорошо понимаю, что тобой двигало. Если глаза твои были ослеплены Ненавистью, то веки твои сшило стальной нитью Тщеславие. Твоя беспредельная самовлюбленность притупила в тебе то свойство души, «которое одно лишь позволяет человеку понимать других в их реальных и идеальных проявлениях», и от длительного бездействия оно сделалось полностью бесполезным. Воображение твое томилось, как и я, в тюремной камере, Тщеславие забило окна в ней досками, а тюремщиком твоим была Ненависть.
Катастрофа разразилась в начале ноября позапрошлого года. Меж тобою сегодняшним и этой затерявшейся вдали датой протекла полноводная река жизни. Вряд ли ты сумеешь разглядеть что-нибудь за этой неохватной ширью, тогда как мне кажется, что это происходило… нет, я даже не скажу вчера, а сегодня.
Страдание – это непрерывное, никогда не кончающееся мгновение. Его невозможно разделить на дни, на месяцы, на времена года. Мы можем лишь подмечать различные его нюансы и устанавливать, в какой последовательности они повторяются. У нас здесь само время остановилось в своем поступательном движении вперед. Вместо этого оно идет по кругу, вращаясь вокруг единого центра боли. Над нами господствует парализующая неподвижность жизни, в неизменном распорядке которой каждой мелочи отведено свое место, – мы едим, пьем, выходим на прогулку, ложимся и молимся (или, по крайней мере, становимся на колени для молитвы) в соответствии с кем-то установленными непреложными правилами и железными предписаниями.
Это свойство неподвижности жизни, придающее каждому ужасному дню полнейшее сходство с его собратьями, как бы сообщается и тем внешним силам, самой сущностью которых, казалось бы, являются непрерывные изменения.
О наступлении времени сева или жатвы, о жнецах, склонившихся над колосьями пшеницы, о сборщиках винограда, медленно пробирающихся в гуще увешанных спелыми гроздьями виноградных лоз, о траве в фруктовом саду, ставшей белой от опавшего цвета или усыпанной созревшими плодами, – обо всем этом мы ничего не знаем и не можем узнать.
У нас в тюрьме лишь одно время года – время Скорби. Даже солнце, даже луну – и те у нас отняли. День снаружи может быть золотым и лазурным, но для того, кто сидит внутри под тусклым, крохотным, забранным решеткой окошком, он всегда сер и уныл.
В камере вечные сумерки – и вечный сумрак в сердце. В сфере мысли, как и в сфере времени, движение тоже застыло. Вот почему то, что давно уже забыто тобой или может легко быть забыто, происходит со мной до сих пор и будет снова происходить и завтра и послезавтра. Помни об этом, и тогда ты хоть отчасти поймешь, почему я пишу тебе вообще и подобным образом в частности.
Через неделю после ареста меня перевезли сюда. А еще через три месяца умерла моя мать. Никто лучше тебя не знает, как я любил и чтил ее. Ее смерть настолько ужаснула меня, что я, всегда умевший выразить любые оттенки мысли и чувства, не в состоянии был, да и сейчас не смогу, найти нужных слов, чтобы передать испытанные мною боль и чувство стыда. Никогда, даже в пору наивысшего расцвета моего писательского мастерства, я не сумел бы отыскать таких фраз, которые смогли бы вынести на себе страшное и в то же время величественное бремя постигшего меня горя; которые смогли бы с исполненной достоинства трагической торжественностью прошествовать под звуки траурной музыки сквозь сумрачные покои моей невыразимой скорби.
Мои мать и отец завещали мне высокое имя, оставившее заметный след не только в литературе, искусстве, археологии и науке, но и в истории народа моей родной Ирландии, в ее национальном становлении и развитии.
И как же я поступил с этим благородным именем? Навеки обесчестил его, превратил в символ низости в глазах низкого люда, вывалял в грязи, отдал глупцам на глумление, чтобы они сделали его синонимом глупости, позволил черни завладеть им, чтобы она очернила его.
Что мне пришлось тогда выстрадать и как я страдаю сейчас – этого и перо не опишет, и бумага не выдержит. Моя жена, проявлявшая ко мне в час постигшего меня горя максимум доброты и участия, проделала весь долгий путь из Генуи в Англию (хотя и чувствовала себя нездоровой) специально для того, чтобы я узнал об этой невосполнимой, невозвратной утрате именно от нее, а не из чьих-либо равнодушных или враждебных уст.
Свои соболезнования прислали мне все, кому я по-прежнему оставался дорог. Даже те, кто не знал меня лично, услышав, какое новое горе пришло в мою и без того разбитую жизнь, просили передать мне свое искреннее сочувствие. Ты один остался равнодушен, никаких соболезнований мне не передал, ничего мне не написал.
О такого рода поступках лучше всего можно сказать словами Вергилия, с которыми он обратился к Данте, когда они с ним проходили мимо тех, чья жизнь была лишена благородных порывов и высоких устремлений: «Non ragioniam di lor, ma guarda, e passa».[73]73
«Non ragioniam di lor, ma guarda, e passa» – «Не будем говорить о них, а взглянем лишь и пойдем далее» (итал.) (цитируемая строка из «Божественной комедии» Данте приведена в переводе В. Чухно).
[Закрыть]
Проходит еще три месяца. Из висящего снаружи на двери моей камеры календаря, где указаны мое имя, а также срок наказания и где регулярно отмечается мое поведение и выполненная за день работа, я узнаю, что на дворе уже май. Мои друзья снова навещают меня. Я, как всегда, расспрашиваю их о тебе. Мне отвечают, что ты сейчас на своей вилле в Неаполе и собираешься выпустить томик стихов. К концу разговора случайно выясняется, что ты решил посвятить стихи мне, и эта новость вызывает у меня какое-то гадливое чувство. Но я ничего им не говорю, а молча возвращаюсь в свою камеру, переполненный возмущением и презрением.
Как же ты мог додуматься посвятить мне книгу стихов, не испросив сначала моего разрешения? Как ты мог пойти на такое? Ты, конечно, скажешь в ответ, что в те дни, когда я был в зените славы и популярности, я, дескать, не возражал, чтобы ты посвятил мне свои первые опусы?
Да, действительно, не возражал, но должен тебе сказать, что я принял бы подобный знак уважения от любого юноши, вступающего на трудную и прекрасную стезю литературного творчества. Художнику всегда приятно принимать дань восхищения от почитателей – и уж вдвойне приятно от юности. Лавровые листья вянут, если собирают их увядшие руки. Только юность имеет право венчать художника лавровым венком. В этом и состоит основное преимущество молодости, хотя молодые этого не сознают.
Но дни унижения и бесчестья, как ты понимаешь, далеко не то же самое, что дни славы и популярности. Тебе на собственном опыте еще предстоит убедиться, что Благополучие, Наслаждение и Успех спечены из муки грубого помола и сшиты из сурового полотна, тогда как Горе и Скорбь хрупки и ранимы, как ничто другое на свете. На любое, даже самое легкое, самое неощутимое движение в материальном или идеальном мире Горе и Скорбь отвечают самым острым и болезненным образом. По сравнению с их мучительным трепетом дрожание тончайшего листика золота под воздействием невидимых глазу сил кажется несравненно более грубым.
Горе и Скорбь – это раны, кровоточащие от любого прикосновения, кроме легкого касания руки Любви, но даже и в этом случае кровотечение продолжается, хотя уже и без боли.
Если уж ты написал начальнику Уондсвортской тюрьмы,[74]74
Уондсвортская тюрьма – первые полгода своего заключения Уайльд провел в тюрьмах Пентонвилл (с 25 мая 1895 г.) и Уондсворт (с 4 июля 1895 г.), а остальное время – в Редингской тюрьме (с 13 ноября 1895 г. по 19 мая 1897 г.).
[Закрыть] испрашивая моего разрешения опубликовать мои письма в журнале «Mercure de France» («подобном», как ты ему обьяснил, «нашему английскому „Фортнайтли ревю“«), то почему же ты не обратился к начальнику Редингской тюрьмы, чтобы попросить через него моего согласия посвятить мне свои стихи, какими бы фантастическими причинами ты и ни обосновывал бы свою просьбу?
Не потому ли, что в первом случае речь шла о журнале, где я мог попросту запретить печатать свои письма, поскольку, как ты прекрасно знал, авторское право на них, а значит, и право давать разрешение на их перепечатку, всецело принадлежало (и принадлежит) одному только мне?
Ну а во втором случае ты так же прекрасно понимал, что свободен поступать, как тебе вздумается, и что я не узнаю о твоем самовольстве до тех пор, пока не будет уже слишком поздно помешать тебе. А ведь уже одно сознание, что меня обесчестили, растоптали, посадили в тюрьму, должно было заставить тебя, если уж тебе так хотелось поместить мое имя нa титульном листе твоей книги, просить у меня об этом как об огромной любезности, высочайшей чести и исключительной привилегии. Ибо только так следует обращаться к тем, кто повергнут в прах и бесчестье.
Место, где обитают Скорбь и Страдание, – священная земля. Когда-нибудь ты поймешь, что это значит. А если не поймешь, ты так ничего и не узнаешь о том, что такое жизнь. Робби и такие натуры, как он, способны это понять.
Когда я в сопровождении двух полицейских был доставлен из тюрьмы в Суд по делам о несостоятельности, меня в длинном, мрачном коридоре этого заведения ждал никто иной, как Робби, чтобы на глазах у всей толпы почтительно снять предо мною шляпу, когда я, в наручниках, с понуренной головой, проходил мимо него.
Увидев этот простой, благородный и прекрасный жест, люди благоговейно притихли. Уверяю тебя, многие оказывались в Раю и за менее благородные деяния. Движимые именно такого рода высокими чувствами и такого рода любовью, святые преклоняли колена, чтобы омыть ноги нищему, или склоняли голову, чтобы поцеловать прокаженного в щеку.
Я ни разу, ни единым словом не обмолвился Робби об этом случае, поэтому не было бы ничего удивительного, если бы он думал, что я вообще не заметил его поступка. Ведь нельзя же благодарить за такие вещи традиционным образом и в традиционных выражениях!
Но память об этом я лелею в глубочайшей сокровищнице своего сердца. Она хранится в нем, как священный и неоплатный долг, и будет вечно там жить, уснащаемая бальзамом обильно проливаемых мною слез.
Когда стало очевидным, что Мудрость не в силах прийти мне на помощь, что Философия не в состоянии вернуть мир в мою душу, что присловья и изречения, призванные утешить меня, – это всего лишь прах и пепел в моих устах, тогда одной только памяти об этом скромном, безмолвном, не рассчитанном на дешевый эффект проявлении настоящей Любви удалось отворить дотоле закрытые для меня родники жалости и сострадания, превратить пустыню моей души в цветущий розами сад, смириться с горькой участью обреченного на одиночество изгнанника и восстановить гармонию моего израненного и разбитого сердца с великим сердцем Мироздания.
Когда ты сумеешь понять, насколько прекрасным был поступок Робби, а главное, почему это имело (и всегда будет иметь) такое огромное для меня значение, только тогда ты, возможно, поймешь, каким образом – в духе почитания и дружеского участия – тебе следовало бы обратиться ко мне за разрешением посвятить мне свои стихи.
Должен, правда, тебе сказать, что такого разрешения я не дал бы в любом случае. Возможно, при других обстоятельствах мне было бы даже приятно, что ко мне обращаются с подобной просьбой, но, как бы мне это ни льстило, я все равно ответил бы отказом – ради тебя самого.
Первый томик стихов, выпускаемый в свет молодым человеком, находящимся в весенней поре своей жизни, должен быть подобен вешнему цветку, белым душистым розам на газоне перед колледжем Магдалины, первоцветам на Камнорских лугах. Такой книге не вынести тяжелого бремени ужасной трагедии и непосильного груза отвратительного скандала.
Если бы я позволил тебе использовать свое имя в роли глашатая, возвещающего о выходе в свет сборника твоих поэтических произведений, я совершил бы непростительную эстетическую ошибку. Это создало бы вокруг твоей книги не слишком благоприятную атмосферу, а в современном искусстве атмосфера чрезвычайно важна.
Современную жизнь характеризуют, с одной стороны, сложность, а с другой – соотносительность всего происходящего в ней. В этом и состоят ее главные отличительные особенности. Для воспроизведения первого мы, художники, создаем определенную атмосферу, то есть передаем тончайшие нюансы, пробуждаем какие-то настроения, изображаем все в необычной перспективе, а второе мы воспроизводим с помощью заднего плана, или фона. Вот почему Скульптуру нельзя больше относить к изобразительным видам искусства, тогда как у Музыки есть все основания считаться одним из них. Вот почему Литература была, есть и навсегда останется самым высоким из всех искусств, отображающих жизнь.
Твоя маленькая книжечка должна была наполнять душу читателя идиллической атмосферой Сицилии и Аркадии, а не тлетворной затхлостью уголовного суда и не смрадным дыханием тюремной камеры.
Кроме того, посвящение такого рода было бы не просто проявлением дурного вкуса для художника – оно было бы совершенно неприемлемо и во всех других отношениях, поскольку свидетельствовало бы о том, что ты не отказываешься от той линии поведения, которой придерживался до и после моего ареста. На людей это произвело бы впечатление глупой бравады. Это было бы проявлением того рода смелости, которая за бесценок покупается, но и за гроши продается в дешевых кварталах позора и бесчестья.
Увы, Немезида не пощадила нашей с тобой дружбы и раздавила нас обоих, как мух. Если бы ты посвятил свои стихи человеку, отбывающему срок в тюрьме, то это было бы воспринято обществом как неуклюжая попытка бросить ему дерзкий вызов; а ведь в своих ужасных письмах, которыми ты заваливал меня в прежние дни (надеюсь, ради тебя же самого, что эти дни никогда больше не возвратятся), ты любил похваляться, что сумеешь кому угодно дать достойную отповедь.
Такое посвящение не произвело бы того положительного, серьезного впечатления, на которое, как я думаю – более того, уверен, – ты рассчитывал. Если бы ты посоветовался со мной, я порекомендовал бы тебе не торопиться с публикацией книги или, если уж тебе так не терпелось выпустить свое творение в свет, напечатать ее сперва анонимно и только потом, после того как твои песни завоюют сердца поклонников – а лишь эти сердца и стоят того, чтобы их завоевывать, – ты мог бы открыть свое лицо перед миром и заявить во весь голос: «Цветы, которыми вы так восхищаетесь, были взращены мною, и вот теперь, в знак любви, уважения и восхищения, я подношу их тому, кого вы считаете парией и изгоем».
Но ты выбрал для этого не самый лучший способ и не самый лучший момент. Есть свои ритмы в любви и свои ритмы в литературе: ты не восприимчив ни к тем, ни к другим.
Я так много говорю об этом лишь для того, чтобы ты смог представить себе мое тогдашнее состояние и понять, почему я сразу же послал моему верному Робби письмо, выразив в нем весь переполнявший меня гнев и все мое презрение к тебе. Я написал ему, что категорически запрещаю тебе посвящать мне твои стихи, и попросил его позаботиться о том, чтобы те места в моем письме, которые касаются твоей особы, были слово в слово скопированы и пересланы тебе. Мне казалось, что пришло наконец-то время, когда мне удастся заставить тебя хотя бы отчасти увидеть и осознать все, что ты натворил.
Духовная слепота человека, если не остановить ее развитие вовремя, может стать просто-таки чудовищной, а лишенная воображения натура, если не попытаться ее пробудить, может окаменеть до полной бесчувственности. И хотя тело человека живет, как и прежде, то есть он продолжает и есть, и пить, и предаваться наслаждениям, душа его, чьим вместилищем служит тело, умирает, как душа Бранки д'Орья[75]75
Бранка д'Орья – о муках этого знатного генуэзца рассказывается в тридцать третьей песне Дантова «Ада». Бранка д'Орья убил на пиру своего тестя, Микеле Цанке, за что и попал в ад. Более того, в его тело вселился дьявол.
[Закрыть] в «Божественной комедии» Данте.
Видимо, мое письмо было как нельзя более своевременным. Насколько я могу судить, оно поразило тебя словно гром среди ясного неба. В своем ответе Робби ты пишешь, что оно «лишило тебя дара мысли и речи». Очевидно, так оно и было, потому что ты ничего лучшего не придумал, как в письме к своей матери пожаловаться на меня.
Ну а она в своей извечной и пагубной для обоих вас слепоте к тому, что для тебя хорошо, а что плохо, стала, разумеется, утешать тебя, как могла, но в результате ее стараний ты был повергнут в еще более подавленное и безутешное состояние.
Что же касается моей особы, то твоя матушка дала моим друзьям знать, что «ужасно рассержена на меня» из-за моих резких высказываний о тебе. Собственно, она говорила об этом не только моим друзьям, но и тем – а их, как ты прекрасно знаешь, во сто крат больше, – кого никак нельзя считать таковыми. Через близкие тебе и твоему семейству источники мне стало известно, что ее усилия были далеко не напрасны: я полностью потерял то сочувствие, которое вызывал обрушившимися на меня испытаниями у тех, кто восхищался моим литературным талантом. Люди стали говорить примерно так: «Ну вот, сначала он хотел засадить в тюрьму любящего отца, а когда ему это не удалось, он берет и вымещает свою злость на ни в чем не повинном сыне! Что ж, выходит, мы не напрасно презирали его! Он полностью заслужил свою участь!»
Казалось бы, что если уж твоя мать при упоминании моего имени не испытывает ни сожаления, ни раскаяния по поводу той активной роли, которую она сыграла в уничтожении моего домашнего очага, то у нее должно было бы достать приличия помолчать хотя бы уж в данном случае.
Ну а что касается того, как повел себя в этой ситуации ты, то не лучше ли было бы для тебя самого, если бы ты не жаловался на меня своей матери, а написал бы непосредственно мне? Неужели тебе не хватило храбрости высказать мне все то, что у тебя накипело тогда на душе? Скоро уже год, как я отослал то письмо. Вряд ли ты все это время был «лишен дара мысли и речи». Почему же все-таки ты не написал мне? Ведь ты прекрасно видел по моему письму, как глубоко я был ранен и взбешен твоим поведением.
Более того, наконец-то твоя дружба со мной предстала перед тобой в ее истинном свете, без каких-либо приукрашиваний и недомолвок. В былые дни я часто говорил тебе, что ты губишь мою жизнь, но ты всегда смеялся в ответ. Еще на самой заре нашей дружбы Эдвин Леви[76]76
Эдвин Леви – по предположениям некоторых английских литературоведов, Эдвин Леви – частный детектив; по мнению других – ростовщик, у которого Уайльд взял под проценты деньги, чтобы помочь Альфреду Дугласу выпутаться из неприятностей.
[Закрыть] – тот самый, к кому мы обратились за советом и помощью, когда с тобой в Оксфорде случился уже не раз упомянутый мной неприятный инцидент, – был немало поражен тем, что в этой критической для тебя ситуации ты, вместо того чтобы испытывать ко мне благодарность за поддержку и понесенные мной денежные расходы, старался подставить меня под главный удар и вел себя крайне вызывающим и возмутительным образом. Он целый час уговаривал меня порвать с тобой всяческие отношения.
Но когда я рассказал тебе – уже в Брэкнелле – об этом долгом и произведшем на меня глубокое впечатление разговоре, ты разразился презрительным смехом. А когда я добавил, что тот несчастный молодой человек,[77]77
Уайльд имеет в виду Альфреда Тейлора, попавшего на скамью подсудимых по обвинению в гомосексуальных связях с несколькими юношами, но не давшего на суде показаний против Уайльда. Возможно, именно с Тейлором и был связан тот неприятный инцидент, в который оказался впутанным Дуглас и в связи с которым он обратился за помощью к Уайльду.
[Закрыть] который впоследствии сел вместе со мной на скамью подсудимых, тоже предупреждал меня – причем не один раз, – что ты намного опаснее всех тех простых ребят, с которыми я по легкомыслию водил в то время знакомство, и что ты рано или поздно доведешь меня до катастрофы, ты вновь засмеялся, но уже не так весело.
Когда мои слишком благоразумные или недостаточно преданные приятели предостерегали меня против дружбы с тобой или прекращали со мной из-за нее отношения, ты снова-таки смеялся, на этот раз с презрением. Ты просто-таки умирал со смеху, когда я сказал тебе – после того как ты получил от своего отца первое из серии писем, содержащих оскорбления в мой адрес, – что мне, по мере разрастания вашей с ним чудовищной ссоры, предстоит, по всей видимости, стать орудием в его и твоих руках и что кончится это для меня крайне плачевно.
Так ведь и получилось – особенно что касается ужасающих для меня последствий, хотя ты и не смог до конца осознать, чем все это для меня обернулось.
Почему же ты мне не писал? Что мешало тебе? Трусость? Бессердечие? Что именно?
Зная по моему письму к Робби, насколько я возмущен твоим поведением, ты тем более должен был мне написать. Если ты признавал упреки в свой адрес справедливыми, ты должен был дать мне об этом знать. Если же ты считал, что я хоть в чем-то не прав, ты все равно должен был сообщить мне об этом. Я ждал твоего письма. Я был уверен, что даже в том случае, если для тебя уже ничего не значат ни прежняя ко мне привязанность, ни любовь, о которой ты так часто мне заявлял, ни тысячи добрых дел, которые я для тебя совершил и которые ты никогда не умел ценить, ни тысячи долгов благодарности, которых ты мне так и не отплатил, – так вот, я был уверен, что даже в этом случае ты напишешь мне хотя бы из чувства обязанности, самого холодного из всех чувств, которые могут связывать двух человек.
Ты ведь не станешь утверждать, что серьезно поверил тому, будто мне запретили получать какие бы то ни были письма, кроме тех писем от моих близких родственников, что касаются семейных дел. Ты отлично знал, что каждые двенадцать недель Робби посылает мне краткий обзор литературных новостей.
Трудно себе представить что-либо более очаровательное, чем его письма: они полны остроумия, проницательных и метких суждений, непринужденного изящества; они настоящий образец эпистолярного искусства.
Когда их читаешь, кажется, что слышишь голос хорошего, умного друга. Они обладают тем удивительным свойством, которое позволяет назвать их causerie intime,[78]78
Causerie intime – задушевная беседа(фр.).
[Закрыть] как говорят французы. До чего же тонко выражает Робби свое уважение ко мне, взывая то к моему мнению, то к моему чувству юмора, то к моему инстинктивному ощущению красоты, то к моей эрудиции! Как он умеет сотней деликатнейших способов напомнить мне, что некогда я для многих был законодателем, а для некоторых и высшим авторитетом в области Искусства и Стиля! Какой безупречный вкус в литературе и какой замечательный такт в дружбе он проявляет!
Его письма прибывают ко мне, словно маленькие посланцы того прекрасного, нереального, феерического мира Искусства, где я некогда был Королем и где правил бы до сих пор, если бы не дал заманить себя в реальный, несовершенный мир грубых, неудовлетворенных страстей, неразборчивых вкусов, неистощимых желаний и безграничной алчности.
Несмотря на все сказанное, должен признаться тебе (думаю, ты и сам мог бы догадаться до этого), что получить от тебя хоть какую-то весточку – даже из чистого и вполне оправданного любопытства – было бы для меня гораздо важнее и интереснее, чем узнать, что Альфред Остин[79]79
Альфред Остин (1835–1913) – английский поэт, выпустивший в период с 1871 по 1908 гг. двадцать томов своих поэтических произведений, не отличавшихся особыми литературными достоинствами.
[Закрыть] собирается выпустить очередной томик стихов, или что Джордж Стрит[80]80
Джордж Стрит (1867–1931) – английский журналист и писатель.
[Закрыть] продолжает писать театральные рецензии для «Дейли кроникл», или что устами того, кто не в состоянии без заикания произнести панегирик в чей-либо адрес, миссис Мейнелл[81]81
Алиса Мейнелл (1847–1922) – английская поэтесса, эссеист и критик. Ее кандидатуру в качестве поэта-лауреата предлагал в письме в газету «Сатердей ревю» поэт и критик Ковентри Пэтмор (1823–1896).
[Закрыть] была провозглашена будущей сивиллой[82]82
Сивиллы – легендарные женщины-прорицательницы.
[Закрыть] поэтического стиля.
Если бы в тюрьме оказался не я, а ты (но, конечно, не по моей вине – одна только мысль об этом наводит на меня ужас, – а по собственной оплошности, например из-за обманутого доверия к недостойному другу или из-за того, что, оступившись, ты погряз в трясине низких страстей, или доверился кому не следует, либо полюбил того, кто недостоин любви, – словом, по какой угодно причине или вообще без причин), то неужели ты думаешь, что я дал бы тебе чахнуть во мраке и одиночестве, не попытавшись хоть как-нибудь, пусть даже на самую малость, разделить с тобой горькое бремя твоего бесчестья?
Неужели ты думаешь, что, узнав о твоих страданиях, я не страдал бы вместе с тобой, а узнав, что ты плачешь, не проливал бы слез вместе с тобой? Если б ты томился в темнице, заклейменный людским презреньем, я воздвиг бы из своей печали дом, чтобы ждать в нем твоего возвращения, я возвел бы из своей скорби сокровищницу, чтобы все, в чем тебе было отказано людьми, но стократно умноженное, хранилось бы в ней для твоего исцеления.
Если б какие-то невероятные причины или необходимость соблюдать осторожность (что было бы в моем случае даже еще более невероятно) лишили бы меня возможности находиться рядом с тобой и видеть тебя, пусть даже за железной решеткой и в неприглядном обличье, то уж во всяком случае я писал бы тебе, писал бы постоянно и ни с чем не считаясь, в надежде, что хотя бы одна фраза, одно-единственное слово, один-единственный отголосок Любви достигнет тебя.
Если бы ты даже не хотел получать от меня писем, я все равно писал бы тебе – хотя бы для того, чтобы ты знал, что у тебя есть эти письма и они ждут тебя. В моем случае так оно и выходит. Люди мне пишут сюда (или, во всяком случае, имеют такую возможность) не чаще раза в три месяца. Но все эти письма и другие послания администрация тюрьмы оставляет у себя, а я их получу, когда буду выходить отсюда. Да, я не могу их читать, зато знаю, что они меня ждут. Я даже знаю, кто присылает мне письма, и я знаю, что письма эти полны сочувствия, искренней симпатии и доброты. Этого мне достаточно. Ничего больше мне знать не нужно.