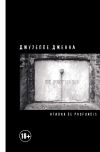Текст книги "Исповедь: De Profundis"

Автор книги: Оскар Уайльд
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Но теперь мое отношение к жизни стало совсем иным. Я ужаснулся, осознав, насколько эгоистично и бессердечно вел себя по отношению к навещавшим меня друзьям, неизменно встречая их со скорбным выражением лица, так что им приходилось напускать на себя совсем уж траурный вид, чтобы я мог видеть, как глубоко они мне сочувствуют. Ну а в качестве «развлечения» я предлагал им безмолвно разделить со мной заупокойную трапезу и поил их горькими зельями.
Но в конце концов я понял, как для меня важно научиться чувствовать себя радостным и счастливым. Последние два раза, когда ко мне на свидание приезжали друзья, я из кожи вон лез, чтобы казаться веселым, и они не могли не заметить этого. Таким образом я старался хоть как-то выразить им свою признательность за то, что они проделали весь этот путь из Лондона специально для того, чтобы повидаться со мной. Я понимаю, насколько это ничтожная плата за их доброе ко мне отношение, но в то же время я абсолютно уверен, что это им было необыкновенно приятно.
А в субботу на прошлой неделе у меня побывал Робби, и тот час, что мы провели вместе, я делал все, чтобы он почувствовал, как я рад – причем совершенно искренне – нашей встрече.
Впервые с начала моего заключения мне сейчас по-настоящему хочется жить, и это лишнее доказательство того, что мысли и взгляды, к которым я пришел за последнее время, и в самом деле верны. В оставшиеся годы жизни мне хотелось бы сделать так много, что, если я умру, не успев осуществить хотя бы малую часть задуманного, это будет настоящей трагедией.
Я вижу новые для себя возможности и в Искусстве и в Жизни, и каждая из них – невиданная ранее грань совершенства. Да, я хочу жить, чтобы иметь возможность исследовать то, что является для меня новым миром. Хочешь знать, о каком новом мире я говорю? Думаю, ты и сам догадаешься. Конечно же это мир, в котором я сейчас живу.
Страдание и то, чему оно меня учит, – вот мой новый мир. Было время, когда я жил ради одних удовольствий. Я всячески избегал страданий и огорчений, какими бы незначительными они ни были. И те и другие были мне ненавистны. Я старался по возможности игнорировать их, видя в них как бы проявление несовершенства нашего мира. Они были чужды моей жизненной системе. Им не было места в моей философии. Моя мать, так хорошо познавшая жизнь во всех ее проявлениях, часто цитировала строки Гете, приведенные – и, я думаю, переведенные – Карлейлем в книге, которую тот подарил ей много лет назад:
Эти строки любила повторять, находясь в изгнании и чувствуя себя безмерно униженной, благородная королева Пруссии,[92]92
Имеется в виду королева Пруссии Луиза (1776–1810), супруга короля Фридриха Вильгельма III, которого она побудила объявить Наполеону войну. В 1806 г. Пруссия потерпела в этой войне поражение.
[Закрыть] с которой столь жестоко обошелся Наполеон; эти же строки часто приводила мне в назидание мать, особенно в последние годы, когда ее постигло так много несчастий.
Я же отказывался принимать и признавать заключенную в этих строках великую истину, которую я не был в состоянии постигнуть в те годы. Прекрасно помню, как я неоднократно говорил матери, что не желаю есть свой хлеб в печали и не хочу проводить свои ночи в слезах, страшась горького рассвета.
Я тогда с трудом мог представить, что Судьба уготовила мне именно такую участь и что в течение целого года я только и буду делать, что печалиться и стенать, – но так уж, видно, было у меня написано на роду.
И вот в последние несколько месяцев, после неимоверных усилий и отчаянной борьбы с самим собой, я наконец научился внимать урокам, сокрытым в самой сердцевине страданий.
Священнослужители и те, кто любит произносить высокопарные изречения, не понимая их смысла, часто говорят, что Страдание – это таинство. На самом же деле оно – откровение. Совершенно неожиданно открываешь для себя то, о чем раньше и думать не мог. Всю историю человечества начинаешь воспринимать по-иному. И то, что видел в Искусстве лишь интуитивно и бессознательно, вдруг предстает перед тобой с предельной, кристальной ясностью.
Теперь я вижу, что Печаль – а она, на мой взгляд, самое возвышенное чувство, которое может испытывать человек, – является, наряду со Страданием, одновременно и темой и критерием по-настоящему великого Искусства.
Художник всегда ищет в жизни те ее проявления, в которых душа и тело едины и нерасторжимы и в которых внешнее является выражением внутреннего, а форма раскрывает содержание. Подобных явлений мы встречаем достаточно много, и в качестве примера я в первую очередь назвал бы такой феномен, как юность и посвященные ей произведения искусства.
Другой прекрасный пример – современная пейзажная живопись. Она столь тонко передает всю изысканность чувств, навеваемых на нас природой, столь проникновенно и ненавязчиво отображает душу, обитающую во всех окружающих нас предметах независимо от их внешней формы (в земле и воздухе, городе и тумане, цветке и камне), столь остро пробуждает в нас какое-то щемящее чувство, созвучное настроению, колориту и экспрессии полотна, что мы с полным правом можем утверждать: да, современный пейзаж вполне способен передавать в живописной форме то, что древние греки с такой виртуозностью воплощали в своих совершенных скульптурах.
В качестве самого сложного примера, иллюстрирующего мою мысль, я, пожалуй, привел бы музыку, поскольку то, о чем она нам говорит, и язык, который она для этого применяет, слиты в ней воедино, а в качестве самого простого примера назвал бы ребенка или цветок. Ну а высшее проявление Прекрасного как в Жизни, так и в Искусстве – это, безусловно, Страдание.
За Радостью и Смехом может скрываться натура грубая, черствая и жестокая. Но за Страданием кроется одно лишь Страдание. Страдание, в отличие от Наслаждения, никогда не надевает маску.
Истина в Искусстве проявляется не в преходящем соответствии вечной идеи ее конкретному воплощению, не в похожести формы на ее тень и не в сходстве образа с его отражением в кристалле; она – не эхо, долетающее до нас с полых холмов, и не серебристо-зеркальный источник в долине, в который смотрятся, любуясь собой, Луна и Нарцисс.
Истина в Искусстве – это единство внешнего и внутреннего, это нераздельность формы и содержания, это душа, нашедшая свое материальное воплощение, и тело, исполненное духа. Вот почему со Страданием не сравнится никакая другая истина. Порой мне даже кажется, что Страдание – единственная абсолютная истина. Иные вещи могут быть обманом зрения или вкуса, иллюзиями, призванными ослаблять первое и притуплять второе, но из Страдания построены целые миры, и дети, как и звезды, всегда рождаются в муках.
Более того, в Страдании удивительным образом сосредоточена вся наша жизнь. Я уже говорил в начале письма, что меня считают своего рода символом искусства и культуры нашего времени. Так вот, в этом ужасном месте, где я нахожусь сейчас, среди этих несчастных существ, сидящих вместе со мной, нет ни одного человека, кто не был бы символом какой-нибудь тайной стороны жизни. Ибо тайна жизни – в страдании. Оно таится везде и повсюду.
На заре нашей жизни сладкие минуты кажутся нам столь сладостными, а горькие – столь исполненными горечи, что помимо своей воли мы устремляем наши желания к одним только удовольствиям и мечтаем не «месяц или два вкушать душистый мед»,[93]93
Строка из стихотворения Суинберна «Перед расставанием».
[Закрыть] а всю свою жизнь не знать иной пищи, и нам даже не приходит в голову, что на самом деле мы морим голодом нашу душу.
Помню, как однажды я разговорился об этом с одной из самых прекрасных женщин, каких мне доводилось встречать в своей жизни, – с женщиной,[94]94
Этой женщиной была Аделя Шустер, дочь франкфуртского банкира, одно время жившая в Лондоне. Она не только проявляла к Уайльду сочувствие в трудные для него минуты, но и помогала ему финансово. В 1895 г. она перевела на его счет значительную по тем временам сумму в 1000 фунтов. Среди немногочисленных венков, присланных в день похорон на могилу Уайльда, был и ее венок.
[Закрыть] чье сочувствие и огромную ко мне доброту как до, так и после того, как я оказался в тюрьме, я даже описать не могу; с женщиной, которая, как никто другой в целом мире, помогла мне вынести бремя свалившихся на меня несчастий, хотя и сама не подозревала об этом, – помогла хотя бы уже тем, что живет на этой земле и что она такая, какая есть.
Это идеальная женщина, в обществе которой хочется стать лучше и чище и которая уже одним своим присутствием помогает человеку достигнуть этого. Это благородная душа, рядом с которой легче дышится, рядом с которой самые высокие духовные устремления кажутся столь же естественными, как солнечный свет или морская гладь. Это прекрасная женщина, в восприятии которой Красота и Печаль идут рука об руку, неразрывно связанные друг с другом.
Так вот, когда мы с ней разговаривали, я высказался в том духе, что на долю жителей какого-нибудь глухого лондонского закоулка выпадает слишком уж много страданий, чтобы они поверили в то, будто Господь действительно любит человека, и что любое, даже самое малое горе, переживаемое, например, ребенком, проливающим горькие слезы в глухом уголке сада из-за какого-нибудь ничтожного проступка, ставит под сомнение разумность и красоту мироздания.
Я, конечно, глубоко ошибался, и она мне сказала об этом, но тогда я ей не поверил. Мои взгляды, интересы и убеждения не позволяли мне видеть, как я не прав. Сейчас же мне кажется, что Любовь, и одна лишь Любовь, какого бы рода она ни была, – вот единственное объяснение и оправдание того моря страданий, которым полнится мир. Другого объяснения я не вижу. Более того, я убежден, что другого объяснения и быть не может.
Если, как я уже сказал в этом письме, целые миры и в самом деле были построены из страданий, то опять-таки я убежден, что строили их руки Любви, ибо никаким иным образом Душа человека, для которого и создавались эти миры, не могла бы достигнуть своего полного совершенства. Наслаждения – удел прекрасного тела, страдания – удел прекрасной души. Хотя, конечно, я понимаю, что, когда я заявляю о своей убежденности во всем этом, во мне, скорее всего, говорит гордыня.
Далеко-далеко, подобно волшебной жемчужине, виднеется Град Господень. Он настолько прекрасен, что кажется, будто ребенок, неодолимо влекомый его красотой, может перенестись туда за один летний день. Что ж, наверно, ребенок и может, но не я и такие, как я. Бывает, мелькнет в голове столь блестящая мысль, что кажется, будто никогда ее не забудешь, но потом как-то так получается, что под тяжелую, свинцовую поступь времени незаметно ее упускаешь. Ах, как трудно оставаться на «тех вершинах, что доступны лишь для души полета»![95]95
Строка из стихотворения Вордсворта «Прогулка».
[Закрыть]
Мы, смертные, мыслим категориями Вечности, но движемся сквозь конечное Время, хотя оно и кажется нам, узникам, томительно бесконечным. Впрочем, я достаточно говорил об этом, а также о том изнеможении и отчаянии, которые, сколь упорно ни изгоняй их, вновь прокрадываются в наши темницы и в темницы наших сердец, причем с такой неустанной настойчивостью, что приходится к их возвращению приводить в порядок свой дом, словно к приходу незваного, но важного гостя, или вечно недовольного хозяина, или раба, чьим рабом пришлось стать по воле случая или по собственной воле.
Тебе может показаться странным то, что я сейчас собираюсь сказать, но тем не менее это правда. А заключается она в том, что тебе, живущему на свободе, в праздности и комфорте, легче усваивать уроки Смирения, чем мне, хотя я и начинаю каждый свой день с того, что становлюсь на колени и мою пол в своей камере. Ибо тюремная жизнь, со всеми ее лишениями и ограничениями, пробуждает в человеке мятежный дух. Самое страшное в ней не то, что она разбивает сердце – оно нам для того и дано, чтобы его разбивали, – а то, что она обращает его в камень.
Порою кажется, что только полное безразличие да застывшая на губах презрительная улыбка дадут силы пережить еще один день в тюрьме. Ну а на того, кто возмущен душой, не снизойдет благодать Господня, как говорит нам Церковь, – и говорит с полным основанием, добавлю я, потому что и в жизни, и в Искусстве мятежный дух перекрывает каналы души и лишает способности слышать небесную музыку.
И все же, если я хочу научиться Смирению, то где же мне брать уроки, как не здесь, в тюрьме? Я должен быть преисполнен ликования, зная, что я на верном пути и что лик мой обращен в сторону «врат, ведущих в царство Прекрасного», пусть мне даже и предстоит много раз падать в грязь и сбиваться с дороги в тумане.
Моя новая жизнь (мне нравится иногда называть ее так из любви к несравненному Данте) – на самом деле, конечно, вовсе не новая жизнь, а просто продолжение, развитие, эволюция моей прежней жизни.
Помню, как однажды я сказал одному из друзей – было это в далекие оксфордские времена, когда чудесным солнечным утром, накануне моих выпускных экзаменов, мы с ним бродили под звуки звонкого птичьего щебета по узеньким дорожкам у стен колледжа Магдалины, – что мне хотелось бы отведать плодов с каждого дерева, растущего в саду, имя которому – весь свет, и что с этой страстью в сердце я и вступаю в широкий мир.
Именно так я и провел свою молодость, именно так я и жил. Но, на свою беду, я ограничивался деревьями лишь с той стороны сада, которая была залита золотом солнца, и избегал другой его стороны, погруженной в темень и мрак. Неудачи, бесчестье, нищета, горе, отчаяние, страдания, слезы, бессвязные слова, срывающиеся с губ от боли, раскаяние, с которым человек продирается через тернии на своем пути, совесть, выносящая ему приговор, самоуничижение, которым он наказывает себя, несчастье, посыпающее себе голову пеплом, невыносимая мука, облачающаяся во власяницу и подливающая желчь в собственное питье, – все это пугало меня. И как бы ни избегал я срывать эти горькие плоды с деревьев темной стороны сада, пришло время, когда я был вынужден вкусить каждого из них по очереди, был вынужден питаться исключительно ими – и еще долго, мучительно долго иной пищи у меня не было.
Я нисколько не сожалею, что жил ради удовольствий и получал их в полную меру – ведь если уж чему-то отдаваться, то до конца. Нет таких удовольствий, которых я бы не испытал. Я бросил жемчужину своей души в кубок с вином и шел тропой наслаждений под сладостные звуки флейт. Я жил, питаясь одним только медом. Но бесконечно продолжать такую жизнь я, конечно, не мог – рано или поздно она приедается. Мне нужно было двигаться дальше, меня все больше привлекали неизведанные тайны другой половины сада.
Должен заметить, что уготованная мне судьба была во многом предугадана моими творениями: например, «Счастливым Принцем» или же «Юным Королем», где епископ, обращаясь к коленопреклоненному юноше-королю, говорит: «И не мудрее ли тебя Тот, кто придумал страдание?»
Должен, правда, признаться, что, когда я писал эти слова, они казались мне не более чем просто фразой. Многое из того, что мне предвиделось, нашло отражение в теме Фатума, красной нитью вплетенной в золотую парчу «Дориана Грея» и цветным шитьем пущенной по канве статьи «Критик как художник». В «Душе человека»[96]96
Полное название этого эссе Уайльда – «Душа человека при социализме».
[Закрыть] эта тема обрисована доступно и просто, в «Саломее» же она звучит непрерывно повторяющимся рефреном, отчего пьеса приобретает характер музыкальной баллады. Она нашла свое воплощение и в стихотворении в прозе о художнике, который, взяв «бронзу изваяния „Печали, длящейся вовеки“, создал изваяние „Радости, пребывающей одно мгновение“«.[97]97
Стихотворение в прозе «Художник», перевод Ф. Сологуба.
[Закрыть] Иначе и быть не могло. В каждый данный момент своей жизни человек – это не только то, чем он был, но и то, чем он станет. Человек – это символ, а потому символично и Искусство.
Если мне удастся выразить все это в полной мере, значит, я смогу реализоваться до конца как художник. Ибо творческая жизнь – это непрерывное самосовершенствование. Смирение художника проявляется в том, что, какие бы испытания ни выпали на его долю, он все их принимает с открытой душой, а Любовь художника заключается в ощущении Красоты, которое он имеет смелость обнажать перед миром.
Пейтер в своем романе «Марий-эпикуреец» пишет о том, насколько важно для художника привести свою жизнь в гармонию с религиозной жизнью – в самом глубоком, прекрасном и строгом смысле этого слова. Но Марий – по преимуществу наблюдатель: пусть и идеальный наблюдатель, из тех, кому дано «созерцать спектакль жизни с присущими лишь художнику чувствами» (по определению Вордсворта, считавшего созерцание основным назначением поэта), но все же не более чем наблюдатель, к тому же, по-видимому, слишком поглощенный созерцанием великолепия Святилища, чтобы заметить, что перед ним Святилище Скорби.
Я вижу, насколько глубоко, насколько неразрывно жизнь настоящего художника связана с жизнью Христа, и испытываю огромное удовлетворение при мысли о том, что еще задолго до того, как Скорбь завладела моей душой и привязала меня к себе, я писал в «Душе человека», что человек, стремящийся в своей жизни следовать Христу, должен всегда оставаться самим собой, и в качестве примера назвал не только пастуха, пасущего стадо на склоне холма, и узника, томящегося в темнице, но и живописца, для которого мир – праздник для глаз, и поэта, для которого мир – прекрасная песня.
Помню, я как-то сказал Андре Жиду,[98]98
Андре Жид (1869–1951) – французский писатель, автор романов и нескольких сборников символистских стихов. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1947).
[Закрыть] когда мы с ним сидели в каком-то парижском кафе, что ни в метафизике, ни в этике я не нахожу ничего интересного, но если взять любое из изречений Платона или Христа, то все они применимы к сфере искусства и находят в нем свое наиболее полное воплощение. Мне кажется, эта мысль была столь же глубокой, сколь и новой.
Мы можем увидеть в Христе полное слияние личности с идеалом, что составляет главную черту романтического Искусства, в отличие от классического, и делает Христа предтечей романтического движения в жизни, но важно также, чтобы мы все понимали, что по природе своей Он во многом был подобен художнику – и прежде всего в том, что основу его личности составляло могучее, пламенное воображение. В сфере человеческих отношений он проявлял ту проникновенную способность сочувствовать и сопереживать, без которой в сфере Искусства немыслимо творчество. Проказу Он разделял с прокаженными, слепоту – с незрячими, душевные страдания – с теми, кто живет ради наслаждений, нищету духа – с богатыми.
Ты, надеюсь, и сам теперь видишь, что, написав мне в тяжелую для меня минуту: «Когда ты спускаешься со своего пьедестала, ты становишься совершенно неинтересен. В следующий раз, если вздумаешь заболеть, я уеду немедленно», ты продемонстрировал не только непонимание истинной природы художника, но и неспособность постигнуть то, что Мэтью Арнолд[99]99
Мэтью Арнолд (1822–1888) – английский поэт и критик.
[Закрыть] называл «загадкой Христа».
Вот почему ты не мог усвоить одну простую истину: все, что происходит с другими, происходит и лично с тобой. Если ты решишь выбрать самую важную заповедь, чтобы читать ее на рассвете и на закате, в горе и в радости, вот она: «Все, что происходит с другими, происходит и лично с тобой». Начертай эти слова на стенах своего дома, чтобы солнце золотило их, а луна серебрила, и, если кто-нибудь спросит, что означает эта надпись, можешь ответить, что в ней заключены «сердце Христа и разум Шекспира».
Истинное место Иисуса Христа – среди поэтов. Все его представление о человеческом в человеке проистекает из воображения – и только через воображение может быть осуществлено. Человек был для Него тем, чем боги для пантеиста. Он первый стал относиться к разобщенным народам как к единому человечеству. До Его появления существовали боги и люди, но только Он смог увидеть, что на холмах Жизни есть Бог и есть Человек, и, почувствовав, через чудо сострадания, что в Нем воплощен и тот и другой, Он называл себя то сыном Божиим, то сыном Человеческим – смотря по тому, кем себя ощущал. Он больше, чем кто-либо другой за всю историю человечества, пробуждает в нас то ощущение чуда, к которому всегда взывал Романтизм.
Мне до сих пор кажется непостижимым, как этот молодой поселянин из Галилеи мог прийти к осознанию того, что он призван нести на своих плечах бремя целого мира – все грехи человека в прошлом и все его грехи в будущем; все его страдания в прошлом и все его страдания в будущем.
Много их было, тех, кто грешил: и Нерон,[100]100
Клавдий Цезарь Нерон (37–68) – римский император с 54 г. В 59 г. велел умертвить свою мать, в 62 г. – жену Октавию. Репрессиями восстановил против себя широкие слои римского общества. Опасаясь восстания, бежал из Рима и покончил жизнь самоубийством.
[Закрыть] и Чезаре Борджа,[101]101
Чезаре Борджа (1476–1507) – итальянский генерал, незаконнорожденный сын папы Александра VI. Был известен своей жестокостью и коварством.
[Закрыть] и Александр VI,[102]102
Александр VI (1431–1503) – римский папа с 1492 по 1503 гг.; настоящее имя Родриго Борджа. Был известен своей порочностью и расточительностью. Имел четырех незаконнорожденных детей, одному из которых, Чезаре Борджа, помог сделать карьеру.
[Закрыть] и тот, кто был римским императором и Жрецом Солнца,[103]103
Имеется в виду римский император Гелиогабал, или Элагабал (204–222); в 217 г. стал в г. Эмеса (в Сирии, тогда римской провинции) жрецом сирийского бога солнца Элагабала (соответствует римскому Гелиосу), откуда его имя; расточительность и распутство Гелиогабала вызывали всеобщее недовольство; был убит преторианцами (императорскими гвардейцами); ввел в Риме культ бога солнца Гелиоса.
[Закрыть] и сколько еще других! Еще больше было тех, кто страдал, – имя им легион:[104]104
Евангелие от Марка, V, 9.
[Закрыть] это и те, чье жилище было в могильных пещерах,[105]105
Евангелие от Марка, V, 3.
[Закрыть] и угнетаемые народы, и фабричные дети, и воры, и заключенные, и отверженные, и те, кто безмолвствует в рабстве и чье молчание внятно лишь Богу. Но Он не только осознал свою миссию, Он исполнил ее, так что и поныне все те, кто обращается к Нему в своих помыслах – пусть даже они и не приходят к Его алтарю и не преклоняют колен перед Его служителями, – непостижимым образом чувствуют, что им отпускаются все их грехи, какими бы чудовищными они ни были, и перед ними раскрывается красота их страданий.
Я сказал о Нем, что место Его среди поэтов, и воистину это так. Софокл[106]106
Софокл (ок. 496–406 г. до н. э.) – древнегреческий поэт и драматург, один из трех величайших представителей античной трагедии (двое других – Эсхил и Еврипид).
[Закрыть] и Шелли[107]107
Перси Биш Шелли (1792–1822) – английский поэт-романтик, известный своей вольнолюбивой и интимной лирикой. Автор поэм, а также статей о литературе и искусстве.
[Закрыть] – вот кто Его собратья.
Но и сама Его жизнь – замечательнейшая из поэм. Во всех древнегреческих трагедиях, вместе взятых, не заключается столько величественного и трагического, сколько довелось пережить Ему. Абсолютная безгрешность и духовная чистота главного персонажа этой жизни-поэмы возносят ее на недосягаемые вершины романтического искусства, с высоты которых страдания Пелопа[108]108
Пелоп – в греческой мифологии герой, сын Тантала. Убив Пелопа, Тантал пригласил богов на пир и подал им угощение, приготовленное из тела Пелопа. Разгневанные боги, отвергнув эту нечестивую трапезу, приказали Гермесу вернуть Пелопа к жизни. Гермес выполнил волю богов, погрузив разрозненные члены Пелопа в котел с кипящей водой. Юноша вышел из него наделенным необычайной красотой. Только одно его плечо, которое в задумчивости съела Деметра, опечаленная исчезновением дочери Персефоны, пришлось изготовить из слоновой кости. С тех пор у потомков Пелопа на левом плече сохранялось белое пятно.
[Закрыть] и героев Софокла, какими бы мучительными они ни были, кажутся излишне драматизированными и не вызывают сочувствия.
Становится очевидным, насколько ошибался Аристотель, утверждая в своем трактате о драме, что лицезреть муки невинного совершенно невыносимо.
Ни у Эсхила и Данте, этих суровых мастеров нежности, ни у Шекспира, самого человечного из всех великих художников, ни во всех кельтских мифах и легендах, где красота мира показана сквозь пелену слез, а жизнь человека длится не дольше жизни цветка, не найти столь полного выражения щемящей печали, слившейся воедино с возвышенным трагическим чувством, как мы это видим в последнем акте Страстей Господних.
Тайная вечеря с учениками, один из которых уже продал Его за горстку монет; испытываемая Им скорбь в тихой, озаренной луной оливковой роще; Его вероломный друг,[109]109
Иуда Искариот.
[Закрыть] приближающийся к Нему, чтобы поцеловать Его предательским поцелуем; еще один Его друг, который пока что предан Ему и опираясь на которого, как на скалу,[110]110
Речь идет об апостоле Петре (его имя в переводе с древнегреческого означает «камень, скала»).
[Закрыть] Он надеялся построить для людей Церковь Божию (именно этот ученик отречется от Него прежде, чем петух пропоет на рассвете); Его глубочайшее одиночество; Его смирение и кроткое приятие всего, что вершится с ним и вокруг него, – вот что мы видим.
Наряду с этим перед нами развертываются и иные сцены: мы зрим, как первосвященник в ярости рвет на себе одежды, а Прокуратор, велев принести воды, тщетно пытается отмыться от обагрившей его невинно пролитой крови, каковое преступление навечно сделало его Кровавой Фигурой Истории; как венчают на царство Страдание – одно из самых удивительных событий за всю известную нам историю; как на кресте распинают Невинного на глазах Его матери и Его любимого ученика; как солдаты бросают жребий, решая, кому достанется Его одежда; как мучительно Он умирает, своей смертью явив событие столь огромной важности, что оно стало для Человечества вечным символом; и наконец, как Его хоронят в гробнице, принадлежащей знатному и богатому человеку, завернув в египетское полотно, окропленное дорогими пахучими веществами и благовониями, словно Он царский сын.
Когда представляешь себе сцену распятия чисто с эстетической точки зрения, то начинаешь понимать, насколько нужно быть благодарным Церкви за то, что она в своем главном богослужении воспроизводит Страсти Господни не как трагедию с реками пролитой крови, а как мистерию с использованием диалога, костюмов и жестов.
Кроме того, я всегда с каким-то благоговейным трепетом напоминаю себе, что именно мессе мы обязаны тем, что, внимая певческим диалогам дьякона и священника в ходе службы, мы слышим Греческий Хор,[111]111
Греческий Хор – в древнегреческом театре: обязательный коллективный участник в трагедиях и комедиях, декламирующий (или поющий) свою роль хором.
[Закрыть] дошедший до нас из глубины веков и забытый всеми другими Искусствами.
Красота и Скорбь слились в Христе воедино – и по своей сути, и в своем проявлении, – поэтому Его жизнь можно назвать идеальной, хотя и закончилась она тем, что тьма наступила по всей земле, разорвалась посредине завеса в храме, а к входу в Его гробницу привалили огромный камень.[112]112
Все это произошло после смерти распятого Христа. Вход в гробницу, куда положили Его тело, закрыли камнем первосвященники и фарисеи, которые не верили, что Он, согласно Его собственному предсказанию, воскреснет на третий день после своей смерти; они опасались, что тело Христа выкрадут Его ученики, чтобы объявить людям, будто бы Он действительно воскрес и вознесся на Небо.
[Закрыть]
Думая о нем, мы представляем его то молодым женихом, окруженным группой друзей (Он и сам как-то раз назвал себя женихом), то пастырем, ведущим своих овец через долину в поисках зеленых лужаек и прохладного родника, то песнопевцем, стремящимся выстроить из своей музыки стены Града Господня, то влюбленным, чью любовь не может вместить весь мир.
Чудеса, которые Он творил, кажутся мне такими же волшебными и в то же время естественными, как ежегодный приход весны.
Мне совсем нетрудно поверить в то, что обаяние Его личности было столь велико, что уже одно Его появление приносило мир и покой в души страждущих; или в то, что всякий, коснувшийся Его одежды или руки, тут же забывал о своей боли; или в то, что людям, когда Он проходил мимо них указанной ему свыше дорогой, открывались глубочайшие тайны жизни, ранее взору их недоступные, а те, кто всегда был глух ко всем голосам, кроме голоса Наслаждения, вдруг начинали слышать голос Любви, находя его «сладкозвучным, как Аполлонова лютня»;[113]113
Строка из драматической поэмы Джона Мильтона «Комус».
[Закрыть] или в то, что дурные страсти обращались при Его появлении в бегство; или в то, что люди, чье тусклое, лишенное возвышенных устремлений существование было всего лишь разновидностью смерти, словно вставали из могил, услышав Его зов, или в то, что, когда Он читал свою проповедь на склоне горы, слушавшие Его люди забывали и про голод, и про жажду, и про заботы мира сего, или в то, что друзьям, внимавшим Ему, когда Он сидел с ними за трапезой, грубая пища казалась изысканной, вода имела сладкий вкус вина, а весь дом казался наполненным благоуханием нарда.
Ренан[114]114
Жозеф Эрнест Ренан (1823–1892) – французский писатель, историк религии. В «Жизни Иисуса» (в 8 книгах, 1863–1883 гг.) изобразил Иисуса Христа исторически существовавшим проповедником.
[Закрыть] в своей «Жизни Иисуса» – в этом, я бы сказал, Пятом Евангелии, исполненном сострадания к Христу и действительно заслуживающем того, чтобы быть названным Евангелием от Фомы,[115]115
Как известно, в Новый Завет входят четыре Евангелия – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Фоме (или св. Фоме), который тоже был учеником Христа и апостолом, приписывается так называемое Евангелие от Фомы, которое не входит в Новый Завет и, в сущности, является набором изречений Христа.
[Закрыть] – говорит, что самый удивительный феномен Христа заключается в той огромной любви, которую Он вызывал у людей не только при жизни, но и после смерти. Если Его место и в самом деле среди поэтов, то Он, несомненно, первейший среди тех из них, кто посвятил свою музу любви. Он знал, что любовь – это утраченная тайна мироздания, которую всегда пытались найти мудрецы, и что только через любовь можно коснуться сердца прокаженного или Стоп Божиих.
Но Иисус Христос прежде всего – индивидуалист, индивидуалист до мозга костей. Смирение (точно так же, как и кроткое приятие всего, что вершится, будто бы свойственное артистической натуре) является ничем иным, как одним из проявлений человеческой сущности.
Душа человека – вот что всегда интересует Христа и чего он ищет в человеке. Он называет ее «Царствием Божиим» – з вбуйлеЯб фп иеьх – и находит ее в каждом из нас. Он сравнивает ее с такими мелкими предметами, как крохотное семя, щепотка дрожжей или жемчужина. Ибо свою душу мы обретаем только тогда, когда очищаем ее от чуждых нам страстей, от всего поверхностного и наносного – причем не только дурного, но и хорошего.
Со всем упорством, на которое способна моя воля, со всей мятежностью, свойственной моей натуре, сопротивлялся я ударам судьбы, пока у меня не осталось ничего на свете, кроме Сирила. Я потерял свое доброе имя, положение в обществе, счастье, свободу, состояние. Я стал узником и нищим. Единственное, и самое ценное, что у меня оставалось, – это мой старший сын. И вдруг я узнаю, что суд отобрал у меня и его. Удар был столь же внезапным, сколь сокрушительным, и я окончательно растерялся. И тогда я бросился на колени, низко склонил голову и со слезами на глазах произнес: «Тело ребенка что тело Господне: я недостоин обоих». Думаю, эта минута меня спасла.
В тот момент я увидел, что мне остается только одно: со смирением принять свою участь. И с тех пор – пусть тебе это и покажется странным – я стал намного счастливее. Ведь в ту минуту мне было дано постигнуть свою душу. И хотя я всегда вел себя с ней, как с врагом, она приняла меня как друга. Когда общаешься со своей душой, становишься простым и бесхитростным, словно дитя, – такими и пристало нам быть по заветам Христа.
Наша трагедия заключается в том, что только немногие из нас «успевают познать свою душу»[116]116
Слова из поэмы Мэтью Арнолда «Южная ночь».
[Закрыть] до того, как уходят из жизни. «Редко кто способен поступать, руководствуясь собственной волей», – говорит Эмерсон,[117]117
Ралф Уолдо Эмерсон (1803–1882) – американский философ, эссеист и поэт, представитель романтизма. Приведенные строки – из посмертно опубликованной лекции «Проповедник», вошедшей в книгу «Лекции и биографические заметки» (1883).
[Закрыть] и он совершенно прав. Большинство людей – это тени других людей; их мысли – перепев чужих мыслей, их жизнь – подражание чужой жизни, их страсти – эхо чужих страстей.
Христос был не только воплощением индивидуализма, но и самым первым индивидуалистом во всей истории. Люди же всегда пытались видеть в Нем обыкновенного благотворителя (вроде тех ужасных филантропов, которых столько развелось в XIX веке) или причисляли Его к альтруистам, тем самым ставя Его в один ряд с людьми сентиментальными и не слишком последовательными в своих убеждениях. Но Он не был ни тем, ни другим.
Конечно, Он испытывал жалость и к бедным, и к тем, кто томится в неволе, и к униженным, и к обездоленным, – но гораздо больше Он жалел тех, кто купается в деньгах, кто живет ради одних наслаждений, кто теряет свободу, отдаваясь в рабство вещам, кто носит роскошные одежды и живет в королевских покоях. Богатство и Наслаждение Он считал намного большей трагедией, чем Бедность и Страдание. А что касается альтруизма, то кто лучше, чем Он, понимал, что двигать нами должны не самопринуждение и сила необходимости, а призвание и добрая воля? Ведь сколько бы мы ни старались, собрать с терновника виноград или с чертополоха инжир нам никогда не удастся.
Христос не считал обязательным, чтобы каждый из нас старался жить для других. Не это лежало в основе Его убеждений. Когда Он говорит нам: «Прощайте врагам вашим», Он имеет в виду, что мы должны это делать не ради наших врагов, но ради нас самих, а еще потому, что Любовь прекраснее Ненависти. Увещевая полюбившегося Ему видом своим юношу словами: «Продай все, что имеешь, и раздай нищим», Он думает не о бедственном положении нищих, а о душе этого юноши – прекрасной душе, которую растлевает богатство.
Он смотрит на мир глазами художника, который знает, что, согласно непреложному закону самосовершенствования, поэту положено петь, скульптору – отливать свои мысли в бронзе, а живописцу – делать изображаемый им мир зеркалом своих настроений, точно так же, как боярышнику положено каждый год цвести по весне, зерну – наливаться золотом к жатве, а Луне в предначертанных ей ночных странствиях по небу – превращаться то из круглого щита в серп, то снова из серпа в круглый щит.
Но хотя Христос и не говорил людям: «Живите ради других», Он постоянно подчеркивал, что нет никакого различия между жизнью любого из смертных и жизнью всех остальных. Тем самым Он наделил человека безграничной, поистине титанической личностью. Вот почему с той поры, как Он пришел к людям, история каждого отдельного человека стала одновременно и историей всего человечества.