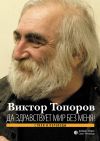Текст книги "Беспокойники города Питера"

Автор книги: Павел Крусанов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Говорят, что ангелы-хранители отчасти перенимают замашки своих подопечных и, чтобы выручить их, готовы на что угодно. Наверное, это правда, потому что ангел-хранитель Гоосса перед его явкой с повинной надоумил дружинника зарубить одного несчастного «химика» именно топором. К приезду Володи дружинник был арестован и ждал суда, а жалостная история, рассказанная супружеской парой, легла на благодатную почву. Его не перевели в лагерь и даже не надбавили срок. Ему оставалось дотерпеть ровно столько, сколько он не дотянул – около девяти месяцев.
Все вернулось на круги своя – он снова пять дней в неделю отсиживает у химической установки и два дня проводит в Питере. И выдержать это нужно уже менее девяти месяцев, а дальше – законная свобода. Но образумить Гоосса не удавалось никогда никому – ни людям, ни судьбе, ни самому Господу Богу. В один из приездов он встречает неотразимую для себя девицу, и начинается очередная большая любовь. Какая уж тут «химия»! Он опять в бегах. Это рецидив, и его объявляют в розыск. Теперь Володе жить в городе негде, да к тому же опасно, и он скрывается от закона у меня на даче в Кирилловском, часть времени – в одиночку, а часть – со своей новой пассией. Это длится с октября по февраль. Он два раза в сутки топит печку и, ленясь готовить, носит пищу домой прямо в тарелках за полкилометра из местной столовой. На даче у меня до сих пор пылится стопка общепитовских тарелок. Когда приезжает его подружка, они пьют водку и курят гашиш.
В критических ситуациях Володя был способен проявлять дерзость и хладнокровие. В один из поздних зимних вечеров в Кирилловском почему-то отключили свет часа на полтора, и за это время некие сообразительные люди успели вскрыть и ограбить магазин. Вызвали милиционеров, и те, за неимением других идей, стали обходить в дачном поселке все немногочисленные дома, где светились окна, и выспрашивать, не видел ли кто чего или не слышал. Гоосс об этом ничего не знал. И вот к беглому преступнику, на которого объявлен розыск, уже ночью заявляются два милиционера. А у него нет вообще никаких документов. Какова его реакция? Он принимает их с широкой улыбкой, предлагает чай. Объясняет, что он друг владельца дачи и пишет здесь картины. Тогда ему вздумалось изобразить на холсте ангела – самого обыкновенного, всамделишного ангела, с крыльями за спиной. Он показывает гостям еще сырое полотно, оно написано яркими звонкими красками и нравится милиционерам. На прощание они говорят: только зачем вы тут держите так много книг, вас же обязательно обворуют, сами видите, что здесь бывает. Гоосс охотно им подпевает: да, да, я скажу хозяину, нынче много развелось преступного элемента.
Сейчас у него достаточно времени для живописи. Он пробует писать «обнаженку» с натуры – свою подружку, сидящую на стуле, на черном фоне. Черный фон означает, что он вспомнил Геннадиева, тот любил портреты на черном фоне и унаследовал это, в свою очередь, от Шемякина. Картина явно не удается, и в раздражении Гоосс закрашивает ее целиком газовой сажей.
Писание с натуры – его слабое место. Это видела в свое время его жена-скульпторша и предлагала ему походить в Академию и пописать в натурных классах (в Академии это допускалось). Володя знал, что многие маститые художники не гнушались иногда писать вместе со студентами с натуры – для поддержания тонуса кисти. Но Гоосс тогда отказался, он – художник андеграунда, и к тому же известный, ему это «западло».
К концу февраля он исчерпал все источники раздобывания денег, сжег все дрова на даче, и зимние каникулы кончились. Володя вторично поехал сдаваться, теперь без моральной поддержки, один на один с судьбой и системой исполнения наказаний. На этот раз ангел-хранитель оказался бессилен. На оставшиеся девять месяцев Гоосс едет в лагерь строгого режима. Это не милосердно и не жестоко – по норме.
Лагерь – на севере Кольского полуострова, у самого Ледовитого океана. Володя продолжает успешно эксплуатировать свой перелом лучевой кости, и он к тому же – художник. Потому попадает не на общие работы, а в «красный уголок». Днем он, не напрягаясь, в одиночестве малюет плакаты и лозунги, и прочую чушь на потребу замполиту, а вечерами с другими зэками курит гашиш, пьет крепкий чай (до чифиря он не дошел) и изводит кого-нибудь из числа новых знакомых, пришедшихся ему не по нраву.
Деятельность замполита оценивается прежде всего по количеству и качеству наглядной агитации. Гоосс трудолюбив, весь лагерь дивно изукрашен его продукцией. Заезжее начальство довольно замполитом, а замполит доволен Гооссом.
В России тогда порнографии не было, и люди, тяготевшие к ней душой, за неимением ничего другого покупали альбомы репродукций классической живописи. Однажды замполит поехал в Питер и в гостях у знакомых увидел полиграфическое воспроизведение «Шествия Дианы» Рубенса. Картинка ему так понравилась, что он взял кальку и прорисовал на ней, как умел, все фигуры композиции. В лагере он выложил кальку перед своим художником и велел сделать живопись. Гоосс сразу смекнул, что от него требуется.
– Я ему такие жопы и титьки забацал, – рассказывал он потом, – Рубенс усрался бы!
В административном поселке людей, равных по рангу замполиту, было еще двое: начальник лагеря и начальник рудника – и они были обречены на застолье втроем. Замполит повесил у себя в столовой Гоосса-Рубенса и пригласил друзей. Это был вечер его триумфа: пока они выпивали и закусывали, гости глаз не сводили с античных красавиц. На следующий день замполит на всякий случай предупредил художника:
– Если тебе кто чего предложит, не вздумай нарисовать такую же! Тогда тебе не жить.
Замполит проникся к зэку-художнику чем-то вроде симпатии. Однажды он принес Гооссу ком гашиша граммов в шестьсот:
– Вот, отобрал у зэков. Ты художник, тебе, наверное, надо.
Шестьсот граммов гашиша в лагере – целое богатство, и в частности, при торговле в розницу, дозами, – большие деньги. Гоосс, понятно, планом не торговал, но обменивал иногда на сигареты и чай – тоже лагерная валюта. Он также угощал приятелей, и у него сложился ближний круг «своих пацанов». А общаясь с замполитом, он заранее знал о многих грядущих событиях, в частности, о шмонах, и это ему прибавляло авторитета. Одним словом, Володя на зоне «стоял крепко», хотя и числился в «придури».
Впоследствии он иногда заявлял, что зона – более справедливая социальная модель, чем государство в целом. Впрочем, как известно, такие суждения в России – не редкость. Он считал, что в лагере процент талантливых людей гораздо выше, чем где бы то ни было. Гуляя по Петербургу, он мог ни с того ни с сего спросить, указывая рукой на прохожих:
– Среди этих мудаков разве найдешь такого, кто вскипятит воду и заварит чай в полиэтиленовом пакете на открытом огне?
Мне Володя однажды сказал, причем без всякого логического повода:
– Если ты когда-нибудь попадешь в лагерь, то станешь там паханом. Не сомневайся, на волю выйдешь богатым человеком.
Этот радужный прогноз не вызвал у меня, мягко говоря, никакого энтузиазма.
Вокруг каждого лагеря есть вторая, прилагерная зона, нечто вроде средневекового русского посада вокруг детинца. В ней живет часть вольнонаемной рабочей силы, а также своеобразные снабженцы, занятые доставкой в лагерь чая, папирос, наркоты и переправкой во внешний мир полученной выручки. В этих негоциях всегда в доле и лагерная администрация. Оседает здесь и кое-кто из отпахавших срок, те, кому не уехать отсюда, поскольку у них нигде нет прописки. А тут прописка не требуется, ибо дальше высылать некуда.
Освободившись, Гоосс в «посаде» попал в объятия своих дружбанов, вышедших на волю раньше него, и загулял с ними. Пропьянствовав две недели, он вспомнил, что впопыхах не успел прихватить с собой запас гашиша, который хранил в «красном уголке», в нарушение своей давней сентенции, на шкафу. Недолго думая, он из лагерной проходной позвонил замполиту и попросил разрешения забрать свои кисти. Тот удивился: это, мол, первый случай, чтобы зэк сам вернулся назад. Конечно, он понял, что у художника на зоне еще какие-то делишки, но посещение «красного уголка» разрешил. В общей сложности Гоосс развлекался в прилагерной зоне месяца полтора.
В Петербурге он несколько остепенился. В очередной раз женился, то есть обзавелся новой возлюбленной и поселился у нее. Вернулся к живописи.
Рекомпенсация продолжается: он не поленился пойти в Государственный архив, и за деньги там получил справку, что его давний предок по прямой линии, некто ван Гоосс, имел дворянское звание.
Далее он съездил по приглашению в Лондон и ухитрился продать там картину за десять тысяч фунтов (с его слов). На время он почувствовал себя обеспеченным человеком, хотя до пачки денег в прихожей было еще далеко.
Теперь Гоосс – авторитетный художник, у него постоянно имеются ученики, и для Володи это – немаловажное обстоятельство. Художников андеграунда постоянно попрекали отсутствием специального образования, с подтекстом, что ты, мол, не настоящий художник. Советская Россия была единственной страной в мире, где художник должен был доказывать, что он художник. Одним из доказательств было наличие учеников. Оно приподнимало учителя и в собственных, и в чужих глазах, и к тому же кого-то учить – это тоже способ учиться. Как только Гоосс стал выставляться, у него появились ученики. Честно сказать, не помню, чтобы кто-то из них всерьез хотел стать художником или бы стал им впоследствии, но игра в учеников живописца им нравилась, она напоминала о славных временах цехового средневековья. В обязанности ученика первым делом входило бегать за выпивкой, натягивать холсты и прибираться в мастерской. Не всем такая форма обучения нравилась, и как-то один из учеников, кажется, по имени Дима, стал попрекать Гоосса, что тот его только гоняет за водкой, а живописи не учит. Володя выслушал его молча, затем подошел к стене, взял свою последнюю, едва высохшую картину и тыльной стороной холста звучно хлопнул ученика по голове. Тот от изумления сразу умолк и к вопросу о методике обучения больше не возвращался. Гоосс был очень доволен этим своим поступком, считая его импровизацией на уровне учителей дзена.
К живописи Володя стал относиться вдумчивее. «Выпуклую», пастозную технику оставил и не возвращался к экспрессионизму. Все время пишет по-разному, что-то ищет. Но не говорит, что именно. Мне думается, он хотел сохранить экспрессию, но при этом загнать ее внутрь, чтобы она была не на поверхности, а в глубине картины. А это запрос очень и очень серьезный, сродни поискам философского камня. В тогдашних полотнах Гоосса экспрессия иногда вообще пропадает, и картины теряют «нерв». Независимо от того, чего он добивался, сколько-нибудь внятной новой манеры Володя найти не успел.
Но все это – нормальные издержки творчества. А в остальном жизнь вроде бы устоялась. Беды позади, художник свободен и эстетически, и физически, твори сколько хочешь и как хочешь. Это – душевный комфорт, и на поведенческом уровне Володя меняется в лучшую сторону. Он общается с людьми спокойнее, все реже проявляет агрессию, и иметь с ним дело стало намного проще, чем раньше.
Но карма есть карма. Любой наш поступок, более того, даже крепко проработанная мысль или сильная эмоция, оставляет после себя эхо, которое многократно к нам возвращается. И Володю время от времени неожиданно, вдруг, начинают одолевать демоны гиперкомпенсации, и в такие минуты ему, чтобы самоутвердиться, нужно кого-нибудь обидеть или унизить. Это вроде рецидивных приступов старой, забытой болезни.
Судьба всегда очень точно находит уязвимые места человека и обрушивает на него свой свинцовый кулак именно тогда, когда он этого не ждет. Все произошло в течение одного дня. На обычной тусовке в мастерской одного живописца – не хочу здесь упоминать его имя, ибо он к происшедшему никак не причастен, – Гоосс познакомился с приезжим молодым человеком, кажется, из Житомира. Тот, как в старое доброе время, сказался поэтом, и ему явно хотелось вписаться в богемную жизнь Петербурга. Как он затесался в компанию художников, никто потом объяснить не мог. Как всегда, что-то пили и о чем-то болтали, затем часть компании, человека четыре, переместилась к Гооссу. Человек из Житомира увязался за ними. У Володи опять что-то пили и о чем-то болтали, и приезжий внезапно решил перестать быть поэтом и сделаться художником, и, вроде бы, стал напрашиваться в ученики к Гооссу. Потом друзья Володи ушли, а человек из Житомира остался. Дальнейшему свидетелей нет, но ясно одно: произошла отчаянная, жестокая ссора. Бывший поэт так озверел, что набросился на хозяина дома с ножом и нанес ему более десятка ударов, последние из которых достались уже покойнику.
Так нелепо и страшно завершил свой земной путь Владимир Гоосс, живописец, мастер скандала, человек удивительной дерзости, активно живущий в памяти всех, кто его знал.
История, по сути, мистическая: человек ниоткуда приехал в наш город специально, чтобы зарезать Владимира Гоосса. Володя был склонен к мистическим размышлениям. В частности, ему очень нравилась история о Черном человеке, пришедшем к Моцарту, чтобы заказать реквием. Она стала для Володи чем-то вроде дзенского коана, он постоянно возвращался к этому сюжету в разговорах, предлагая разные его толкования. И теперь мне в голову порой приходит странная мысль: если бы он сумел правильно истолковать историю про Черного человека, то… Но не будем «умножать сущности» сверх необходимого.
Никто из друзей и знакомых Володи не соглашался примириться с тупой абсурдностью происшедшего, и его смерть сразу же стала обрастать легендами. Никто еще не доказал, что реальность важнее легенды. Скорее наоборот – легенда важнее, ибо она дает защиту от злобного идиотизма фактов.
Вот самая распространенная версия. В последний, благополучный период жизни Гоосса у него появился ученик, способный, но с претензиями, с комплексами, уязвимый и возбудимый. Подобные люди для Володи были всегда, что красная тряпка для быка. Однажды ученик дал повод себя повоспитывать, и Гоосс, как всегда в таких случаях, был беспощаден. Он не заметил, как перегнул палку. Ученик уже задыхался от злости, а Гоосс продолжал говорить ему всякие обидные слова. Озверев от бешенства и потеряв разум, ученик набросился на учителя с ножом и нанес ему семнадцать колотых ран.
А убийца, ужаснувшись содеянному, предпринял бессмысленную попытку спасаться бегством. Он уехал в Печоры, покаялся, и священник, проникнувшись к нему жалостью, стал прятать его в колокольне Собора святого Михаила. Об этом прознали милиционеры и явились с ордером на арест, но батюшка их не впускал в колокольню. А Печоры такое место, что там и милиционерам трудно решиться применить силу к священно служителю, и они действовали убеждением. И пока шла дискуссия внизу, у подножия колокольни, в ее верхнем ярусе несчастный убийца приладил к одной из балок веревку и повесился. Победившая в диспуте милиция смогла арестовать только труп, правда, еще теплый.
И легенда, и факты сходятся в одном: Володя Гоосс умел пробуждать сильные эмоции.
* * *
Этот очерк был написан осенью 2005 года на даче в Кирилловском, где когда-то Володя, будучи «беглым каторжником», скрывался от закона. В числе прочих полотен он тогда написал ангела и, чтобы освободить подрамник, снял с него холст, свернул в рулон и в таком виде подарил мне, сказав, что ангел будет охранять дачу. Со своей работой ангел справлялся плохо – дачу много раз обворовывали, и плюс к тому однажды местные подростки устроили себе праздник вандализма, с тупым остервенением разрушая все, что можно разбить или сломать. Во время этих перипетий полотно с ангелом исчезло, и неоднократные поиски ничего не дали. И вот именно сейчас, после окончания очерка, ангел нашелся сам собой – оказалось, он прятался в стенном шкафу между полками с одеждой и задней стенкой так, что его было не обнаружить ни визуально, ни на ощупь. Как ни странно, пролежав четверть века и вытерпев положенное чередование зимних морозов и весенней сырости, полотно не потеряло ни единой частицы красочного слоя и сияет такими же звонкими красками, как и двадцать пять лет назад. Остается только гадать – простое ли это совпадение или шутка потусторонних сил.
Борис (Пти-Борис) Смелов. Маленькую голенькую девочку спицей по комнате погонять

Борис Смелов
Фотография О. Корсуновой
Его фотографии завораживают. Магическая игра света и тени и точность композиции мгновенно увлекают зрителя во внутреннее пространство фотоснимка, и на выставках отойти от любой из работ Бориса Смелова было всегда непросто. Он был Художником и Петербуржцем – то и другое можно писать с заглавной буквы. Он оставил нам свое видение города, свой «смеловский Петербург», которого не было до него и не будет после. Он был носителем своей особой психологической атмосферы, сочетавшей поклонение высокому искусству, насмешливость и бесшабашность. В его присутствии никто не решался произносить пафосные речи и напускать на себя важность.
С Петербургом он связан был, можно сказать, генетически. Слово «Ленинград» он до крайности не любил и никогда не употреблял. Он с детства знал, что его бабка окончила Бестужевские курсы, и впоследствии, став известным фотографом, Борис сделает серию портретов переживших все войны и революции пожилых курсисток-бестужевок.
Борис всю жизнь прожил в Петербурге, выезжая из него лишь по необходимости, редко, неохотно и ненадолго. Была поездка в Финляндию со своей выставкой, да еще короткие командировки на юг от живописно-оформительского комбината, где Боря работал некоторое время. Он мог бы повторить слова Модильяни: «Я не люблю путешествий, они отвлекают от истинного движения». Была, правда, однажды месячная поездка в Америку, но это сюжет отдельный.
С десяти лет мать начала его систематически водить в Эрмитаж, и с тех пор анфилады и залы Зимнего дворца стали навсегда частью его среды обитания. А еще через пару лет он впервые приходит в фотокружок Дворца пионеров, и фотография становится, по сути, его единственной страстью. На нее так или иначе нанизываются все события его биографии, это и профессия, и увлечение, и образ жизни.
Сначала околдовывает процесс, магия возникновения изображения как бы «из ничего». Человек десяти лет от роду не думает о высотах искусства – это придет намного позднее. А вот чудо рождения фотоснимка не перестает восхищать новичка. Короткий щелчок затвора, томительное ожидание результата проявки – и вот уже можно разглядывать мокрую пленку, на крохотных кадрах которой вместо привычных людей странные негры с белобрысыми волосами, небо – черное, а асфальт – почти белый. Но главнее всего – печать. Отсчитав под увеличителем необходимые секунды экспозиции, в призрачном марсианском свете красного фонаря нужно погрузить в проявитель лист фотобумаги сразу весь, да так, чтобы на ней не осели пузырьки воздуха. И короткая, но напряженная пауза, пока на белом листе не начнут проступать первые размытые темные пятна, постепенно превращающиеся в фотоснимок, который поначалу почти всегда кажется прекрасным.
Руководитель кружка, которого Борис неизменно вспоминал с теплотой, привил ему бескомпромиссную требовательность к качеству: и негативы, и отпечатки – все должно быть сделано безупречно. Это осталось у него на всю жизнь. Из-за небольшого технического огреха он мог забраковать превосходный, с точки зрения друзей, снимок – подобно тому, как Кузнецов из-за одной ошибки в рисунке лично разбивал дорогую, чудесную с виду фарфоровую вазу.
В отличие от большинства фотографов, Пти-Борис никогда не делал пробной контактной распечатки пленки. Опустив очки на кончик носа, он поверх них рассматривал пленку и выбирал нужные негативы. Снимал он в течение жизни разными камерами, но больше всего был привержен к «Лейке» (настоящей, немецкой) и «Роллефлексу». Его любимый кадр – квадратный, шесть на шесть.
Гениальными фотографами для него были прежде всего Судак и Картье-Брессон. Слово «гениально» постоянно присутствовало в его лексиконе, причем могло относиться, например, к Бранкуши и с таким же успехом к какой-нибудь потрясающе глупой девице, получавшей титул «гениальная дура», причем этот эпитет выделялся специфическим ударением, коего не было, когда речь шла о рядовых творческих гениях.
От фотографии Пти-Борис почти не отвлекался. Пару лет он попробовал поучиться в Оптико-механическом институте, прельстившись идеей подвести под свои занятия фотографией научную базу, но вскоре понял, что ему это не нужно.
В начале семидесятых годов на Большой Московской улице, около Владимирской площади, сложилась тусовка молодых фотографов, полных энергии и изобразительной жадности. Это была мастерская Леонида Богданова. Он вел фотокружок в Доме культуры работников пищевой промышленности (в просторечии «у пищевиков»). Днем там к азам фотоискусства приобщались детишки, а вечерами кучковались фотографы. Разглядывали снимки и негативы, много спорили и пили, что Бог пошлет. Иногда пили изрядно. И в любое время суток со штативами и камерами выбирались бродить по городу.
Соответственно профилю работодателя мастерская называлась «лавкой». Смелова роднила с Богдановым одинаково фанатичная приверженность к качеству негативов и отпечатков, к безупречности исполнения – в этом они не признавали никаких компромиссов. Из известных ныне фотографов в «лавке» бывали Анатолий Сопроненков, Сергей Фалин, Василий Воронцов, Владимир Дорохов и Борис Кудряков, к тому же писавший прозу, да еще и живопись. Все они общались с Константином Кузьминским, который устраивал у себя «под парашютом» выставки не только живописи, но и фотографии. Кузьминский – поэт и писатель, ныне живущий в Америке, в семидесятых годах был весьма популярным питерским персонажем. Под потолком его комнаты действительно был растянутый парашют, превращавший слепящую агрессивность киловаттных ламп в комфортное для выставок рассеянное освещение. Именно Костя придумал для Смелова и Кудрякова, отталкиваясь от их комплекции, прозвища, оставшиеся с ними навсегда – Гран-Борис и Пти-Борис, в сленге петербургской богемы – просто Пти и Гран. Пти-Борю друзья часто именовали «Птишкой».
Однажды в «лавке» появилась юная дама, с коей у Пти-Бори начали складываться как бы романтические отношения. И неожиданно для него хитроумная девица учинила идеологическую диверсию. С ее подачи в процессе совместной выпивки они надрезали свои руки и, выдавив в портвейн сколько-то крови, полученную смесь выпили. Им было примерно по двадцать лет, и к кровному побратимству они относились вполне серьезно. Отношения остались в каком-то смысле романтическими, но перешли в декоративную братско-сестринскую категорию. В лексиконе зазвучали слова «братуха», «браток», «сеструха». А через несколько лет Борис познакомился с художником Наталией Жилиной, и очень скоро они поженились. И сын Жилиной, Митя Шагин, бывший младше Бори на шесть лет, тоже пополнил свой словарный запас «братухами» и «братками». Это была первая заготовка будущей митьковской лексики, и влияние Пти-Бори и далее сказывалось на возникавшей в это время идеологии митьков.
Притом что Борис был воспитан на старом, «музейном» искусстве, питал пристрастие к голландской живописи, особо выделяя «Малых голландцев», судьба предоставила ему возможность близкого общения и с представителями современной живописи в ее лучших проявлениях. Он попал в круг замечательных художников, ныне весьма известных, чьи имена еще во времена андеграунда произносились с благоговением. Кроме Наталии Жилиной, в этот круг входили Владимир Шагин, Александр Арефьев, Рихард Васми, Шолом Шварц, Родион Гудзенко. В известной книге «Арефьевский круг» большая часть фотопортретов принадлежит именно Борису Смелову. Он высоко ценил творчество всех без исключения участников этого дружеского кружка.
И для Бориса, и для Наталии Жилиной важным событием было «открытие» и личное знакомство с удивительно талантливым Геннадием Устюговым, по отношению к картинам которого Пти не скупился на слово «гениально».
В его отношениях с окружающим миром и в нем самом было много непредсказуемого. Казалось бы, своим видом и манерой поведения он должен был вызывать жесткое неприятие со стороны старших поколений. Длинноволосый, патлатый, со странной бороденкой, с беспричинной блуждающей улыбкой и слишком острым взглядом из-под круглых стекол очков – не таких маленьких, как у Джона Леннона, но все же слишком маленьких с точки зрения нормативного советского человека. И плюс к этому затейливо выражался. На нем было словно написано «богема», и к ему подобным люди старой, досоветской складки относились пренебрежительно, а советские – подозрительно. Но с Борисом все обстояло иначе: и родители его знакомых, и дедушки с бабушками мгновенно проникались к нему нежностью и норовили взять под опеку.
Какое-то время Пти работал фотографом в издательстве «Художник РСФСР» и был кошмаром для своих начальников. Они его любили, и он делал превосходные и именно такие, как нужно было для дела, снимки, но такие понятия, как «производственная необходимость», не говоря уже о «трудовой дисциплине» и «служебной субординации», были ему совершенно чужды. В его мозгу просто не было клеток, где могли бы размещаться подобные вещи.
Выражался же он затейливо вовсе не из стремления впечатлить собеседников элоквенцией – просто он говорил, как мыслил, а мыслил он очень затейливо. Он пренебрегал общепринятой логикой и постигал мир с помощью сложных многоуровневых ассоциаций, порой совершенно неожиданных для собеседника. Он создавал в воображении собственные образы-символы и сюжеты-символы, коими дальше пользовался как инструментами мышления и общения. Однажды Борис Кудряков показал ему снимок, как бы случайный, почти любительский – какой-то памятник, идут два солдата, видны еще прохожие, в том числе две девицы довольно сексуального вида. Никаких красот нет, все до крайности буднично, ясного сюжета тоже нет, композиция вроде бы есть, но ее еще надо высмотреть, да и напечатано как бы кое-как – а на самом деле все точно выверено и идеально уравновешено вплоть до мельчайшего пятнышка. В общем, снято в обычной манере Гран-Бориса. Это было совсем не похоже на столь любимого Пти-Борей Картье-Брессона, и сам Боря так не снимал, но фотографии Грана ему нравились, а эта – очень понравилась. На следующий день он рассказывал о ней так:
– Круто! Представляешь: идут два солдатика, а навстречу им – две та-акие девахи!
В дальнейшем Пти на этот снимок неоднократно ссылался, он стал для него символом соотношения фотографии с действительностью, знаком перехода в иную реальность, в фотографическое зазеркалье. Что ТАМ произойдет дальше? Может, девахи «склеют» солдатиков, а может – пошлют их подальше, может, среди прохожих вспыхнет всеобщая драка, а может – все они вдруг исчезнут, и останется одинокий памятник на пустой площади. По воле фотографа затвор его камеры приоткрывает окошко в мир на долю секунды и тотчас его захлопывает, и снимок становится исходным пунктом виртуального дерева событий, началом творения неожиданных реальностей, зародышем новой многовариантной вселенной.
Созвучие подобным мыслям Борис находил в рассказе Кортасара «Слюни дьявола» и, относясь вообще к Кортасару с пиететом, особо выделял для себя этот рассказ и снятый по нему фильм Антониони «Blow-up» («Фотоувеличение»).
Таким же ключевым сюжетом-символом, как «идут два солдатика», стала для Пти и другая фраза, также привнесенная в обиход Граном: «Маленькую голенькую девочку вязальной спицей по комнате погонять». Художник никогда-никому-ничего-не-должен и свободен-от-любых-запретов.
Несмотря на использование экстравагантных фразеологизмов, речь Пти не была жаргонной. Он говорил на русском литературном языке, но пользовался им затейливо. Например, такая фраза, как: «С этим человеком не стоит иметь дела», в бытовой беседе для кого угодно была нормальной. Но только не для Бори, для него она звучала казенно, и вместо нее он говорил: «Маленькая зеленая сикараха». Впрочем, «зеленая сикараха», в зависимости от контекста, могла иметь разные смыслы.
Как фотограф Борис работал практически во всех жанрах, но, независимо от жанра, во всем его творчестве есть одно объединяющее начало – Петербург. Все его наследие кратко можно обозначить словами: «Поэма о Петербурге». Помимо собственно города – городских пейзажей, – равноправными частями этой поэмы являются и натюрморт, и портреты Смелова. Любой натюрморт Бориса, начиная с подбора предметов и кончая интерьером, где он поставлен, пронизан духом Петербурга. И в его лучших портретах – будь то бывшие курсистки-бестужевки, а к моменту съемки – почтенные дамы, или прекрасный и широко известный портрет Татьяны Гнедич, или просто пожилые жители нашего города – сразу ощущается дыхание Петербурга. Именно в связи с Пти-Борисом в обиход некоторых фотографов и искусствоведов вошло такое словосочетание, как «петербургский натюрморт».
Важнейшая часть смеловской «Поэмы о Петербурге», конечно же, городской пейзаж. Борис очень любил Достоевского, и главнейшие из его постоянных «фото-маршрутов» пролегали по местам, где когда-то жил сам Федор Михайлович либо его герои.
Борис избегал снимать пейзаж в солнечную погоду, предпочитая мягкий свет пасмурного неба. Ему нравилось фотографировать улицы, набережные, дома сверху, из окон верхних этажей лестниц или даже чердаков, так, чтобы крыши других домов, более низких, казались снятыми с большой высоты. Он любил снимать крыши, они для него были не менее выразительной частью дома, чем фасад. В излюбленных районах своих съемок Борис знал, как попасть на любой чердак, где есть доступ к слуховым окнам, а также на верхних этажах каких лестниц открываются (или выбиты) окна. Понятно, что это знание давалось ценой постоянного марширования вверх-вниз по множеству лестниц шести– и семиэтажных домов. На линии своих маршрутов он знал нрав каждого дома, сквера или спуска к воде и чутко улавливал малейшие изменения в их состоянии, выбирая оптимальные моменты для съемки. Он мог бы с полным правом процитировать от себя слова рассказчика «Белых ночей»: «Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: “Здравствуйте; как ваше здоровье? и я, слава Богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж”». Вообще, тексты Достоевского подходили Смелову, не в том смысле, что он стилизовал свою речь под Достоевского, а по неровной и нервной ритмике и причудливости ассоциаций.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.