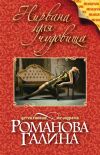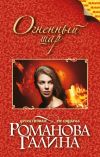Текст книги "В лесах"
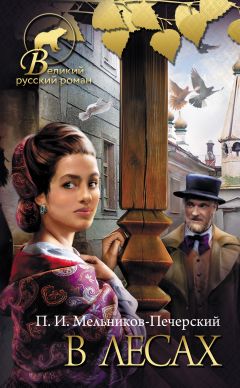
Автор книги: Павел Мельников-Печерский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 55 (всего у книги 77 страниц)
Глава шестнадцатая
Поутру на другой день, как Манефа воротилась с Настиных сорочин, сидела она за самоваром с Васильем Борисычем, с Парашей и Фленушкой. Было уж довольно поздно, а в домике Марьи Гавриловны окна не отворялись. Заметив это, подивилась Манефа и спросила, что б это значило.
– Да ведь она вечор съехала, матушка, – молвила добродушная Виринея, вошедшая под это слово в келью игуменьи.
– Как съехала?.. Куда?.. – быстро спросила удивленная Манефа.
– Не могу этого доложить тебе, матушка, не знаем, куда съехала, – отвечала мать Виринея. – Никому не сказалась, куда поехала и надолго ль.
– Что у вас тут без меня за чудеса творились? – вспыхнула Манефа и, встав с места, засучила рукава и скорыми шагами стала ходить по келье.
– Уж и подлинно чудеса, матушка… Святы твои слова – «чудеса»!.. Да уж такие чудеса, что волосы дыбом… Все, матушка, диву дались и наши, и по другим обителям… Хоть она и важного роду, хоть и богатая, а, кажись бы, непригоже ей было так уезжать. Не была в счету сестер обительских, а все ж в честной обители житие провождала. Нехорошо, нехорошо она это сделала – надо б и стыда хоть маленько иметь, – пересыпала свою речь добродушная мать Виринея.
– Да что ты тарахтишь, старая? – с сердцем молвила, остановят перед ней, Манефа. – Вертит языком, что веретеном, вяжет, путает, мотает, плутает – понять невозможно. Сказывай толком: пó ряду все говори.
– Ну, вот видишь ли, матушка, – начала Виринея. – Хворала ведь она, на волю не выходила, мы ее, почитай, недели с три и в глаза не видывали, какая есть Марья Гавриловна. А на другой день после твоего отъезда оздоровела она, матушка, все болести как рукой сняло, веселая такая стала да проворная, ходит, а сама попрыгивает: песни мирские даже пела. Вот грех-то какой!..
– Быть того не может, – удивилась Манефа.
– Уехали-то вы, матушка, поутру, а вечером того же дня гость к ней наехал, весь вечер сидел с ней, солнышко взошло, как пошел от нее. Поутру опять долго сидел у ней и обедал, а после обеда куда-то уехал. И как только уехал, стала Марья Гавриловна в дорогу сряжаться, пожитки укладывать… Сундуков-то что, сундуков-то!.. Боле дюжины. Теперь в домике, опричь столов да стульев, нет ничего, все свезла…
– Да куда ж, куда, я тебя спрашиваю? – с нетерпением спрашивала Манефа.
– Сказывала я тебе, матушка, что не знаю, и теперь та же речь, что не знаю… Через два дня тот гость опять приезжал, лошади с ним, тройка и тарантас, туда сами сели, Танюшу с собой посадили, а имение сложили на подводы. На пяти подводах повезли, матушка.
– Что ж это за гость такой?.. Кто он, откуда?.. Брат ее, что ли?.. Залетов?.. – сыпала вопросами мать Манефа.
– Какое брат, матушка!.. Помнишь на Радуницу от Патапа Максимыча приказчик наезжал, еще ночевал у тебя в светелке… Алексеем зовут… Он самый и приезжал…
Всех озадачил рассказ Виринеи… Хотела что-то сказать Манефа, но слова не сошли с языка… Фленушка с Парашей меж собой переглядывались. Один Василий Борисыч оставался, по-видимому, спокоен и равнодушен.
– Ах ты, Господи, Господи!.. – всплеснув руками, вскликнула, наконец, игуменья.
– С ним с самым и съехала… С собой вместе в тарантас посадила и его и Танюшу тоже… – свое твердила мать Виринея. – И уж такая она, матушка, на последях-то была развеселая, такая умильная, что вот сколько уж времени прожила у нас, а такою я ее не видывала… Ровно козочка какая, так и попрыгивает, да турит все, турит Танюшу-то укладываться! А уезжая, всех одарила, старицам по зелененькой, а белицам которой рубль, которой два, опять же платьев что раздала своих… Никого не забыла… Только вот чего еще не сказала я тебе, матушка. Вот это так уж истинно чудо чуднóе… Дело-то, как видится, делалось у них неспроста.
– Что такое? – спросила Манефа.
– А на другой день после того, как гость-от от нее уехал, за конями-то, знаешь, глядим мы, пошла она, этак перед самыми вечернями, разгуляться за околицу… Танюшу взяла с собой… Сидим мы этак у келарни на крылечке с матушкой Евсталией да с матушкой Филаретой, смотрим на нее, глядь, а она в Каменный Вражек; мы к околице, переговариваем меж собой, куда, дескать, это она пошла. И что же, матушка?.. К Елфимову. Мы подале пошли, в кусточках сели, смотрим, что тут у них будет. Видим – Танюша в Елфимово таково скоро пошла, бегом, почитай, побежала, а Марья Гавриловна во Вражке-то присела… Прошло времени этак с полчаса, а пожалуй и боле, глядим, идет Танюша, да не одна, матушка… Вот грех-от какой!.. Вот оно, матушка, какое дело-то вышло… С кем связалась-то!.. Господи, твоя воля!
– Да с кем же? Не томи, сказывай скорее, – с горячим нетерпением спрашивала Виринею Манефа.
– С колдуньей, матушка… С Егорихой!.. – сказала Виринея и, перекрестясь, примолвила: – Прости, Господи, моя согрешения!..
– С колдуньей! – как полотно побледнев, прошептала Манефа. – От часу не легче!.. Что ж это такое!.. Что с ней содеялось?..
– Сели они, матушка, во Вражке, спервоначалу все трое, потом Танюша пошла в сторону… Марья-то Гавриловна вдвоем с Егорихой осталась… И что-то все толковали, да таково горячо, горячо, матушка… Больше часу сидели они да разговаривали… Посидят, посидят да походят во Вражке-то, потом опять сядут… А на расставанье, матушка, целовалась Марья-то Гавриловна с ней, с колдуньей-то. И Танюша целовалась… Поганились, матушка, поганились – не солгу, сама своими глазами видела… Вот и матушку Евсталию спроси, и Филаретушку, не дадут солгать… Вот какие дела-то у нас без тебя были!.. Вот какие дела!.. До чего дошла, подумаешь!.. Чего тут дивить, что с молодым парнем сбежала, чего дивить?.. Видимо дело, что вражья сила тут действовала… Она, окаянная, треклятая эта Егориха!.. Никто больше, как она!
– Ну, хорошо, – после долгого молчанья молвила Манефа. – Ступай с Богом, Виринеюшка… Допивайте чай-от, девицы, да Василья Борисыча, гостя нашего дорогого, хорошенько потчуйте, а я пойду… Ах ты, Господи, Господи!.. Какие дела-то, какие дела-то!..
* * *
Через день после того, с солнышком вместе, поднялась обитель Манефина. Еще с вечера конюх Дементий с двумя обительскими трудниками подкатил к крыльцу игуменьиной стаи три уемистые повозки с волчками и запонами из таевочной циновки[337]337
Таевочная, иначе крышечная циновка – та, что делается в три аршина длины и полтора ширины. Каждого размера циновка имеет свое названье: романовка, баковка, казанка и т. д.
[Закрыть]. Собравшиеся в путь богомолки суетливо укладывали в них пожитки и припасенные матушкой Виринеей съестные запасы. Дементий с работниками мазал колеса.
Больше всего Фленушка хлопотала. Радехонька была она поездке. «Вдоволь нагуляемся, вдоволь натешимся, – радостно она думала, – ворчи, сколько хочешь, мать Никанора, бранись, сколько угодно, мать Аркадия, а мы возьмем свое». Прасковья Патаповна, совсем снарядившись, не хлопотала вкруг повозок, а, сидя, дремала в теткиной келье. Не хлопотал и Василий Борисыч. Одевшись по-дорожному, стоял он возле окна, из которого на сборы глядела Манефа.
– Леса горят, – сказала игуменья, глядя на серо-желтое, туманное небо, по которому без лучей, без блеска выплывало багровое солнце. Гарью еще не пахло, но в свежем утреннем воздухе стояла духота и какая-то тяжесть.
– Далёко, – молвил Дементий, оглядев со всех сторон тусклый небосклон. – Дыму ниотколь не видно… Верст за сто горит, не то и больше.
– То-то смотрите – в огонь не угодите, – пристально озирая окаймленный черной полосой леса край небосклона, сказала конюху Манефа.
– Бог милостив, матушка… Зачем в огонь?.. – отозвался Дементий.
– Лесной пожар хóдок. Не оставить ли до другого времени вашего богомолья? – сказала игуменья, обращаясь к Аркадии.
Не ответила Аркадия, промолчала и мать Никанора, слова не сказали и Дементий с работниками… Только пристальней прежнего стали они поглядывать на закрой неба[338]338
Закрой неба – нижний край видимого горизонта.
[Закрыть], не увидят ли где хоть тоненькую струйку дыма… Нет, нигде не видно… А в воздухе тишь невозмутимая: пух вылетел из перины, когда грохнули ее белицы в повозку, и пушинки не летят в сторону, а тихо, плавно опускаются книзу. И по ветру нельзя опознать, откуда и куда несется пожар.
«А что, как матушка Манефа, убоясь пожара, да не пустит нас в леса, отложит богомолье до другого времени?» – подумала Фленушка и от той думы прикручинилась. Ластясь к игуменье, вкрадчиво она молвила:
– Не бойся, матушка. Далёко горит, нас не захватит. Часу не пройдет после выезда, как будем мы на Фотиньиной гробнице, от нее до могилки матушки Голиндухи рукой подать, а тут и кельи Улáнгерские. Вечерен не отпоют, будем в Улáнгере.
– За нынешний-от день я не боюсь, – молвила Манефа, – а что будет после, если пó лесу огонь разойдется да в нашу сторону пойдет?
– Справим завтра каноны над пеплом отца Варлаама, над могилками отца Илии и матушки Феклы, – продолжала Фленушка. – От Улáнгера эти места под боком. А послезавтра поглядим, что будет. Опасно станет в лесу – в Улáнгере останемся, не будет опасности, через Полóмы на почтову дорогу выедем – а там уж вплоть до Китежа нет сплошных лесов, бояться нечего.
– Как, по твоему рассужденью, мать Аркадия? Пускать ли вас? – обратилась Манефа к уставщице.
– Вся власть твоя, матушка, – ответила она. – Как твое произволение будет.
– Не быть бы беды от огня, вот чего опасаюсь, – сказала Манефа.
– Коли что, так в Улáнгере подождем огненного утишенья. Разве что ко Владимирской в Китеж-от не поспеем. А то бы, кажись, ничего.
– Так с Богом! Поднимайтесь в путь, Господь вас храни, – решила игуменья. – Смотри же, Аркадьюшка, все расскажи матушке Юдифи, что я тебе наказывала, не забудь чего. Да чтобы со всеми ихними матерями беспременно на Петров день к нам пожаловала… Слышишь?
– Слушаю, матушка, слушаю: все передам, все до капельки, – сказала уставщица.
– Ну вот, Василий Борисыч, и посмотришь ты на наши места богомольные, помолишься, – обращаясь к нему, сказала Манефа. – Теперь время тихое, по лесам великих сборищ не бывает, окроме что на Владимирскую на Китеже. Там великое собрание будет. Что в Духов день у Софонтия, что на Владимирскую на озере Светлояре у Китежа, больше тех собраний нет. Да и там не то уж теперь, что в прежние годы. Прежде, бывало, народ-от тысячами собирается, а теперь и две сотни сойдется, так на редкость. Иссякает ревность по вере, люди суету возлюбили, плотям стали угождать, мамоне служить… последни времена!..
Не отозвался на речи Манефы Василий Борисыч.
– Хоть твое дело взять, – продолжала она после недолгого молчанья. – Богу служил, церковных ради нужд труды на себя принимал, а теперь и тебя суета обуяла.
– Как же так, матушка? – спросил Василий Борисыч.
– Да разве по торговле аль по фабрике в приказчиках жить – Богу значит служить? – с грустной улыбкой молвила игуменья.
– Еще не решено, буду аль не буду я служить у Патапа Максимыча, – ответил Василий Борисыч. – А и то сказать, матушка, разве, будучи при мирских делах, в церкви Божией люди не служат? Много тому видим примеров – Рахмановых взять, Громовых. Разве не послужили Господу?
– Так-то оно так, Василий Борисыч, – молвила Манефа. – Но ведь сам ты не хуже моего знаешь, что насчет этого в писании сказано: «Честен сосуд сребрян, честней того сосуд позлащенный». А премудрый приточник[339]339
Писатель притчей, царь Соломон.
[Закрыть] что говорит? «Мужа тихо любит Господь, суету же дел его скончает…» Подумай-ка об этом…
– Подумаю, матушка, подумаю, и не один еще раз с вами посоветуюсь, – сказал на то Василий Борисыч. – До сроку времени еще много.
Привели шестерик коней жирных, раскормленных донельзя, лоснится и блестит на них гладкая шерсть, ровно маслом вымазал их Дементий. Скитницы лошадям овса не жалеют, при малой работе на хорошем корму толстеют кони и жиреют не хуже своих хозяек. По паре в каждую повозку заложили, матери и белицы уселись на грузные пуховики и подушки. В передней повозке тщедушный Василий Борисыч с толстой уставщицей Аркадией сел. Хотела она тут же усадить и мать Никанору, но двух матерей с московским послом повозка вместить не могла; села мать Никанора с Прасковьей Патаповной в другую. В третью повозку Марьюшка с Фленушкой сели.
С благословеньем Манефы и с пожеланьями доброго пути ото всех обительских стариц двинулись из обители повозки и переехали одна за другою Каменный Вражек, направляясь к окружавшему Комаровский скит лесу.
Забившись с головой в постелю и слыша стук съезжавших с обительского двора повозок, безотрадно заливалась слезами и глухо рыдала московская канонница Устинья. Как ни просила, как ни молила она, Манефа не сжалилась на слезу ее, не пустила на богомолье… Ключом кипело пылкое сердце пригожей канонницы, когда на сорочинах не на ее глазах Василий Борисыч с Парашей за одним столом сидел. Разума теперь решалась при одном помышленье, что целу неделю ее погубитель с нею станет по лесам разъезжать… Эх, власть бы да воля!.. Дала бы себя знать Устинья Московка!.. Плохо пришлось бы московскому гостю, да несдобровать бы и Прасковье Патаповне.
Только что въехали в лес, Фленушке вспало на ум до гробницы Фотиньи пешком пройтись. Много не думавши, вылезла она с Марьюшкой из повозки и, подойдя к другой, стала с собою звать Парашу. Ленива была на ходьбу Прасковья Патаповна, но все ж ей казалось не в пример веселей идти с подругами возле дороги, чем лежать на пуховиках с храпевшей во всю ивановскую матерью Никанорой. Подозвали девицы и Василия Борисыча; и он покинул толстую уставщицу, начавшую было нескончаемые расспросы о том, как в Белой Кринице за митрополичьей службой справляют полиелеи.
И матери Аркадии, и матери Никаноре неохота была с мягкими перинами расставаться; то ли дело лежать да дремать, чем шагать по засоренному валежником лесу, либо по тоненьким, полусгнившим кладкам перебираться через мочажины и топкие болотца. Строго-настрого девицам старицы наказали не отходить далеко от дороги, быть на виду и на слуху, и принялись дремать в ехавших шагом повозках.
Все деревья в полном соку, все травы цветут, благоухают. Куда ни оглянись, все цветы, цветы и цветы. Вон там, меж чернолесья, выдалась небольшая сухая полянка – ровно камчатными скатертями укрыта она: то кашка, медуница и пахучий донник[340]340
Кашка, или тысячелистник, – Achillea millifolium. Медуница – Pulmonaria officinalis. Донник – Millolotus officinalis.
[Закрыть] в цвету стоят; бортевы пчелы, шмели, осы и шершни[341]341
Бортевая пчела, прироившаяся в борти – долбленом дереве, нарочно для пчел в лесу приготовленном. Шмель, или земляная пчела, – Bombus. Оса – Vespa. Шершень – самая большая порода осы.
[Закрыть] тучами носятся над ними, громко жужжа на разные голоса. Там желтеет зверобой, синеют темно-голубые бубенчики и середь яркой изумрудной зелени белеет благовонная купена[342]342
Зверобой – Figuraría Sibirica. Бубенчики – Jris Sibirica. Купёна, из породы ландышей – Convallaria bifolia.
[Закрыть] и алеют зрелые ягоды костяники. Перистые ярко-зеленые ветки папоротника густой бахромой виснут над сонными лесными ручьями, полными чистой, студеной, но от смолистых корней окрашенной в бурый цвет водою…
Стоном стоят лесные голоса, без умолку трещат в высокой сочной траве кузнечики и кобылки, вьются над цветами жучки и разновидные козявки, воркуют серо-сизые с зеленой шейкой вяхири и красногрудые ветютни, как в трубу трубит черная желна, стучат по деревьям дятлы, пищат рябчики, уныло перекликаются либо кошкой взвизгивают желтенькие иволги, трещат сойки, жалобно кукуют кукушки и на разные голоса весело щебечут свиристели, малиновки, лесные жаворонки и другие мелкие пташки[343]343
Вяхирь, дикий голубь – Columna palumbus. Ветютень, лесной голубь – Columna ocnas. Желна, большой дятел, поедающий пчел, – Picus martius. Иволга – Oriolus gálbula. Соя, или сойка, лесная птичка с хохолком и голубым зеркальцем на горлышке, из рода ворон – Corvus glandorius. Свиристель, лесная птичка со скворца, с ярко-алыми лепестками на крылышках – Ampelis garniras.
[Закрыть]. И все эти звуки сливаются в один стройный гул, полный жизни и довольства жизнию.
– Всякое дыхание хвалит Господа, – с умиленьем молвил Василий Борисыч, прислушиваясь к лесным голосам.
– Птички распевают, и вся недолга́, – отозвалась Фленушка. Ей леса были не в диковину.
Матери в повозках молчали.
Вот выдалась прогалинка. Будто розовыми шелковыми тканями покрыта она. То сон-трава[344]344
Сон-трава, сонуля, дрема – Visearía vulgaris.
[Закрыть] подняла кверху цветы свои. Окрайны дороги также сон-травой усыпаны. Бессознательно сорвал один цветок Василий Борисыч. Он прилип к его пальцам.
– Брось, брось! Что ты делаешь, Василий Борисыч?.. Брось, говорят тебе… Не след трогать сию траву, грех! – закричала из повозки мать Аркадия.
– Что ж за грех в том, матушка? – спросил уставщицу Василий Борисыч, кидая сорванный цветок.
– А забыл, что в Печерском патерике про него пишется? Про сей самый цветок, именуемый «лепок»? Это он самый «лепок» и есть, – говорила мать Аркадия. – Видишь, к пальцам прилип!.. Вымой руки-то скорей, вымой… Хоть из колдобинки зачерпни водицы, вымой только скорее.
Сплеснул Василий Борисыч руки из мутной колдобины и, вытирая их ручником, поданным Аркадией, молвил:
– Что ж про эти цветы в патерике писано?.. Не припомнится что-то, матушка…
– Не могу и я теперь доподлинно сказать тебе, в патерике ли то писано, у Нестора ли в летописце. Домой воротимся, укажу, – учительно сказала Аркадия. – А писано вот что: «Во святей Киевской Печерской обители преподобных Антония и Феодосия бе старец, именем Матвей. И бе той старец прозорлив. Единою стоящу ему в церкви на месте своем, возвед очи своя, позре по братии, иже стоят поюще по обема странама. И видя обходяща их беса во образе ляха в луде[345]345
Верхняя одежда, плащ.
[Закрыть] и носяща в приполе цветки, иже глаголется «лепок». И обходя возле братии, взимая из лона лепок вержаще на кого любо: аще прилепляшесь кому цветок в поющих от братии, и той мало постояв и расслаблен бываше умом, исходяше из церкви, шед в келию и спа; аще ли вержаше на другого и не прильняше к нему цветок, стояше крепок в пеньи, дондеже отпояху утреню»[346]346
Это сказание находится и в Печерском патерике, и в летописи преподобного Нестора.
[Закрыть]. Вот это тот самый бесовский цветок и есть. По народу «сонулей» зовут его, «дремой», потому что на сон наводит, а по-книжному имя ему «цвет лепок». Не довлеет к нему прикасатися, понеже вражия сила в нем.
– У нас на деревне сказывают, что охотник один осенью пó лесу ходил, – начала Марьюшка головщица. – Ходит он по лесу, видит, медведь землю дерет. Выдрал медведь корешок от которой-то травы и зачал его лизать. Лизал, лизал, да ровно хмельной и стал, насилу отошел от места. Охотник возьми тот корешок, да и ну сам лизать его по-медвежьему. Полизал, охмелел и залез в пустую берлогу. Да в ней до Василия Парийского[347]347
Апреля 12-го.
[Закрыть], когда медведь из берлоги выходит, и проспал. Проснулся, ан корешок у него в руках. Стали по тому корешку обыскивать, от какого он зелья, и дошли, что тот корень – сон-трава, вот эта самая.
Не ответил никто на слова Марьи головщицы. Все промолчали, идучи друг за дружкой по узкой тропинке. Подошла Фленушка к Василью Борисычу и тихонько сказала:
– А захочет молодец судьбу свою узнать, пожелает он увидеть во сне свою суженую – подложить ему под подушку липкий цветочек этой травы. Всю судьбу узнает во снях, увидит и суженую… Не сорвать ли про тебя, Василий Борисыч?.. Так уж и быть, даром что бесовский цвет, ради тебя согрешу, сорву.
– Не для чего мне судьбу узнавать, – не глядя на Фленушку, ответил Василий Борисыч.
– Однако ж… – заговорила было Фленушка.
Но громкий голос Аркадии покрыл ее полушепот:
– И в раи Господне росло древо смерти, и ходил змей, в него же вселися диавол. Диво ли, что теперь на нашей трудной земле и древа, и травы, и скоты, и звери, и всякие гады ползущие не от Бога, а от врага, не славу Божию исповедуют, а вражеским козням на человеческую погубу служат? Писанием умудренному уму подобает познати каждой вещи извещение – к добру она или к худу. В том и премудрость. И нам, малым и скудоумным, не вместити бы тоя премудрости, аще бы не святых отец писания просвещали нас… Так ли говорю, Василий Борисыч?.. Да полно ты, толчея!.. Чего без пути толчешься, когда люди умней тебя говорят! – прикрикнула она на Фленушку, а Фленушка, подсмеиваясь над ее речами, слегка дергала за кафтан Василья Борисыча.
– Премудрости Господни исполнена земля, – отозвался Василий Борисыч. – Всяка жива тварь на службу человеку, и всяк злак на пользу его.
– Да полно ли вам? – брюзгливо молвила ему причудливая Фленушка. – И в обители книжное пуще горькой редьки надоело, а вы с ним и на гулянке. Пущай ее с Никанорой разводит узоры. Попросту давайте говорить. В кои-то веки на волю да на простор вырвались, а вы и тут с патериком!.. Бога-то побоялись бы!
– Это я так, Флена Васильевна, – сказал Василий Борисыч, отходя немного в сторону за кустики. – Нельзя же – старшие… А ведь бы, кажись, отсюда не вышел. Очень уж хорошо.
– Надоело бы, – подхватила Фленушка и, быстро обратясь к Марьюшке, вскрикнула, указывая ей рукой в перелесок: – Глянь-ко!.. Костяники-то, костяники-то что!.. Видимо-невидимо!..
Любила ту ягоду Марьюшка: не ответя ни слова, кинулась она в сторону и, нагнувшись, принялась собирать алую костянику. Василий Борисыч шел сзади телег, нагруженных матерями. С одного бока бойко идет развеселая Фленушка, с другого павой выплывает Прасковья Патаповна.
– Куда уж вам в лесах пребывать! – игриво продолжала Фленушка. – Разом бы надоело.
– Никакому человеку такая красота надоесть не может, – отозвался Василий Борисыч. – Нельзя в таком месте соскучиться: и дышится вольнее, а на душе такой мир, такое спокойствие.
– Что ж нейдете пустынничать, коли так леса полюбились вам? – лукаво улыбаясь, молвила Фленушка. – Вон там, подальше отсюдова, в Поломе, старцы отшельники век свой в лесу живут, с утра до ночи слушают, как птички распевают. И вам бы к ним, Василий Борисыч.
– Что ж? – ответил он. – Добрая жизнь, богоугодная!.. Благой извол о Господе оставить мир и пребывать в пустыне. Все святые похваляют житие пустынное… Только не всяк может подъять такую жизнь.
– Да, не всяк может, – думчиво молвила Фленушка, а потом, как бы встрепенувшись, прибавила: – Не про нас с вами такая жизнь, Василий Борисыч! На это мы с вами не сгодилися.
– Отчего ж так? – улыбаясь, спросил Василий Борисыч.
– А оттого, – с лукавой усмешкой ответила Фленушка, – что Божье у нас на языке, а мирское на уме… Правду ль сказала?.. А?.. – прибавила она и весело захохотала.
– Не знаю, что на́ это сказать… Не пробовал в пустыне жить, – молвил Василий Борисыч.
– И не пробуйте, – с притворной скромностью, опустив глаза, ответила Фленушка. – Разве вдвоем… чтобы не оченно скучно было… – примолвила она, улыбаясь.
– Вдвоем-то, конечно, повеселее, – сказал Василий Борисыч, тоже улыбнувшись. – По крайности есть с кем слово перемолвить.
– Конечно, – согласилась Фленушка. – Живучи вдвоем, друг на дружку взглянешь да улыбнешься, а живучи в одиночестве, на себя глядя, только всплачешься… Ты, Параша, как о том думаешь?
– Не знаю, – вяло ответила Прасковья Патаповна.
– Уж будто никогда о том и не думала?.. И на мысли никогда о том не вспадало?.. – стала приставать к ней Фленушка.
– Не помню, – молвила Параша, порывисто отвернувшись от подруги, сама, взглянув на Василия Борисыча, ни с того ни с сего заалела, как та костяника, что сбирала Марья головщица.
– Ай, батюшки светы!.. Ягод-то что, ягод-то!.. – вскликнула Фленушка и живо бросилась в сторону, оставя Парашу вдвоем с Васильем Борисычем.
Того в жар кинуло. Повозки с сонными матерями уехали вперед, Фленушка с Марьюшкой, сбирая ягоды, скрылись в лесной чаще. Никого кругом, а он с глазу на́ глаз с приглянувшейся ему пышкой-девицей.
Слова не вяжутся. Куда сколь речист на беседах Василий Борисыч – жемчугом тогда у него слова катятся, льются, как река, а тут, оставшись с глазу на́ глаз с молодой пригожей девицей, слов не доищется, ровно стена, молчит… Подкосились ноженьки, опустились рученьки, весь как на иглах… Да, и высок каблучок, да подломился на бочок.
Соберется с духом, наберется смелости, скажет словечко про птичку ль, в стороне порхнувшую, про цветы ли, дивно распустившие яркие лепестки свои, про белоствольную ли высокую березу, широко развесившую свои ветви, иль про зеленую стройную елочку, но только и слышит от Параши: «да» да «нет». Рдеют полные свежие ланиты девушки, не может поднять она светлых очей, не может взглянуть на путевого товарища… А у него глаза горят полымем, блещут искрами.
«Ох, искушение – думает, негодуя на себя, Василий Борисыч. – С Устиньей в два слова обо всем перемолвил, а с этой прильпе язык к гортани моей!»
А сам, идя рядышком с Прасковьей Патаповной, понемножку да потихоньку к ней близится… Та краснеет, сторонится… К такому месту подошли, что некуда сторониться – густо разрослись тут кусты можжевельника. Василий Борисыч будто невзначай коснулся руки Парашиной. Она дрогнула, но руки не отняла… И как же заныло, как сладко защемило сердце девушки, когда он взял ее за руку…
Идут, молчат… Слегка пожимает Василий Борисыч руку Параши… Высоко у нее поднимается грудь, и дыханье ее горячо, и не может она взглянуть на Василия Борисыча… Но вот и сама пожала ему руку… Василий Борисыч остановился, и сам после не мог надивиться, откуда смелость взялась у него – óбвил рукою стан девушки, глянул ей в очи и припал к алым устам дрожащими от страсти губами…
Эх, леса-лесочки, алые цветочки! Век бы тут гуляти, алы цветы рвати, крепко обниматься, сладко целоваться!..
– Поладили, – шепнула Фленушка головщице, осторожно выглядывая из-за кустов можжевельника на Василья Борисыча с Парашей…
– Что тут хорошего-то? – брюзгливо отозвалась Марьюшка.
– Одной, что ли, тебе с саратовцем целоваться? – досадливо молвила ей Фленушка. – Всяка душа сладенького хочет. Не обсевок в поле и Параша.
– Так-то оно так, – сказала Марьюшка, – а как матушка узнает, тогда что будет?
– Будет так будет, а не будет, так что-нибудь да будет, – отрезала Фленушка и громко запела удалую песню:
Курёвушка, курева[348]348
Так в северных и восточных губерниях зовут вьюгу.
[Закрыть]
Закурила, замела.
Закутила-замутила
Все дорожки, все пути:
Нельзя к милому пройти!
Я пойду стороной,
С милым свижуся,
Поздороваюсь:
«Здравствóй, миленький дружок,
Ко мне в гости гости
Да подольше сиди:
С стороны люди глядят,
Меня, девушку, бранят.
Уж как нынешние люди
Догадливые.
Догадливые, переводливые!
Ни кутят, ни мутят,
С тобой, милый, разлучат».
Не слушая Фленушкиной песни, за опушкой леса по другую сторону дороги, шли рука в руку Василий Борисыч с Парашей… Шли молча, ни тот ни другая ни слова… Но очи обоих были речисты…
Половину пути прошли. Подошли к парочке Фленушка с Марьюшкой. Тут с дороги поворот, лесная тропа до могилки матушки Фотиньи пойдет узенькая, в повозках тут не проехать. Разбудили от крепкого сна уставщицу да старицу Никанору и, оставя лошадей с работниками на дороге, вшестером пошли ко «святому месту» по кладкам, лежавшим на сырой болотистой земле. Гуськом надо было идти. Впереди выступала мать Никанора, за нею уставщица Аркадия, потом Марьюшка, Фленушка и Параша. За Парашей, всех позади, шел Василий Борисыч. Кладки были узенькие, местами отставали одна от другой на четверть и больше. На руку было это Василью Борисычу. Никто назад не оглядывался, каждая себе под ноги смотрела.
Учительная мать Аркадия меж тем громогласно читала наизусть поучение о прелести и суете мира сего.
Далеко раздавалась пó лесу громкая, протяжная речь ее:
– «Жития нашего время яко вода на борзе течет, дние лет наших яко дым в воздусе развеваются, вмале являются и вскоре погибают. Мнози борются страсти со всяким человеком и колеблют душами. Яко же волны морские – житейские сласти, и похоти, и желания восстают на душе… О человече! Что твориши несмысленне, погубляеши время свое спасительное, непрестанно весь век живота твоего, телу своему угождая? Что хощеши?..»
Гнилая кладка подломилась, и проповедница стремглав полетела в болото. Грузно шлепнулась она в грязь, поросшую осокой и белоусом[349]349
Осокa – Carex visicaria. Белоус – Nardus stricta.
[Закрыть]. Насилу вытащили ее Никанора с Марьюшкой.
Не стерпела Фленушка: во всю мочь расхохоталась над карабкавшейся в грязи уставщицей. И досталось же ей за то от Аркадии. Иное зачала поучение, щедро пересыпая бранными словами.
– Чему заржала, окаянная? – визгливо шумела она, отряхая жидкую грязь, со всех сторон облепившую иноческое ее одеянье. – Тряслось бы над тобой да висло, беспутная!.. Чирей бы те в ухо да камень бы в брюхо!.. Чем бы пожалеть старуху, а она зубы скалит, пересмеивает… Чтоб тебя пополам да в чéрепья!.. И угораздила меня нелегкая с этакой шалопутницей на богомолье идти!.. Гулянки у тебя на уме только да смехи, о молитве и думать забыла… Околеть бы тебе без свечей, без ладану, без гроба, без савану!.. Иссуши меня, Господи, до макова зернышка, коль не расскажу я про все твои проказы матушке!.. Задаст она тебе, задаст, взъерепенит бесстыжую, всклочит косы-то!.. Погоди ты у меня, погоди!..
А Фленушка пуще да пуще хохочет над старицей. Втихомолку и Марьюшка с Парашей посмеиваются и Василий Борисыч; улыбается и степенная, чинная мать Никанора. И как было удержаться от смеха, глядя на толстую, раскрасневшуюся с досады уставщицу, всю в грязи, с камилавкой набок, с апостольником чуть не задом наперед. Фленушка не из таковских была, чтоб уступить Аркадии Чем та больше горячилась, тем громче она хохотала и больше ее к брани подзадоривала.
И Бог знает, чем бы это кончилось, если б шедшие гуськом богомольцы не дошли, наконец, до маленькой полянки, середь которой стоял почерневший от дождей и ветхости, ягелем поросший гóлубец. То была гробница добрым подвигом подвизавшейся матери Фотиньи.
* * *
До Питиримова разоренья на этом месте стояла женская обитель старицы Фотиньи Нижегородки. Вблизи от нее, с версту либо меньше, другая обитель стояла старицы Голиндухи. Много в ту пору на Керженце и в лесах Чернораменских учительных и доброго жития стариц бывало. Строгою жизнью, добрыми подвигами славились игуменьи Шарпанских обителей Марья да Федосья да начальная старица Елховского скита мать Иринарха. Великою начитанностью, острым разумом и учительным словом во все концы старообрядства гремела начальная старица Капитолина Ярославка, диаконова толка, да старица Анисья Козьмодемьянка. С самим Питиримом они препирались и крепкими адамантами древлего благочестия почитались; но не было такой постницы, не было такой подвижницы, как начальная старица Фотинья; и не было такой учительной и начитанной игуменьи, как мать Голиндуха. К Фотинье с разных сторон сходились старообрядцы поучиться добрым порядкам и подвижничеству, у Голиндухи соборы даже сбирались. Однажды на Тихонов день[350]350
16 июня 1708 года.
[Закрыть] многие старцы и старицы, именитые люди и духовного чина к матери Голиндухе в обитель сходились разбирать поподробну «спорные письма» протопопа Аввакума и обрели в них несогласных речей со святых отец писанием много, за то и согласились отложить те письма. И настало оттого разделенье керженских старообрядцев на Софонтиево и Онуфриево согласия. И по времени те, что Софонтьева толка держались, во многих спорах Онуфриевых одолели, и тому одолению много послужили мать Фотинья да мать Голиндуха. Оттого и память их доныне на Керженце честно хранится, оттого на места разоренных скитов, на ихние могилы и ходят Богу молиться, помины творить по крепким ревнительницам старообрядства.
На Фотиньиной полянке стихли и брань уставщицы, и Фленушкин хохот. Положив семипоклонный начал, замолитвовала Аркадия канон за умерших. Отпели канон над могилой Фотиньи и помянули ее взятыми из Виринеиной келарни кутьей да холодными блинами.
Отправив службу по Фотинье, богомольцы пошли дальше в лес по тоненьким кладкам. Тут стоячее болото было жиже, промеж зеленой осоки и пышных ярко-желтых купавок[351]351
Водяной лапушник, Nimphea.
[Закрыть] сверкали глубокие лужи, как пеной подернутые железною ржавчиной. Между ними попадались «вадьи» и «окна»; угодишь туда – нет спасенья: пиши к родным, творили бы поминки… Опасливей прежнего идут гуськом друг за дружкой богомольцы, боясь, чтоб опять кому не попасть в болото, как сулил Господь попасть уставщице. Сухая полянка матери Голиндухи была гораздо обширней, чем у Фотиньи; почти сплошь была она крыта ярким зелено-бурым мохом, и на нем росло множество несозрелой еще брусники.