Текст книги "Звездный десант (сборник)"
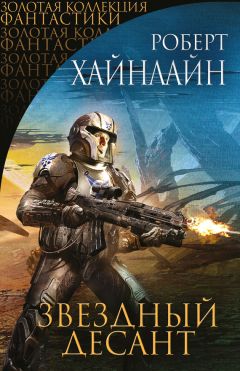
Автор книги: Роберт Хайнлайн
Жанр: Космическая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Между тем мистер Дюбуа спросил меня:
– А сможете вы дать определение «малолетнего преступника»?
– А-а… Н-ну, это те самые дети. Те, которые избивали людей.
– Неверно.
– А… Почему неверно? Ведь в учебнике сказано…
– Извините. Учебник действительно дает такую формулировку. Но если назвать хвост ногой, то вряд ли он от этого превратится в ногу. «Малолетний преступник» – понятие внутренне противоречивое, однако само это противоречие дает ключ к разрешению проблемы и возможность понять причины провала попыток разрешить эту проблему. Вам приходилось когда-нибудь воспитывать щенка?
– Да, сэр.
– А сумели ли вы отучить его делать лужи в доме?
– Э-э… Да, сэр. В конце концов.
Честно говоря, я с этим промедлил – потому мама и решила, что собак в доме быть не должно.
– Понятно. А когда щенок напускал лужицу, вы злились на него?
– Как? Нет, зачем же. Он ведь еще щенок, он же не знает…
– А что же вы делали?
– Ну, я ругал его, и тыкал носом в лужу, и шлепал.
– Но ведь он не мог понимать ваших слов.
– Конечно, не мог, но он понимал, что я на него сержусь!
– Но вы только что говорили, что не сердились на него.
Мистер Дюбуа иногда просто бесил меня – вот так приводя в замешательство.
– Нет, я только ИЗОБРАЖАЛ, что сержусь! Его ведь нужно было приучать, верно?
– Согласен. Но, объяснив ему, что вы им недовольны, как могли вы быть таким жестоким, что еще и шлепали его? Ведь вы сказали, что бедный звереныш не знал, что делает плохо! И все же причиняли ему боль! Как же вам не стыдно? Может быть, вы – садист?
Я не знал тогда, что такое садист, однако в щенках кое-что понимал!
– Мистер Дюбуа, но ведь иначе – никак! Вы ругаете его, чтобы он знал, что поступил неправильно, тычете его в лужу носом, чтобы он знал, в чем заключается его проступок, и шлепаете, чтобы ему расхотелось впредь так поступать. И шлепать его нужно сразу же – иначе от наказания ничего хорошего не будет; вы его просто запутаете. И даже тогда он с одного раза не поймет; надо следить, и сразу же наказывать его опять, и шлепать немного больнее. И он очень скоро научится. А просто ругать его – только зря языком молоть. Вы, наверное, никогда не воспитывали щенков.
– Почему же, многих. Сейчас я воспитываю гончую. Этим самым методом. Однако вернемся к нашим малолетним преступникам. Наиболее жестокие из них были примерно вашего возраста. А когда начинали свою преступную карьеру – были гораздо младше вас. И вот теперь вспомним вашего щенка. Тех подростков очень часто ловили; полиция производила аресты каждый день. Их ругали? Да, и зачастую очень жестко. Тыкали их носом в содеянное? Лишь изредка. Газеты и официальные учреждения держали их фамилии в секрете – таков был закон во многих штатах для тех, кто не достиг восемнадцати лет. Их шлепали? Ни в коем случае! Многих не шлепали, даже когда они были малышами! Считалось, что порка или другие наказания, причиняющие боль, могут повредить неустойчивой детской психике.
Я подумал, что мой отец, должно быть, никогда не слыхал о такой теории.
– Телесные наказания в школах были запрещены законом, – продолжал мистер Дюбуа. – Порка дозволялась законом лишь в одной маленькой провинции – в Делавере; полагалась она только за несколько преступлений и применялась крайне редко. Она считалась «жестоким и неординарным наказанием». Лично я не понимаю, что плохого в наказании жестоком и неординарном. Хотя судья должен быть, в принципе, милосердным, все равно его приговор обязательно должен причинять преступнику страдания, иначе наказание не будет наказанием. Ведь боль – основной механизм, выработавшийся в нас в течение миллионов лет эволюции! И этот механизм охраняет нас, предупреждая всякий раз, когда что-либо угрожает нашему выживанию. Так почему же общество должно отрицать такой хороший механизм выживания? Но тот период был просто переполнен ненаучной, псевдопсихологической бессмыслицей. И о неординарности: наказание должно выходить из ряда вон, иначе оно не сослужит никакой службы.
Мистер Дюбуа указал пальцем на другого мальчика:
– Вот вы. Что произойдет, если щенка бить каждый час?
– Ну-у! Он, наверное, с ума сойдет!
– Возможно. И уж конечно, ничему не научится. Сколько времени прошло с тех пор, как директор нашей школы в последний раз применял к ученикам розги?
– Ну, я точно не помню… Около двух лет. Тот парень ударил…
– Неважно. Времени прошло достаточно много. Значит, это наказание настолько необычно, чтобы быть значительным, предостерегать и послужить уроком на будущее. Вернемся теперь снова к нашим малолетним преступникам. Очень вероятно, что их не наказывали во младенчестве, известно в точности, что не подвергали порке за преступления. Обычно все происходило в следующем порядке: за первое преступление «предупреждали» – и зачастую вовсе без участия суда. После дальнейших проступков приговаривали к тюремному заключению, но приговор обычно откладывался, и юнец «отпускался на поруки». Такой подросток мог быть несколько раз арестован и приговорен, прежде чем его наконец наказывали. Затем его помещали в тюрьму, вместе с другими такими же, от кого он мог воспринять только новые преступные обычаи. И если он не творил особенных безобразий во время заключения, то приговор ему смягчали и отпускали его на поруки – «давали помиловку», на жаргоне тех времен.
Такие поблажки могли повторяться из года в год, а тем временем подросток преступал закон все чаще, все с большей жестокостью и изощренностью – и всегда совершенно безнаказанно, только со скучноватыми, но вполне комфортабельными отсидками иногда. А затем вдруг наступало восемнадцатилетие, так называемый «малолетний преступник» становился по закону преступником взрослым, и зачастую уже через пару недель сидел в камере, приговоренный к смертной казни за убийство.
Мистер Дюбуа снова указал на меня:
– Вот вы. Допустим, что щенка просто отчитали, не наказывая его, и позволили ему пачкать в доме… Только иногда выставляли за дверь, но вскоре впускали обратно, предупредив на будущее о том, что так делать нельзя. И вот в один прекрасный день щенок вырос во взрослую собаку, так и не отучившись пачкать в доме. Тогда вы хватаете ружье и пристреливаете его. Что скажете по этому поводу?
– Ну, это, по-моему, глупейший способ воспитывать щенка!
– Согласен. Ребенка – тоже. Но – кто же здесь виноват?
– Понятно, не щенок!
– Согласен. Но все же – объясните свою точку зрения.
– Мистер Дюбуа, – поднялась одна из девочек, – но почему? Почему не наказывали детей, когда это было необходимо для них же? И не пороли тех, кто постарше, когда они этого заслуживали? Ведь такое наказание не забудешь никогда. Я имею в виду тех, кто действительно творил безобразия. Почему?
– Не знаю, – нахмурившись, ответил мистер Дюбуа. – За исключением той причины, что использование этого проверенного временем метода внушения понятий об общественном долге и соблюдении законов в сознание молодежи чем-то не устраивало ненаучную, псевдопсихологическую прослойку, именовавшую себя «детскими психологами» или же «социальными служащими». Видимо, им это казалось чересчур примитивным – ведь здесь нужны лишь терпение и твердость, как и при воспитании щенка. Я порой думаю: может быть, им зачем-то были нужны эти беспорядки? Однако непохоже на то; ведь взрослые почти всегда поступают из «высших соображений»: неважно, что из этого выходит.
– Но – боже мой! – сказала девочка. – Мне вовсе не нравится, когда меня наказывают, да и ни одному ребенку это не нравится. Но, когда нужно, мама делала это. Когда однажды меня высекли в школе, мама дома еще добавила. С тех пор прошло уже много лет. И я уверена, что меня никогда не потащат в суд и не приговорят к порке – веди себя как следует, и все будет в порядке. В нашей системе я не вижу ничего неправильного – это гораздо лучше, чем – ох, ужас! – когда за порог не ступить, чтобы не рисковать жизнью!
– Согласен. Юная леди, трагическая ошибочность того, что делали эти люди, заключалась в глубоком противоречии с тем, что они намеревались сделать. У них не было научно обоснованной теории морали. Конечно, различные теории на этот счет у них имелись, и они пытались жить по ним, и над их побуждениями я вовсе не склонен смеяться, но все эти теории были НЕВЕРНЫ – половина их была не более чем благими пожеланиями, а другая половина – просто рационализированным шарлатанством. И чем серьезней они относились к делу, тем дальше были от цели. Они, видите ли, считали, что человек имеет моральный инстинкт.
– Сэр… но это действительно так! По крайней мере, у меня есть…
– Нет, моя дорогая! Вы имеете КУЛЬТИВИРОВАННУЮ совесть, тщательнейшим образом тренированную. У человека нет инстинкта морали, он не рождается с ее чувством. Чувство морали мы приобретаем путем обучения, опыта и тяжелой умственной работы. Те злосчастные малолетние преступники не рождались с чувством морали, так же, как и мы с вами! Но они не имели ни одного шанса выработать его – обстановка не позволяла. Что такое «чувство морали»? Это – усовершенствованный инстинкт самосохранения. Вот он присущ человеку от рождения, из него вытекают все аспекты личности. Все, что противоречит инстинкту самосохранения, рано или поздно уничтожает соответствующую особь и, следовательно, в последующих поколениях не проявляется. Это доказано математически и подтверждается для всех случаев. Инстинкт самосохранения – единственная сила, управляющая всеми нашими поступками.
– Однако инстинкт самосохранения, – продолжал мистер Дюбуа, – может быть развит в значительно более тонкие мотивации, чем бессознательное животное желание просто остаться в живых. Юная леди, то, что вы ошибочно назвали «моральным инстинктом», есть не что иное, как внедренная в вас старшими истина: выживание общее гораздо важнее вашего личного выживания. Например, выживание вашей семьи, детей, когда они у вас будут… Вашего народа, если подняться выше. И так далее. Но истинно научное обоснование теории морали – только в личном инстинкте самосохранения! И теория эта должна обрисовать иерархию выживания, отметить мотивацию для каждого уровня этой иерархии и разрешить все противоречия. Мы на сегодняшний день такую теорию имеем и с ее помощью можем решить любую моральную проблему для любого уровня. Личный интерес, любовь к родным, гражданские обязанности по отношению к соотечественникам и ответственность за все человечество. И сейчас уже разрабатываются нормы для межпланетных отношений. Однако все моральные проблемы могут быть проиллюстрированы одной, несколько перефразированной цитатой: «Величайшей любовью наделен не человек, но кошка, умирающая, чтобы защитить своих котят». И однажды вы поймете проблему, с которой пришлось столкнуться этой кошке, и как она ее решила; вы будете готовы проэкзаменовать себя и узнать, насколько высока моральная вершина, которую вам по силам преодолеть. Малолетние преступники были на самом низком уровне. Они рождались с одним лишь инстинктом самосохранения, самым высоким их моральным достижением была хрупкая лояльность к «своим», то есть своей уличной банде. Но различные доброжелатели пытались взывать к их «лучшим чувствам», «проникнуть в душу», «пробудить их чувство морали». ВЗДОР! У них не было никаких «лучших чувств»; опыт показывал им, что все ими творимое – единственный способ выжить. Щенок не получает своих шлепков, а стало быть, то, что он делает с удовольствием и успехом, для него – «морально». Основа морали – долг: понятие, находящееся в таком же отношении к группе, как личный интерес – к индивидууму. Никто не проповедовал тем детям их обязанности в той форме, в какой они поняли бы, то есть вкупе со шлепками. Зато общество, в котором они жили, без конца толковало им об их «правах». И результаты нетрудно было предсказать, поскольку НИКАКИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Мистер Дюбуа сделал паузу. Кто-то схватил наживку:
– Сэр, а как же насчет «жизни, свободы и погони за счастьем»?
– А, да, эти «неотъемлемые права»… Каждый год кто-нибудь да процитирует эту великолепную поэтику.
Жизнь? А каковы «права» на жизнь у того, кого носит в Тихом океане? Океан не слышит его криков. Каковы «права» на жизнь у человека, который должен умереть ради спасения своих детей? Если он предпочтет сохранить собственную жизнь, то сделает это «по праву»? Если два человека голодают и альтернатива смерти обоих – съедение одного другим, кто из двоих «имеет право» на жизнь? Это вы называете «правом»? Что касается свободы – те герои, которые подписывали этот великий документ, клялись купить эту свободу ценой собственных жизней. Свобода никогда не была неотъемлемым правом, древо свободы полито кровью патриотов и нуждается в регулярной поливке, иначе оно засохнет. Из всех так называемых прав человека, изобретенных когда-либо, свобода всегда была самой дорогой, и цена ее не упадет никогда.
И третье право – «погоня за счастьем». Его, конечно, не отнять, но правом это не является. Оно – в существующем положении вещей, и тираны не могут отнять его, а патриоты – восстановить. Бросьте меня в башню, сожгите на костре или сделайте царем царей – в любом случае, пока длится моя бренная жизнь, я имею право на «погоню за счастьем», и ни господь бог, ни все святые, ни мудрецы, ни изощреннейшие наркотики не смогут разуверить меня в этом.
Мистер Дюбуа обратился ко мне:
– Я сказал, что «малолетний преступник» – понятие внутренне противоречивое. Под словом «преступник» имеется в виду «не выполнивший свои обязанности». Но «обязанности» – дело взрослых, а взрослым он станет тогда и только тогда, когда получит представление о том, что такое обязанность, и будет ставить ее выше, чем собственный интерес, с которым рожден. Никогда не было и быть не могло малолетних преступников. Но на каждого малолетнего всегда найдется по крайней мере один взрослый преступник, который в свои зрелые годы либо не знает своего долга, либо через него преступает. И именно это явилось тем «гнилым столбом», из-за которого развалилась культура, во многих отношениях замечательная. Юные хулиганы, шляющиеся по улицам, были симптомом опасной болезни; их сограждане (тогда гражданами считались все) всячески укрепляли мифы об их «правах»… и при этом забывали об обязанностях. Ни одна нация, поступающая так, не может существовать.
Я принялся гадать, куда бы подполковник Дюбуа отнес Диллингера. Был ли он малолетним преступником, достойным сожаления, даже если от него обязательно следовало избавиться? Или он был преступником взрослым, не заслуживающим ничего, кроме презрения?
Этого я не знал и не узнаю никогда. Зато я твердо знал одно: больше Диллингер никого не сможет убить.
Это меня вполне устраивало. Я наконец уснул.
Глава 9
У нас не место тем, кто умеет красиво проигрывать. Нам нужны парни, способные пойти и победить!
Адмирал Джонас Ингрем, 1926
Когда мы сделали все, что пехота может проделать на равнине, нас перебросили в суровые горы, чтобы учить более суровым вещам, – это была канадская часть Скалистых, между пиком Доброй Надежды и горой Веддингтон. Лагерь сержанта Спуки Смита был здорово похож на лагерь Кюри, только гораздо меньше, да рельеф был покруче. Что ж, и наш Третий полк уменьшился – теперь нас осталось меньше четырехсот, а вначале было больше двух тысяч. Рота Эйч была теперь организована по подобию взвода, а батальон на поверке выглядел как рота. Однако мы по-прежнему назывались «рота Эйч», а Зим был ротным командиром, а не комвзвода.
И потогонка наша теперь стала более персональной; капрало-инструкторов было больше, чем отделений, а сержанту Зиму нужно было держать в голове всего пятьдесят человек вместо прежних двух с половиною сотен; похоже, он ни на минуту не спускал с нас своих церберовых глаз – даже когда его не было поблизости. По крайней мере, стоило только свалять дурака, как оказывалось, что он стоит прямо за твоей спиной.
Все-таки его вздрючки приобрели более дружелюбный характер, хотя и воспринимались болезненно – ведь мы тоже были уже не те – из всего полка остался лишь каждый пятый, и все уже стали почти солдаты. Теперь Зим пытался из каждого сделать солдата, а не прогонять к едрене бабушке.
И капитана Френкеля мы видели теперь чаще; теперь он гораздо больше времени обучал нас лично, вместо того чтобы сидеть за столом. Он знал всех по фамилии и в лицо и, похоже, завел в голове досье на каждого – как он владеет тем или иным оружием, как разбирается в снаряжении, не говоря уж о том, сколько у него внеочередных дежурств, как со здоровьем и когда получал последнее письмо из дому.
Он не был так строг в обращении с нами, как Зим, и нужно было показать себя последним тормозом, чтобы с лица его сошла дружелюбная улыбка, – но обманываться насчет улыбки не стоило, за ней скрывалась берилловая броня. Я никогда не мог решить, кто из них в большей степени солдат – Зим или капитан Френкель, – я имею в виду, если представить, что они рядовые. Без сомнения, они оба были куда лучше, чем любой из остальных инструкторов, но кто же из них двоих? Зим делал все точно и подчеркнуто, как на параде. Капитан Френкель же – энергично и со смаком, будто играя в игру. Результаты были примерно одинаковы – и капитану это, казалось, не составляло никакого труда…
А множество инструкторов нам было действительно необходимо. Прыгать в скафандре, как я уже говорил, на ровном месте просто. Конечно, скафандр так же высоко и легко прыгает в горах – но все же есть разница, когда прыгаешь на вертикальную гранитную стену меж двух елок и в последний момент теряешь контроль над двигателями. У нас было три несчастных случая на учениях со скафандрами – двое умерли, а один угодил в госпиталь и дальше был уже негоден к службе.
Но без скафандра – с веревками да крючьями – подняться на стену было еще труднее. Я никогда не понимал, на что нам нужно уменье лазать по горам, но уже выучился держать язык за зубами и осваивать все, что велят. Выучился и этому, оно оказалось даже не слишком трудно. Если бы кто годом раньше сказал, что я смогу забраться на такую солидную каменную громаду – вертикальную и гладкую, как глухая стена небоскреба, и только с помощью молотка, нескольких дурацких крошечных стальных гвоздиков да еще куска бельевой веревки, я б ему в лицо рассмеялся: я ведь больше приспособлен к уровню моря. Хотя, вернее сказать, был приспособлен для уровня моря – с тех пор кое-что изменилось.
Однако понять до конца, насколько же я изменился, я смог, только выйдя из лагеря. В лагере сержанта Спуки Смита мы жили посвободнее – то есть нам разрешалось бывать иногда в городе. Впрочем, какая-то «свобода» была у нас и в лагере Кюри – после того как мы пробыли там месяц. В том смысле, что воскресным вечером, если ты не в наряде, можешь отметиться у командира и идти гулять – только вернись в лагерь к вечерней поверке. Но там не было ничего – ни девушек, ни театров, ни дансингов – разве что пару кроликов встретишь.
И все-таки даже в лагере Кюри иметь свободу было прекрасно – иногда очень важно получить возможность забраться куда подальше, чтобы хоть некоторое время не видеть лагерных палаток, сержантов, осточертевших рож своих товарищей-салажат… И чтобы не нужно было никуда бежать, и чтобы было время вытащить душу свою на свет божий и посмотреть, не слишком ли поистерлась. Но даже эта свобода могла быть урезана по разным причинам и в разной мере. Могли приказать не покидать пределов лагеря, не покидать расположения роты, и тогда нельзя было ни в библиотеку, ни в эту заманчиво названную «палатку активного отдыха» – несколько досок для игры в парчизи и прочие, столь же увлекательные развлечения. А то вообще могли приказать не выходить из палатки до особого распоряжения.
Впрочем, последний вариант почти ничего не значит – обычно он добавляется к такому суровому наряду, что времени едва остается поспать, а ограничение свободы – довершение наказания, вроде вишенки на верхушке порции мороженого. Это чтобы уведомить тебя – и весь свет в придачу, – что выкинул ты не просто глупость, но нечто, несовместимое со званием пехотинца, и потому лишен права общаться с товарищами, пока не переменишься к лучшему.
Но в лагере Спуки можно было ходить в город – если ты не в наряде, хорошо себя вел и так далее. Каждое утро в воскресенье – сразу после богослужения – отправлялся рейс на Ванкувер, а обратный привозил тебя к ужину или к отбою. Инструкторам же разрешалось проводить в городе и ночь с субботы на воскресенье, а то и целых три дня подряд – некоторым расписание позволяло.
Стоило мне в первый раз выйти из автобуса – и я понял, насколько изменился. Джонни больше не годился для гражданской жизни. Все вокруг казалось удивительно запутанным и суматошным, просто не верилось, что такой беспорядок бывает на свете.
О Ванкувере я ничего плохого сказать не хочу. Город этот прекрасный и расположен удачно; люди в нем гостеприимные, привыкшие к МП на улицах. В центре Ванкувера для нас организовали клуб, где каждую неделю бывали танцы. Юные хозяйки города не прочь потанцевать, а хозяйки постарше следят за тем, чтобы застенчивый парень (например, я – к собственному изумлению, но что делать; сами попробуйте несколько месяцев без женского общества, если крольчих не считать) был представлен девушке и мог всласть наступать ей на ноги.
Но в первый раз я не пошел в клуб. Просто стоял и глазел вокруг – на прекрасные дома, на витрины с грудами разных безделушек и роскошеств – и никакого тебе оружия! – на людей, спешащих мимо по делам или просто так гуляющих, – и ни на ком не было одинаковой одежды! И в особенности – на девушек.
Я ведь не представлял раньше, насколько они замечательны! Хотя открыл их для себя, едва узнав, что отличаются они от нас не только одеждой. Сколько себя помню, у меня никогда не было того периода, когда мальчишка, узнав о том, что девочки – другие, начинает их ненавидеть. Мне они нравились всегда.
И оказалось, что раньше я просто считал, что – вот, они такие, какие и должны быть. Но теперь… Даже стоять на углу и глядеть, как они проходят мимо, – это потрясающе! Ведь они не ходят так, как мы, – не знаю, как это описать, но их походка намного сложнее и гораздо красивее. Они не просто переставляют ноги – все тело их движется, каждая часть в своем направлении. Выглядит очень грациозно.
Если бы к нам не подошел полицейский, я так и простоял бы там.
– Как жизнь, ребята? Развлекаемся?
Я глянул на его планки и был просто подавлен:
– Да, сэр! Так точно, сэр!
– Ко мне можешь не обращаться «сэр». А чего ж вы в клуб не идете? Здесь-то особенно развлечься нечем.
Он дал нам адрес, объяснил, как пройти, и мы было направились в клуб – Пат Лейви, Котенок Смит и я, – а он крикнул весело:
– Счастливо отдохнуть, ребята! И не ввязывайтесь там во что попало!
То же самое нам говорил Зим, когда мы садились в автобус.
Но до клуба мы не дошли. Пат Лейви когда-то жил в Сиэтле, и теперь захотел посмотреть на него снова. Деньги у него были, и он предложил взять нам билеты на автобус, если мы поедем с ним. По мне, все было хорошо – автобусы ходили туда через каждые двадцать минут, а увольнительные наши Ванкувером не ограничивались. Смит тоже поехал с нами.
Сиэтл не очень отличался от Ванкувера, а девушек там тоже было полно – я просто наслаждался. Однако в Сиэтле не привыкли видеть пехотинцев на улицах, а мы выбрали не самое подходящее место, чтобы пообедать, – бар-ресторан в доках.
Нет, мы ничего такого не пили. Ну, Котенок к обеду взял одну-единственную кружку пива, однако был таким же дружелюбным и приветливым, как всегда. За это его, кстати, и прозвали Котенком. Как-то на занятиях по рукопашному бою капрал Джонс буркнул ему с отвращением: «Котенок лапкой – и то сильней ударил бы!» Готово дело; тут как тут прозвище.
Мы одни были в форме – большинство посетителей составляли моряки торгового флота: в Сиэтл приходила целая куча кораблей. Я тогда еще не знал, что в торговом флоте нас не любят. Частью оттого, что их гильдия уже сколько раз безуспешно старалась быть приравненной к федеральной службе, но, похоже, некоторые просто следуют вековой традиции.
Тут же были и несколько парнишек нашего возраста – как раз подходящего для службы, – но эти служить не пошли. Волосатые, недотепистые, грязные какие-то… Да чего там, и я сам таким же был, пока не пошел в армию.
Вначале мы заметили, что за столиком сзади двое из этих молодых невеж и два торговых моряка (судя по одежде) начали отпускать разные замечания, с тем чтобы мы слышали. Приводить этих замечаний не буду.
Мы им ничего не сказали. Когда замечания приняли более личный характер, а смех стал громче, и все посетители умолкли и стали прислушиваться, Котенок шепнул мне:
– Идем-ка отсюда.
Я подмигнул Пату Лейви, он кивнул. Рассчитываться было не надо, в этом заведении брали деньги вперед. Мы поднялись и пошли.
Они пошли за нами.
Пат шепнул:
– Внимательно…
Мы продолжали идти, не оглядываясь.
Они догнали нас.
Я увернулся. Тот, кто бросился на меня, получил ребром ладони по шее и пролетел мимо. Я бросился помочь ребятам, но все уже кончилось. Их было четверо, и все четверо лежали. С двумя справился Котенок, а Пат, можно сказать, размазал своего по фонарному столбу, швырнув его чуть сильней, чем надо.
Кто-то, по-моему, хозяин заведения, должно быть, позвал полицию, еще когда мы пошли к выходу. Они примчались тут же, пока мы стояли, не зная, что теперь делать с такой кучей мяса, сразу два полисмена и так быстро – видать, район был не из спокойных.
Старший требовал, чтобы мы возбудили дело, но никому из нас не хотелось – ведь Зим же сказал: «не ввязываться». Котенок посмотрел на него безмятежно, будто пятнадцатилетний, и сказал:
– Они, я думаю, споткнулись.
– Да уж понятно, – согласился полицейский и, выковырнув носком сапога из откинутой руки нападавшего на меня нож, сунул его между плит поребрика и сломал лезвие.
– Ладно. Вам, ребята, лучше пойти в другой район.
И мы ушли. Я был рад, что Пат с Котенком не стали подымать дело. Вообще-то покушение штатских на военнослужащего – штука серьезная, но какого черта? Все по справедливости. Сами полезли, сами и получили. Все нормально.
Хорошо, что в увольнение мы ходим без оружия, и нас тренировали отключать не убивая! Ведь все, что мы делали, шло на одних рефлексах. Я до последнего не верил, что они на нас полезут, а потом уже действовал не думая. Вообще ни о чем не думал, пока драка не кончилась.
Вот тогда я до конца понял, насколько изменился.
Мы пошли обратно на станцию и сели в автобус до Ванкувера.
Сразу, как мы прибыли в лагерь Спуки, нас начали обучать технике бросков. Когда доходила очередь, наш взвод (полностью укомплектованный взвод – а назывались мы все еще ротой) перебрасывали на северный космодром Уолла-Уолла, сажали на корабль, поднимали в космос, производили бросок, там мы проделывали все упражнения и собирались к маяку. Всех дел на день. С восьмью ротами выходило поначалу даже меньше, чем по броску в неделю, но потом стало и по нескольку раз в неделю – ряды наши продолжали редеть. А броски пошли сложней – в горы, в арктические льды, в австралийские пустыни, когда же мы кое-чему научились – то и на поверхность Луны, где капсула сбрасывается с высоты в несколько сот футов и потому взрывается, едва отстрелившись. Нужно было живо оглядеться и приземлиться только на двигателях скафандра (воздуха там нет, и парашют бесполезен), при этом плохая посадка могла разгерметизировать скафандр, после чего находящемуся внутри остается только задохнуться.
Причиной истощения наших рядов были несчастные случаи – смерти, ранения, а некоторые просто отказались войти в капсулу, и их даже не ругали, их просто отвозили назад в лагерь и тем же вечером увольняли. И даже тот, кто сделал несколько бросков, мог вдруг запаниковать и отказаться… и инструкторы говорили с ним мягко, будто с другом, который внезапно захворал.
Я никогда не отказывался войти в капсулу – зато узнал, что такое дрожь. Меня трясло каждый раз, как дурачка пуганого. Да и сейчас трясет.
И все же, пока ты не прошел броска, ты не боец.
Рассказывают такую байку – может, и выдуманную – про МП, который осматривал Париж. Посетив Дом инвалидов, он посмотрел гробницу Наполеона и спросил часового, француза:
– А это кто?
Француз был ужасно оскорблен:
– Мосье не знает?! Это гробница Наполеона – Наполеон Бонапарт был величайшим воином всех времен и народов!
МП немного поразмыслил, а потом спросил:
– Да? А где же он выбрасывался?
Все это, конечно, выдумки – там, снаружи, есть громадная надпись, объясняющая, кем был Наполеон. Однако думать о нем МП должен был именно так.
Наконец подготовка кончилась.
Я вижу, что почти ни о чем не рассказал. Ни слова о большей части нашего оружия, ни слова о том, как мы бросили все и три дня тушили лесной пожар, ни слова о той тревоге, которая оказалась настоящей боевой, но мы не знали этого, пока все не кончилось, ничего о том дне, когда сдуло кухонную палатку, вообще ни одного упоминания о погоде – а ведь, вы уж мне поверьте, погода для нас, «пончиков», штука очень важная – особенно дождь и грязь. Но что погода так уж важна – нам только там казалось; сейчас-то для меня все это выглядит сплошной ерундой. Вся погода за то время подробно описана в метеосводках-ежегодниках, их вы можете достать везде, и там изложено все что надо.
Вначале в нашем полку было 2009 человек, а теперь стало 187: четырнадцать умерли (один был казнен, и имя его вымарано из списков), а остальные поувольнялись, были выгнаны, переведены, получили отставку по здоровью или еще как-нибудь. Майор Мэллой сказал краткую речь, каждый из нас получил сертификат, мы в последний раз прошли к осмотру, а затем полк был расформирован, и знамя его зачехлено до той поры, пока через три недели не понадобится снова, чтобы напоминать еще паре тысяч шпаков, что они – воинская часть, а не так себе толпа.
Теперь я был «рядовым обученным», и перед моим личным номером вместо букв РН появились РО. Большой день!
Может быть, самый большой в моей жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































