Текст книги "Моральное животное"
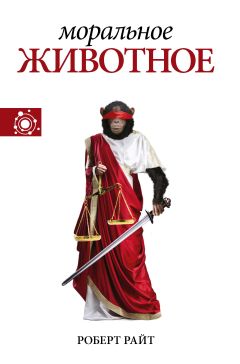
Автор книги: Роберт Райт
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
Глава 4
Брачный рынок
Невозможно читать сочинение м-ра М’Леннана и не убедиться, что почти все цивилизованные народы сохраняют еще некоторые следы столь грубых нравов, как, например, насильственное похищение жен. Можно ли назвать хоть один древний народ, спрашивает тот же автор, у которого одноженство существовало бы с самого начала?
Есть в нашем мире одна вещь, которая кажется абсолютно нелогичной. С одной стороны, миром правят главным образом мужчины. С другой – почти всюду полигамия запрещена. Если мужчины в самом деле животные, описанные в двух предыдущих главах, как они это допустили?
Иногда данный парадокс объясняют компромиссом между женской и мужской природой. В старомодном викторианском браке мужчины меняют свою тягу к странствиям на раболепие и ежедневный уход. Жены готовят, убирают, выполняют указания и мирятся со всеми неприятными аспектами постоянного мужского присутствия. За это мужья великодушно соглашаются остаться дома.
Эта теория, какой бы привлекательной она ни была, по большому счету, не имеет никакого отношения к реальной жизни. Бесспорно, в любом моногамном браке существует компромисс. И в любой двухместной тюремной камере он существует. Правда, это вовсе не значит, что тюрьмы возникли как следствие компромисса между преступниками. Компромисс между мужчиной и женщиной может объяснить, почему моногамия сохраняется (там, где это действительно так), однако он ничего не говорит нам о том, откуда она взялась.
Чтобы ответить на вопрос «Почему моногамия?», прежде всего необходимо понять, что некоторым моногамным обществам, описанным антропологами (включая многочисленные культуры охотников и собирателей), ничего другого и не остается. Представители этих обществ балансируют на грани выживания. В деревне, где на черный день припасено не так уж много, распределение ресурсов мужчины на две семьи может закончиться тем, что из его детей выживут единицы, а то и вообще никто. Даже захоти он сделать ставку на вторую семью, у него возникнут серьезные проблемы с поисками новой жены. С какой стати ей довольствоваться половиной ресурсов одного бедняка, если она может получить все у другого? Из любви? Но как часто любовь дает такой вопиющий сбой? Помните, главная цель любви – привлечь женщину к тому мужчине, который будет полезен для ее потомства. Скажем больше, какая семья – а в доиндустриальных обществах именно семьи зачастую определяли «выбор» невесты – согласится терпеть такое безрассудство?
Примерно та же логика действует в обществе, где мужчины не борются за выживание, но обладают более или менее одинаковыми ресурсами. Женщина, которая выбирает половину мужа вместо одного целого, по-прежнему соглашается на меньшее (во всяком случае, в плане материального благосостояния).
Главный принцип заключается в следующем: экономическое равенство среди мужчин – особенно на грани выживания – мешает полигамии. Данная тенденция сама по себе рассеивает львиную долю загадочного ореола, сопровождающего моногамию. Как известно, более половины всех моногамных обществ классифицированы антропологами как «нестратифицированные»[155]155
Gaulin & Boster (1990).
[Закрыть]. Что на самом деле требует объяснения, так это моногамия шести дюжин обществ в мировой истории, в том числе современных промышленно развитых стран, которые одновременно и моногамны, и экономически стратифицированы. Вот уж воистину чудо природы.
Парадокс моногамии среди обществ с неравно распределенным достатком особенно подчеркивал Ричард Александер – один из первых биологов, применивших новую парадигму к поведению человека. Моногамию в культурах, балансирующих на грани выживания, Александер называет «экологически навязанной», а моногамию в более богатых, более стратифицированных обществах – «социально навязанной»[156]156
Alexander (1975), Alexander et al. (1979).
[Закрыть]. Вопрос в том, почему социум ее навязал.
Некоторые люди жалуются, что термин «социально навязанный» оскорбляет их романтические чувства. На первый взгляд он подразумевает, что в отсутствие законов, запрещающих многоженство, женщины начнут стаями слетаться к деньгам, радостно соглашаясь на место второй или третьей жены до тех пор, пока этих денег будет хватать на всех. Слова «стая» и «слетаться» употреблены здесь не без умысла. У многих птиц различия между территориями, которые контролируют самцы, носят как количественный, так и качественный характер; таким видам, как правило, свойственна полигиния. Самки охотно делятся самцом, владеющим гораздо большей недвижимостью, чем любой другой самец, которого они могли бы «прибрать к рукам»[157]157
Модель «порога полигинии» у птиц была предложена в 1969 году (Orians, 1969). Также см.: Daly & Wilson (1983). С. 118–123; Wilson (1975). С. 328. Голен и Бостер (Gaulin & Boster) усматривают связь между гипотезой «порога полигинии» и терминологией Александера.
[Закрыть]. Женщины же, напротив, чаще предпочитают верить, что ими движет более возвышенная любовь и что у них больше гордости, чем у какого-то длинноклювого болотного крапивника.
Так и есть. Даже в полигиничных культурах женщины обычно не горят желанием делиться мужчиной. Однако многие скорее согласятся стать второй женой богатея, чем единственной супругой нищего бездельника. Образованным дамам из высших слоев общества легко отрицать, что любая уважающая себя женщина охотно согласится на полигинию и что жены придают большое значение доходам мужа. Ничего другого от них ждать не приходится. Женщины из высшего общества редко сталкиваются с бедными мужчинами, не говоря уж о перспективах выйти за них замуж. Их окружение настолько экономически гомогенно, что им можно не утруждаться поисками более или менее сносного кормильца; вместо этого они могут сосредоточиться на других качествах жениха, например его музыкальных или литературных пристрастиях. (Кстати, подобные пристрастия сами по себе являются надежными показателями социоэкономического статуса мужчины. Это напоминает нам, что дарвинистская оценка супруга необязательно должна быть сознательно дарвинистской.)
Александер утверждал, что в сильно стратифицированных моногамных обществах есть что-то искусственное. В пользу данного наблюдения говорит тот факт, что в большинстве таких обществ полигиния есть, стоит лишь копнуть чуточку глубже. Хотя быть любовницей даже сегодня считается постыдным, многие женщины предпочитают эту роль двум другим альтернативам: либо быть верной мужчине с меньшими средствами, либо остаться одинокой.
После того как Александер выделил два вида моногамных обществ, его идеи получили поддержку из другого, менее явного источника. Антропологи Стивен Голен и Джеймс Бостер показали, что феномен приданого – перевод имущества из семьи невесты в семью жениха – обнаруживается почти исключительно в обществах с социально навязанной моногамией. Так, традиция давать за невестой приданое практикуется в 37 процентах стратифицированных неполигиничных обществ и только в 2 процентах всех нестратифицированных неполигиничных обществ. (Для полигиничных обществ эта цифра составляет около 1 процента[158]158
Gaulin & Boster (1990). Я использую термин «неполигиничный», поскольку авторы выделяют не полигамные и моногамные общества, а полигиничные и неполигиничные; к категории неполигиничных обществ относится мизерная доля известных полиандрических обществ.
[Закрыть].) Другими словами, хотя всего 7 процентов известных науке обществ характеризуются социально навязанной моногамией, они составляют 77 процентов обществ с традицией приданого. Из этого следует, что приданое – продукт рыночного дисбаланса; ограничивая мужчину одной женой, моногамия искусственно делает богатых мужчин драгоценным товаром. Приданое – цена за этот товар. Не исключено, что в обществе с узаконенной полигинией самые состоятельные мужчины (и, возможно, самые обаятельные и мускулистые – одним словом, обладающие чем-то, что может частично перевесить материальную составляющую) вместо огромного приданого скорее выберут много жен.
Победители и проигравшие
Допустим, мы согласились с таким подходом к браку. Мы отказались от западной этноцентрической перспективы и гипотетически приняли дарвинистский тезис, согласно которому мужчины (сознательно или несознательно) стремятся к обладанию как можно большим количеством машин для секса и рождения детей, а женщины (сознательно или несознательно) преследуют цель максимизировать ресурсы, доступные потомству. В этом случае у нас в руках оказывается ключ к объяснению того, почему моногамия до сих пор с нами: хотя полигиничное общество часто представляется весьма желанным для мужчин и ненавистным для женщин, на самом деле ни тот, ни другой пол не может похвастаться естественным консенсусом по данному вопросу. Очевидно, что институт моногамии не слишком отвечает интересам женщин, которые вышли замуж за бедного мужчину и не против обменять его на половину богатого. Равно очевидно и то, что институт полигинии не принесет счастья тем бедным мужчинам, которых бросили меркантильные супруги.
Эти на первый взгляд ироничные соображения относятся не только к людям, находящимся у самого подножия материальной пирамиды. Если рассуждать сугубо с дарвинистской точки зрения, в моногамной системе большинство мужчин, вероятно, окажутся в лучшем положении, а большинство женщин – в худшем. Это важный момент, заслуживающий краткого иллюстративного отступления.
Рассмотрим грубую и неромантичную, но аналитически удобную модель брачного рынка. Возьмем тысячу мужчин и тысячу женщин, ранжированных согласно их привлекательности как супругов. Хорошо, хорошо, в реальной жизни нет единого мнения в таких вопросах. Но четкие закономерности есть. Немногие женщины предпочтут безработного и беспутного мужчину амбициозному и успешному (при прочих равных), и немногие мужчины выберут тучную, несимпатичную и глупую женщину вместо фигуристой, красивой и умной. Во имя интеллектуального прогресса объединим эти и другие аспекты привлекательности в одну категорию.
Предположим, эти две тысячи человек живут в моногамном обществе. Каждая женщина должна выйти замуж за мужчину одного с ней положения. Конечно, она хотела бы выйти замуж за мужчину рейтингом повыше, но всех их уже разобрали вышестоящие конкурентки. Мужчины тоже были бы не прочь жениться на женщине более высокого статуса, но не могут этого сделать по той же причине. Перед тем как все эти помолвленные пары поженятся, давайте узаконим полигинию и волшебным образом избавимся от ее позорного клейма. И предположим, что как минимум одна женщина – скажем, вполне привлекательная, но не слишком умная особа с рейтингом 400 – бросает своего жениха (мужчину № 400, продавца обуви) и соглашается стать второй женой преуспевающего юриста (мужчины № 40). Это не так уж и неправдоподобно – в сущности, она отказывается от семейного дохода примерно в 40 000 долларов в год, часть которого ей придется зарабатывать самой (например, в Pizza Hut), в пользу ежегодного дохода в 100 000 долларов и возможности вообще не работать (не говоря уж о том, что мужчина № 40 танцует лучше, чем мужчина № 400)[159]159
Если предыдущая невеста юриста не захочет им делиться, он может найти другую женщину, которая захочет. По мере того как все больше и больше мужчин с высоким рейтингом будут находить себе по две-три сговорчивых жены, женщинам будет все сложнее и сложнее настаивать на моногамии, не принося в жертву свою избирательность. Кстати, если вам интересно, почему мы не рассматриваем сценарий, в котором мужчины соглашаются делиться женами, то одна из причин очевидна: большинство мужчин находят идею делиться супругами гораздо более отвратительной, чем женщины. Истинная полиандрия принята лишь в нескольких культурах и всегда сопровождается полигинией. См.: Daly & Wilson (1983). С. 286–288.
[Закрыть].
Даже если таким полигинным социально-экономическим «лифтом» воспользуется всего одна женщина, положение большинства других женщин улучшится, а положение большинства мужчин ухудшится. Все 600 женщин, чей рейтинг ниже рейтинга нашей перебежчицы, поднимутся на ступень вверх, чтобы заполнить образовавшийся вакуум; и у них по-прежнему будет собственный муж, причем улучшенный его вариант. С другой стороны, 599 мужчин получат жену, немного уступающую их бывшим невестам, а один вообще останется холостяком. Конечно, в реальной жизни женщины не поднимаются по социально-экономической лестнице скопом. Очень скоро вам непременно попадется женщина, которая, поразмыслив, останется со своим мужчиной. Но в реальной жизни вы, скорее всего, столкнетесь с тем, что воспользоваться полигинным лифтом пожелает отнюдь не единственная миловидная особа. Таким образом, главный тезис остается в силе: общество, в котором женщины вольны делиться мужьями, предполагает расширение возможностей, доступных многим, многим из них – даже тем, кто предпочтет не делиться[160]160
Я исхожу из того, что женщина может согласиться выйти замуж за мужчину при юридически закрепленной договоренности, что он никогда не обзаведется второй женой. Но поскольку мужчины вольны отказаться жениться на таких условиях, некоторые женщины не станут на нем настаивать.
[Закрыть]. И наоборот, многим, многим мужчинам полигиния не принесет ничего хорошего.
Получается, официально оформленная моногамия, которая часто рассматривается как победа в борьбе за эгалитаризм и права женщин, в действительности не оказывает никакого уравнивающего действия. Полигиния намного равномернее распределила бы мужской капитал. Красивые, веселые жены обаятельных и подтянутых корпоративных «титанов» отвергают полигинию как нарушение базовых прав женщин. Вполне разумно с их стороны. А вот для замужней женщины, живущей в нищете, или одинокой женщины, мечтающей о муже и ребенке, совершенно естественно спросить: какие такие права женщин защищает моногамия? Единственные непривилегированные граждане, которые должны одобрять моногамию, – это мужчины. Именно она дает им доступ к женщинам, которые в противном случае предпочли бы подняться по социальной лестнице на несколько ступенек выше.
Таким образом, за воображаемым столом переговоров, в результате которых появилась традиция моногамии, собрались не мужчины и не женщины. Моногамия не минус для первых и не плюс для вторых; внутри обоих полов интересы естественным образом пересекаются. Скорее, великий исторический компромисс был заключен между более удачливыми и менее удачливыми мужчинами. Для них институт моногамии действительно представляет подлинный компромисс: самые удачливые по-прежнему получают самых привлекательных женщин, но только по одной на каждого. Такое объяснение моногамии – как дележки сексуальной собственности среди мужчин – согласуется с фактом, который мы упомянули в начале этой главы: именно в руках мужчин обычно сосредоточена политическая власть, и именно мужчины на всем протяжении человеческой истории заключали большинство политических сделок.
Разумеется, это вовсе не означает, что мужчины однажды собрались и, обсудив все «за» и «против», пришли к выводу, что каждому полагается только одна жена. Скорее, идея в том, что полигиния несовместима с ключевыми ценностями эгалитаризма – ценностями, пропагандирующими не равенство между полами, а равенство между мужчинами. Кстати, не исключено, что «ценности эгалитаризма» – слишком мягкое выражение. Когда политическая власть распределилась более равномерно, коллекционирование женщин мужчинами высшего класса просто стало неприемлемым. Мало что вызывает у правящей элиты больше поводов для беспокойства, нежели масса сексуально голодных и бездетных мужчин, обладающих хотя бы малой толикой политической власти.
Этот тезис остается только тезисом[161]161
Данный тезис – институализированная моногамия как имплицитный компромисс между мужчинами в относительно эгалитарных обществах – уходит своими корнями в работы различных ученых. Именно в этом направлении указывает Ричард Александер (Alexander, 1975. С. 95), особенно в трактовке Бетциг (Betsig, 1982. С. 217). Первый раз я наткнулся на этот тезис (в той форме, в которой он изложен здесь) в 1990 году, в беседе с Кевином Макдональдом, который, насколько я знаю, никогда не излагал его в письменной форме. Смежные исследования см. McDonald (1990). Связь между моногамией и демократическими ценностями см.: Tucker (1993).
[Закрыть]. Впрочем, действительность (по крайней мере, в общих чертах) с ним согласуется. Лора Бетциг показала, что в доиндустриальных обществах крайняя полигиния часто идет рука об руку с крайней политической иерархичностью, достигая апогея при наиболее деспотических режимах. (Король зулусов, например, который имел право на сто жен, а то и больше, карал смертью всякого, кто позволял себя кашлянуть, плюнуть или чихнуть за его столом.) Сверх того, в большинстве таких обществ распределение сексуальных ресурсов сообразно политическому статусу четко определено. У инков представители четырех политических должностей, от местного управляющего до правителя, имели право на семь, восемь, пятнадцать и тридцать женщин соответственно[162]162
Зулусы: Betsig (1982); инки: Betsig (1986).
[Закрыть]. Само собой разумеется, что по мере распределения политической власти менялось и распределение жен. Результат: принцип «один человек – один голос» и принцип «один мужчина – одна жена». И тот и другой характерны для большинства современных промышленно развитых стран.
Правильно или нет, но эта теория происхождения современной институциализированной моногамии – наглядный пример того, что дарвинизм может предложить историкам. Дарвинизм, конечно же, не объясняет историю как эволюцию; естественный отбор работает не настолько быстро, чтобы порождать текущие изменения на уровне культуры и политики. Зато естественный отбор создал разум, который на это способен. И понимание того, как именно он создал этот разум, может пролить новый свет на движущие силы истории. В 1985 году выдающийся историк Лоренс Стоун опубликовал эссе, где подчеркивал эпическое значение раннехристианского упора на верность мужей и незыблемость брака. Рассмотрев пару теорий о распространении данного культурного новшества, он заключил, что ответ «остается неясным»[163]163
Stone (1985). С. 32.
[Закрыть]. Вероятно, дарвинистское объяснение – моногамия есть непосредственное выражение политического равенства среди мужчин – заслуживало хотя бы упоминания. Едва ли является совпадением то, что христианство, призывавшее к моногамии как политически, так и интеллектуально, часто апеллировало именно к бедным, бесправным слоям населения[164]164
См.: McDonald (1990).
[Закрыть].
Что не так с полигинией?
Дарвинистский анализ брака существенно усложняет выбор между моногамией и полигинией. Он показывает, что выбирать приходится не между равенством и неравенством. Выбирать приходится между равенством среди мужчин и равенством среди женщин. A это непросто.
Существует несколько убедительных причин голосовать за равенство мужчин – то есть моногамию. Во-первых, моногамия позволяет избежать гнева феминисток, которые и слышать не желают, что полигиния освободит угнетенных, прозябающих в нищете женщин. Во-вторых, моногамия – единственная система, способная, по крайней мере теоретически, обеспечить супругом почти каждого. Но главное, оставлять большое количество мужчин без жен и детей не только несправедливо – это опасно.
Основной источник опасности – половой отбор среди мужчин. Мужчины давно соперничали за доступ к дефицитному половому ресурсу: женщинам. И цена проигрыша в этом соперничестве настолько высока (генетическое забвение), что естественный отбор побудил их соревноваться с особым неистовством. Во всех культурах мужчины больше женщин склонны к насилию, включая убийство. (На самом деле это справедливо в отношении всего животного мира: самцы почти всегда воинственнее самок, за исключением тех видов – например, плавунчиков, – где родительский вклад самца настолько велик, что самки могут размножаться чаще, чем самцы.) Даже когда насилие направлено не на полового конкурента, оно часто сводится к сексуальному соперничеству. Тривиальная ссора может закончиться тем, что один мужчина убьет другого, дабы «сохранить реноме» – иными словами, заработать тот вид примитивного уважения, который в анцестральной среде мог поднять статус и принести награды сексуального характера[165]165
См.: Daly & Wilson (1988); Daly & Wilson (1990a).
[Закрыть].
К счастью, мужская жестокость смягчается определенными обстоятельствами. И одно из них – супруга. Разумно ожидать, что одинокие мужчины будут соперничать с особой свирепостью. Так оно и есть. Неженатые мужчины в возрасте от 24 до 35 лет убивают других мужчин примерно втрое чаще, чем женатые мужчины того же возраста. Отчасти это различие, без сомнений, служит отражением двух мужских типажей – мужчин, которые женятся, и мужчин, которые не женятся. Тем не менее Мартин Дали и Марго Уилсон утверждают: ключевую роль играет «умиротворяющий эффект брака»[166]166
Daly & Wilson (1990a). Данная закономерность справедлива только в отношении мужчин старше 35 лет. Как ни странно, выраженные различия между мужчинами младше 24 лет отсутствуют. Дали и Уилсон предлагают следующее объяснение: мужчины, которые достигают физической зрелости в более раннем возрасте, более склонны и к делинквентности, и к сексуальной активности (и, следовательно, к женитьбе). Данные собраны в Дейтроте (1972) и Канаде (1974–1983).
[Закрыть].
Убийство – не единственная вещь, к которой особенно склонны «неумиротворенные» мужчины. Последние намного чаще идут на риск и другие преступления (к примеру, грабеж) и с большей вероятностью прибегнут к изнасилованию. Более того, рискованный, преступный образ жизни часто влечет за собой злоупотребление наркотиками и алкоголем, что, в свою очередь, еще больше уменьшает шансы заработать достаточно денег, чтобы привлечь женщин законными способами[167]167
Подробнее о риске, преступлениях и т. д. см.: Daly & Wilson (1988), особенно с. 178–179; Thornhill & Thornhill (1983); Buss (1994); Pedersen (1991). Басс и Педерсен рассматривают такие явления как продукты высокого соотношения полов – отношения мужчин брачного возраста к женщинам брачного возраста. Однако и полигиния, включая полигинию де-факто (т. е. последовательную моногамию), порождает грубый практический эквивалент высокого соотношения полов.
[Закрыть].
Вот, пожалуй, лучший аргумент в пользу моногамного брака с его уравнивающим влиянием на мужчин: неравенство мужчин социально деструктивнее, причем и для мужчин, и для женщин, нежели неравенство женщин. Полигиничная нация, где многие мужчины с низким доходом остаются без пары, – не та страна, где большинство из нас хотело бы жить.
К сожалению, мы уже живем в такой стране. Соединенные Штаты – больше не нация институционализированной моногамии. Это нация последовательной моногамии. А последовательная моногамия в некоторых отношениях ничем не отличается от полигинии[168]168
В частности, данной точки зрения придерживается Таккер (Tucker, 1993), который отмечает, что последовательная моногамия поощряет жестокость и насилие среди мужчин.
[Закрыть]. За свою карьеру Джонни Карсон[169]169
Уильям «Джонни» Карсон (1925–2005) – американский журналист и телеведущий. Наибольшую известность приобрел в качестве ведущего телепрограммы Tonight Show на канале NBC. – Примеч. пер.
[Закрыть] (как, впрочем, и многие другие богатые и статусные мужчины) монополизировал лучшие репродуктивные годы сразу нескольких молодых женщин. Где-то там был мужчина, который мечтал о семье и красивой жене; если бы не Джонни Карсон, он бы женился на одной из них. Даже если этому мужчине и удалось найти женщину, то он, бесспорно, «умыкнул» ее из-под носа другого мужчины. Таков эффект домино: дефицит фертильных женщин спускается вниз по социальной пирамиде.
Как бы абстрактно-теоретически это ни звучало, именно так все и происходит. Фертильный период у женщины длится около двадцати пяти лет. Когда один мужчина контролирует более двадцати пяти лет женской фертильности, то другой вынужден довольствоваться меньшим. А если, в дополнение ко всем последовательным мужьям, вы добавите молодых мужчин, которые живут с женщиной по пять лет перед тем, как принять решение не жениться на ней, а затем делают это снова (и, наконец, лет в тридцать пять женятся на двадцативосьмилетней), суммарный эффект может оказаться весьма и весьма существенным. Если в 1960 году число мужчин и женщин сорока лет и старше, никогда не состоявших в браке, было примерно одинаковым, то к 1990 году одиноких мужчин стало гораздо больше, чем женщин[170]170
Saluter (1990). С. 2. С 1960 по 1990 год доля и мужчин, и женщин, никогда не состоявших в браке, на самом деле снизилась. На первый взгляд это противоречит идее о том, что при последовательной моногамии многие социально ущемленные мужчины останутся без пары, однако это необязательно так. По мере увеличения количества разводов общее число людей, когда-либо состоявших в браке, будет стремиться вверх, тогда как среднее количество времени, проведенное в браке, может снизиться. Возможно, для бедных мужчин это снижение особенно выражено. Статистические данные не позволяют однозначно ответить на этот вопрос. Как показывают исследования, сегодня женщины распределены между мужчинами менее справедливо, чем раньше: в 1960 году 7,5 % женщин и 7,6 % мужчин 40 лет и старше никогда не состояли в браке. В 1990 году аналогичные показатели составили 5,3 % для женщин и 6,4 % для мужчин. Что интересно, в период с 1960 по 1990 год доля одиноких мужчин и женщин от 39 до 45 лет в действительности возросла. Сейчас эти показатели составляют 8,0 и 10,5 % соответственно. То же наблюдается и в возрастном диапазоне от 30 до 34 лет: доля женщин, никогда не состоявших в браке, выросла с 6,9 до 16,4 %, а доля мужчин – с 11,9 до 27,0 %. Разумеется, все эти цифры неоднозначны: многие из тех, кто никогда не состоял в браке (особенно в более молодой возрастной группе), могли бы обзавестись супругом, но предпочли не узаконивать отношения с партнером. В отсутствие статистики по всем типам моногамных взаимоотношений – включая сожительство без брака, а также взаимную верность без сожительства – четкий количественный анализ невозможен.
[Закрыть].
Не такая уж и сумасшедшая мысль – думать, будто часть бездомных алкоголиков и насильников, случись им родиться до 1960-х годов и расти в социальном климате, когда женские ресурсы были распределены более равномерно, вовремя нашли бы себе жену и выбрали бы менее рискованный и деструктивный образ жизни. В любом случае факт остается фактом: если полигиния действительно может оказать пагубное влияние на наименее удачливых мужчин и косвенно на всех нас, выступать против легализованной полигинии недостаточно. (Кстати, легализация полигинии не была актуальной политической угрозой в последний раз, когда я проверял.). Нас должна беспокоить полигиния де-факто, которая уже существует. Главный вопрос не в том, можно ли спасти моногамию, а в том, можно ли ее восстановить. В поисках ответа к нам с энтузиазмом присоединятся не только недовольные холостяки, но и многие бывшие жены – особенно те, кому не посчастливилось выйти замуж за кошелек вроде Джонни Карсона.
Дарвинизм и нравственные идеалы
Эти взгляды на брак – классический пример той роли, которую дарвинизм может сыграть в рассуждениях о морали. Что он не может делать, так это снабдить нас базовыми моральными ценностями. Например, хотим мы жить в эгалитарном обществе или нет – выбор за нами; безразличие естественного отбора к страданиям слабых – не та вещь, которую стоит имитировать. Нас не должно волновать, действительно ли убийства, грабежи и насилие в некотором смысле «естественны». Нам решать, насколько отвратительными мы находим такие явления и насколько жестко готовы с ними бороться.
Как только мы приняли такие решения, как только выработали нравственные идеалы, дарвинизм поможет нам понять, какие социальные институты будут отвечать им лучше всего. В данном случае он подсказывает нам, что превалирующий брачный институт – последовательная моногамия – во многом эквивалентен полигинии. Как таковой, этот институт порождает неравенство среди мужчин и еще больше усугубляет положение обездоленных. Цена такого неравенства – жестокость, воровство, насилие и т. п.
В этом свете старые дебаты о морали приобретают новый оттенок. В частности, тенденция политических консерваторов монополизировать аргумент о «семейных ценностях» начинает выглядеть, мягко говоря, странной. Либералы, озабоченные «глубинными причинами» преступности и бедности, могли бы логически выработать некоторую любовь к «семейным ценностям». Так, снижение количества разводов за счет большей доступности молодых женщин для мужчин с низкими доходами может удержать заметное число мужчин от преступности, наркомании, а иногда и бродяжничества.
Учитывая материальные возможности, которые полигиния (даже полигиния де-факто) открывает перед бедными женщинами, либералы, разумеется, должны выступать против моногамии. На самом деле против моногамии могут выступить даже феминистки. Так или иначе, очевидно, что дарвинистский феминизм – феминизм более сложный и неоднозначный. С точки зрения дарвинизма «женщины» не есть монолитная группа, объединенная общими интересами, одинаковыми от природы; единого «женского братства» не существует[171]171
См.: Symons (1982).
[Закрыть].
Есть еще одно негативное следствие принятых брачных норм, высвеченное новой парадигмой, – цена, которую платят за них наши дети. Мартин Дали и Марго Уилсон пишут: «Наиболее очевидный прогноз, вытекающий из дарвинистского подхода к родительской мотивации, по всей вероятности, состоит в следующем: неродные родители в целом склонны меньше заботиться о детях, чем родители биологические». Таким образом, «дети, воспитываемые людьми, не являющимися их естественными родителями, больше подвержены эксплуатации и иным рискам. Родительский вклад – драгоценный ресурс; посему отбор должен благоприятствовать такому устройству психики родителей, которое не позволит транжирить его на неродственников»[172]172
Daly & Wilson (1983). С. 83.
[Закрыть].
По мнению отдельных дарвинистов, данный вывод настолько очевиден, что его проверка – пустая трата времени. Тем не менее Дали и Уилсон все-таки взяли на себя этот труд. И то, что они обнаружили, удивило даже их. В 1976 году американские дети, живущие с одним или обоими неродными родителями, приблизительно в сто раз чаще подвергались жестокому обращению, влекущему за собой летальный исход, чем дети, проживающие с биологическими родителями. В одном канадском городе в 1980-х годах ребенок младше двух лет, проживающий с одним неродным родителем, имел в семьдесят раз больше шансов быть убитым, чем ребенок, проживающий с двумя родными родителями. Конечно, детоубийство совершает лишь крошечная доля неродных родителей; развод и повторный брак матери – отнюдь не смертный приговор ребенку. Но задумайтесь о более распространенной проблеме нефатального насилия. Как показывают исследования, у детей младше десяти лет, проживающих с одним родным и одним неродным родителем, в 3–40 раз больше шансов подвергнуться жестокому обращению, чем у детей, проживающих с двумя родными родителями[173]173
Daly & Wilson (1983). С. 89–91. Учитывая, что в некоторых приемных семьях проблемы могли существовать еще до усыновления ребенка, все вышеупомянутые выкладки могут ввести в заблуждение. Тем не менее, как замечают Дали и Уилсон (с. 87), приемные семьи, в отличие от неполных семей, гораздо реже живут в нищете.
[Закрыть].
Разумно предположить, что этому грубому паттерну следуют многие другие, менее страшные формы родительского безразличия. В конце концов, естественный отбор изобрел отеческую любовь по одной-единственной причине: чтобы гарантировать выгоду потомству. Хотя биологи называют подобные выгоды «вкладом», это не означает, что они ограничиваются ежемесячными банковскими чеками. Дети получают от отцов все виды опеки и поддержки (часто больше, чем отец или ребенок это осознают) и защиту от всех видов угроз. Одной матери не под силу справиться с такой задачей. Отчим почти наверняка не будет вкладывать много, если будет вообще. В дарвинистских терминах юный пасынок – препятствие к приспособленности, истощение ресурсов.
Конечно, есть способы одурачить природу, заставить родителей любить неродных детей. В конце концов, люди не телепаты и не могут почувствовать, несет ребенок их гены или нет. Вместо этого они полагаются на косвенные признаки, которыми пользовались наши далекие предки. Если женщина кормит и нянчит младенца день за днем, она рано или поздно может полюбить его; равно как и мужчина, который спал с ней много лет. Именно этот вид привязанности делает усыновленных детей достойными любви, а нянечек – способными любить. Но и теория, и практические наблюдения показывают: чем в более старшем возрасте приемный родитель впервые увидит ребенка, тем менее вероятна глубокая привязанность к нему. В то же время подавляющее большинство детей знакомится с отчимами отнюдь не в младенческом возрасте.
Нетрудно вообразить, какие дискуссии развернутся между рассудительными и гуманными людьми относительно того, действительно ли моногамное общество лучше полигиничного. Впрочем, одно несомненно: когда брачным институтам (в любом обществе) позволяют распасться, в результате чего количество разводов, матерей-одиночек и детей, не живущих с обоими биологическими родителями, возрастает, теряется наиболее драгоценный эволюционный ресурс – любовь. Каковы бы ни были относительные достоинства моногамии и полигинии, то, что мы имеем сейчас – последовательную моногамию (де-факто полигинию), – в некотором отношении худший из вариантов.
Стремление к нравственным идеалам
Очевидно, дарвинизм не всегда будет упрощать нравственные и политические дискуссии. В данном случае, подчеркивая нестыковки между равенством мужчин и равенством женщин, он фактически усложняет вопрос о том, какие брачные институты лучше всего отвечают нашим идеалам. Вместе с тем данные нестыковки существовали всегда; просто сейчас их больше не замалчивают. Как только мы определим, какие институты наилучшим образом служат нашим нравственным целям, дарвинизм может сделать свой второй вклад в дискуссию о морали: он подскажет нам, какие силы – какие моральные нормы, какая социальная политика – помогают питать эти институты.
Здесь возникает другой парадокс в дебатах о «семейных ценностях»: консерваторы могут сильно удивиться, услышав, что один из лучших способов укрепления моногамного брака – более равномерное распределение доходов[174]174
Лора Бетциг (личное общение).
[Закрыть]. Так, у молодой одинокой женщины будет меньше оснований отбивать мужа А у жены А, если у холостяка Б денег столько же. А муж А, убедившись, что молодые женщины не бросают на него кокетливые взгляды, будет больше ценить жену А и меньше замечать ее морщины. Данная динамика помогает объяснить, почему моногамный брак часто пускал корни именно в обществах с невысокой экономической стратификацией.
Один из стандартных аргументов против активной борьбы с бедностью – ее цена: налоги, которые вынуждены платить богатые, подавляют их стремление работать и тем самым снижают общие экономические показатели. Но если одна из целей такой политики – поддержка моногамии, то выравнивание доходов, при котором богатые становятся менее богатыми, – приятный побочный эффект. Моногамии угрожает не только бедность как таковая, но и относительное богатство самых состоятельных членов общества. Разумеется, тот факт, что уменьшение этого богатства снижает общие экономические показатели, по-прежнему может вызывать сожаление; но как только к пользе перераспределения доходов добавится более устойчивый брак, сожаление должно утратить часть своей остроты.
На первый взгляд может показаться, что весь этот анализ быстро теряет актуальность. В конце концов, все больше и больше женщин начинают зарабатывать самостоятельно; как следствие, при выборе мужчины многие могут позволить себе не думать о доходах. Но помните: мы имеем дело с женскими романтическими влечениями, а не только с сознательным расчетом, а эти чувства выкованы в иной среде. Если судить по обществам охотников и собирателей, то в течение всей эволюции человека большую часть материальных ресурсов контролировали мужчины. Даже в самых бедных обществах, где различия в состоятельности мужчин трудноуловимы, социальный статус отца (но не матери) играет важную роль в благополучии потомка[175]175
См. главу 12 «Социальный статус».
[Закрыть]. Хотя современная женщина, безусловно, может, проанализировав собственное финансовое благополучие и статус, принять соответствующее брачное решение, это не означает, что она с легкостью пересилит глубинные эстетические импульсы, имевшие столь важное значение в анцестральной среде. На самом деле современные женщины и не пересиливают их. Эволюционные психологи показали, что женщины не только придают большее значение финансовым перспективам супруга, чем мужчины, но и что эта склонность сохраняется вне зависимости от собственного (фактического или ожидаемого) дохода[176]176
Wielderman & Allgeier (1992).
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































