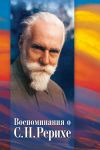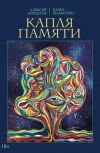Текст книги "ЯблоковСад. Воспоминания, размышления, прогнозы"

Автор книги: Сборник
Жанр: Биология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Матвеев – это, конечно, фигура. Нераскрытая фигура. Я уже после окончания университета, когда Матвеев был совсем старенький, попрекал его: «Борис Степанович, ну напишите монографию про зуб». Он зубами занимался и меня увлек этим. Я по его наущению стал смотреть зубы у усатых китов, как они закладываются у эмбрионов китов, потом появляются усы, а зубы резорбируются.
Вернемся к университету. На излете пятого курса со мной вышла «трагикомичная» история. Я написал статью в общефакультетскую стенгазету. Редакция стенгазеты ее опубликовала. Я ничего геройского не сделал. Просто написал, что мы голосуем ногами против лекций профессора Дворянкина. Дворянкин был ближайшим сподвижником Лысенко и заведовал кафедрой дарвинизма в университете. Мы действительно смеялись над ним и не ходили на его лекции. Разразился скандал.
Я всегда был скептически настроен к Лысенко, потому что Петр Петрович Смолин дал нам хорошее базовое биологическое образование. И уже тогда с «учением» Лысенко всем вокруг меня все было ясно. И моя мать уже подписала к тому времени знаменитое «Письмо трехсот». В моей семье говорили, что Лысенко – просто мракобес. И в студенческих кругах эти настроения тоже были распространены. Перед этим кто-то повесил портрет Лысенко в мужском сортире. И на фоне этого хулиганства случилось такое вполне респектабельное событие – моя заметка в стенгазете.
Событие рассмотрели на комитете комсомола. Исключать из комсомола меня не стали. Объявили выговор. Но эта история сработала на распределении. После пятого курса меня распределили учителем биологии средней школы в Архангельскую область. А я хотел идти работать в группу по исследованию морских млекопитающих к Сергею Евгеньевичу Клейненбергу. Я делал диплом у Сергея Евгеньевича. Мы изучали белуху, вместе ездили в экспедиции на Белое море, где я был лаборантом. Мне нравилось это все, и Клейненберг мне очень нравился. Сергей Евгеньевич организовал заявку от Академии наук на молодого специалиста Яблокова. Но эта заявка не была удовлетворена, и меня направили в Архангельскую область. Рушились все мои мечты и планы.
И Клейненберг сделал совершенно колоссальной хитрости или смелости ход. Он говорит: «Давайте я вас зачислю без диплома. Просто младшим лаборантом. Это не требует никакого высшего образования и диплома». Я был страшно рад и пошел к нему на эту лаборантскую ставку. Потом уже, года через два или через три, мне позвонили из университета и сказали, чтобы я забрал диплом. Мол, чего это у нас диплом валяется в ящике, приходите, забирайте.
Для Сергея Евгеньевича это было довольно рискованное решение. Тогда была довольно серьезная система воинского учета. Я был военнообязанным. По окончании университета я должен был стать старшим лейтенантом запаса по военной специальности номер один – пехота. Биологи все шли либо как пехота, либо как противочумные. Военный билет выдавался вместе с дипломом.
Но, поскольку я скрывался от распределения, военного билета у меня не было. Кадровики должны были при приеме на работу это отслеживать и смотреть, есть ли военный билет и почему, если его нет, молодой человек не служит. Я думаю, что Сергей Евгеньевич, который был в то время ученым секретарем института, воспользовался своими дружескими связями и попросил, чтобы на это не обратили внимания.
Сначала наша лаборатория работала на Ленинском, 33. А потом нам дали новое здание рядом с метро «Университет». Тогда, в 1956 году, Академия наук расширялась.
Работа была очень интересная. Я был увлечен ею. Клейненберг был очень известным к тому времени специалистом по морским млекопитающим. Он занимался черноморскими дельфинами. Уже была опубликована его монография «Дельфины Черного моря», которая до сих пор является классической книгой. Сергей Евгеньевич был специалистом очень высокого уровня по морским млекопитающим. А кроме того, он был очень обаятельным, приятным, любил рассказывать анекдоты. Невысокого роста, зачесанные назад волосы. Хороший.
Под руководством Клейненберга я занимался белухами. Меня интересовала структура тела белухи. Я собирал пробы, фиксированный материал, много занимался гистологией. Классическую морфологическую работу мне тоже удалось провести. В морфологии есть свои специализации: кто-то занимается печенью, кто-то мозгом, кто-то пищеварительной системой. А меня все интересовало: и пищеварительная система, и мозг. Я придумывал какие-то новые способы исследования. Я легкие накачивал пластмассой, а потом растворял орган, и получалось древо. Это давало совершенно другое представление о том, как работает орган. Так же я с почками делал. Канальцы и почечные лоханки по-другому смотрятся, когда они показаны в виде древа. Изучая белуху, я получил дополнительный объем общебиологического фундаментального образования. Это было важно для понимания, как работает организм, что он может, что не может. Клейненберг меня опекал, никакой рутинной лаборантской работы у меня не было, только творческая, исследовательская.
Наша группа по морским млекопитающим работала внутри лаборатории сравнительной анатомии, которую возглавляла Гали Сергеевна Шестакова. Гали Сергеевна была ученицей Шмальгаузена. Его учеников было много в Институте морфологии, это был интересный институт. Во времена Лысенко он был создан из двух институтов. Основа – классический Институт морфологии животных, который создал Северцов. К нему присоединили ликвидированный Институт цитологии и генетики, который исходно был Институтом Кольцова.
Основатели соединенных институтов – Кольцов и Северцов – были очень разными. Кольцов был во время революции на стороне социал-демократов. Его посадили в тюрьму и приговорили к смерти. Тогда Горький и Луначарский обратились к Ленину, и по распоряжению Ленина Кольцова освободили. Северцов никогда не был общественно активным человеком. Занимался только наукой и ничем больше. И это очень чувствовалось уже внутри объединенного института. Ученики Кольцова – цитологи, гистологи и генетики – всегда были бунтарями, живыми, у них все кипело. А морфологи целенаправленно изучали пятую ножку у сороконожки, и до всего остального им не было дела. Это грубо сказано, но такое разделение было.
Сергей Евгеньевич Клейненберг исходно был в Институте морфологии животных, но по духу, по знакомствам, по всему он был вместе с генетиками. И когда в 1965 году научная монополия Лысенко прекратилась, то возникло мощное движение по восстановлению всего, им разрушенного. И было решено восстановить Институт цитологии и генетики. Восстановленный в 1967 году институт стал называться Институтом биологии развития.
Мне повезло с Институтом биологии развития. Мы были как большая научная семья. А институт даже больше, чем семья. Он для меня был действительно родной, и то, что происходило в лабораториях, меня очень трогало.
Первым директором был Борис Львович Астауров, кристально честный человек. Астауров и сделал Институт биологии развития моральным, нравственным, высоконаучным. Астауров был членом-корреспондентом Академии наук, его назначили директором нашего института сразу при создании Института биологии развития. А директором нового Института морфологии животных стал Владимир Евгеньевич Соколов.
Астауров вместе с Тимофеевым-Ресовским были ближайшими учениками Кольцова. И у них были очень тесные дружеские личные связи еще с революционных времен. У Астаурова не было учеников. Он был кристально честный, но сухой человек и очень высокого ранга, но узкого диапазона ученый. Астауров сделал великолепные вещи по партеногенезу, мирового класса генетические исследования.
После Астаурова во главе института встал Тигран Турлаев, а после – Николай Григорьевич Хрущов, который был человеком компромисса. Он происходил из очень хорошей научной семьи. Однако говорили, что его отец, Григорий Константинович Хрущов, был одним из тех, кто подписал письмо против Николая Кольцова. После того письма Кольцова сняли, и он был уничтожен. Рассказывали и другую историю. Во времена Лысенко была еще одна мракобесная, хотя и меньшего масштаба фигура – Ольга Борисовна Лепешинская. Она была старым большевиком и создала теорию о возникновении живой клетки из бесструктурного вещества. Абсолютная бредятина, но эта бредятина очень понравилась Лысенко. И тогда очень многие ученые поддержали Лепешинскую, даже академик Опарин, хотя он прекрасно понимал, что это бредятина. Но Лысенко и Лепешинская были поддержаны Сталиным, и никто против этих двоих не смел слова сказать. Так вот, Григорий Константинович Хрущов опубликовал в обществе «Знание» брошюру в поддержку Лепешинской. И он же скупил весь тираж и уничтожил. Это очень показательно. С одной стороны, он делает шаг, чтобы показать свою лояльность. С другой стороны, понимая, что научно – это бред, он уничтожает все следы. Хрущовых спасала их доброжелательность. Они не любили драться, не выступали против негодяев. Сам наш институт был очень доброжелательный, а не негодяйский.
Наш Институт биологии развития славился тем, что это был институт приличных людей. У нас нельзя было быть подонком, мы их как-то сразу тушили. Может быть, подонки и были среди нас, но мы не давали им развиваться, осуждали. Институт славился своим братством, и это братство приличных людей было очень важным. Братство, по-видимому, возникает везде, в любом обществе. Как возникает – не знаю. Но именно это ощущение общих ценностей, общей морали не позволяло выйти за определенные рамки, нарушить правила приличия. В институте, который возглавлял Борис Львович Астауров, где работала Татьяна Антоновна Детлаф, нельзя было быть плохим, нельзя было врать.
И это было общим не только для института, но и для компании, куда входил Сергей Евгеньевич Клейненберг, как я понимаю. Всегда, во все времена была какая-то группа приличных людей, связанных между собой неформально. Клейненберг, биолог, был связан с Акселем Ивановичем Бергом, с академиком Борисом Николаевичем Ласкориным, с академиком Иваном Людвиговичем Кнунянцем. Это совершенно разные люди из разных областей науки. Но они были самостоятельными, а не стадом и имели чувство собственного достоинства. Они в этих жутких советских условиях пытались оставаться людьми. Какие-то компромиссы были, но внутренне они оставались людьми. Те же правила были позже и в компании, связанной с академиком Александром Леонидовичем Яншиным, куда и я потом входил. Нельзя было быть плохим человеком. Даже плохие люди не проявляли себя как плохие. Они старались показать, что они хорошие. Вот это был удивительный феномен, что в хорошей компании люди становятся лучше и даже плохие люди становятся хорошими.
Наша группа морских млекопитающих, которая стала к моменту образования Института биологии развития уже самостоятельной лабораторией, формально должна была отойти к Институту морфологии им. Северцова. Но мы не хотели быть в Институте морфологии. А перейти в Институт биологии развития было непросто: Президиум Академии наук решал судьбы лабораторий. И тогда Сергей Евгеньевич выдвинул идею, что мы являемся лабораторией постнатального онтогенеза. Клейненберг при этом рискнул тем, что мы теряли идентификацию с морскими млекопитающими и получали более общебиологическую и менее внятную, но зато широкую специализацию. Как потом оказалось, это очень правильно было. Нельзя делать группу по систематической принадлежности, мы же не зоологический институт.
Я очень быстро – уже в 1959 году – защитил кандидатскую диссертацию. Основой была морфология белухи. Диссертация называлась «Морфологические особенности белухи как представителя зубатых китообразных».
Киты в те годы исследовались очень широко. Но они исследовались в основном как промысловый объект: где, сколько, как можно добыть, как эффективно использовать, какие лучше применять технологии вытапливания жира, выделки кожи и т. д. Мы, как академическое учреждение, использовали материалы промысла для изучения строения тела и т. д.
Мне помогло то, что библиотека отделения общей биологии после войны получила очень много трофейных книг. Германию грабили фундаментально. Вывозили не только картины и предметы искусства, которые попали потом в советские музеи, но и научные библиотеки. В отделение общей биологии попала библиотека из университета в Кенигсберге. Было много старых немецких работ. В науке были разные периоды: бестиарии средневековые, анатомические работы XVIII–XIX веков, когда по одному экземпляру очень подробно исследовался мозг, делались точнейшие описания, замечательные рисунки – точнее, чем фотографии. Это все было очень интересно. В частности, там была такая классика, которую я никогда бы не увидел, если бы не было этой библиотеки.

Через два года после меня в нашу группу пришел Всеволод Белькович. Через шесть лет после меня пришла Галя Клевезаль. Образовалась группа Клейненберга, которая позже выросла в лабораторию. Наверное, я спровоцировал Сергея Евгеньевича на то, чтобы сделать такую большую сводку по белухе. Моя диссертация была в основном по морфологии этого животного. Но кроме того надо было заниматься всей биологией: поведением, распространением, питанием, всем-всем-всем.

В Юго-Восточной Азии, Малаккский пролив, 1967 г.
Мы придумали вот что. По всем полярным арктическим станциям разослали письмо-опросник с просьбой сообщить нам в Академию наук СССР, когда приходит белуха, есть ли промысел или его нет, когда уходит белуха, встречается ли. Это сработало. Мы получили довольно много ответов, после чего стало ясно примерное распределение белухи. В частности, сразу появилась информация, которая потом подтвердилась, что белуха зимует во льдах. Это было ново и интересно. Мы узнали, что в Карском море белуха наблюдается тогда, когда новоземельские проливы уже закрыты и она не может выйти в Баренцево море. А из этого следовало, что она должна зимовать в полыньях, что круглогодичные полыньи существуют.
Мы опубликовали коллективную монографию «Белуха: опыт монографического исследования вида». Это была первая монография в мире, посвященная исследованию биологического вида.
Я учился, приобретал опыт. Мне нравилось делать то, что никто до нас не делал. Это сейчас я так говорю, а тогда не понимал этого, но именно так и поступал. Впервые был использован именно монографический подход к виду, когда один вид берется и исследуется распространение, поведение, питание, структура популяции, морфология, физиология. Все это было представлено не в равной степени. Морфология изучена глубже, потому что у меня была об этом диссертация. Поведение изучено в самых общих чертах, потому что наблюдения были отрывочные, на промыслах. Но все-таки это была монография. И наша монография не прошла незамеченной: буквально через два-три года она оказалась переведена в США. Это было феноменально, необычно, придавало уверенности.
После издания монографии Галя Клевезаль пошла своим путем: занялась исследованием регистрирующих структур. То, что она сделала, – теперь классика. Само представление о регистрирующих структурах, которое она придумала, а потом с Мишей Миной они развили, – это просто блеск. Галя очень талантливый человек.
После выхода работы по белухе мне тоже настало время решать, чем заниматься дальше. Я интуитивно чувствовал, что работа с Клейненбергом – это замечательно, это очень надежная основа. Он меня защищал от всего. Я за его спиной мог делать все, что хотел. Не скажу, что я был карьеристом. Но мне хотелось все время что-то делать, я был активный. Было логично заняться другими видами морских млекопитающих.
Были организованы экспедиции в разные места, где шел промысел, где можно зверей не только в море в бинокль увидеть, но и пощупать. По белухе мы вместе с Бельковичем ездили на промысел на Шантарские острова. Был и промысел моржей на Чукотке. Но там зверей не только били, но и разделывали сразу и съедали или закладывали в ямы. Там не было возможности спокойно несколько часов заниматься со зверем. Но мы были молодые, активные, и никаких препятствий не существовало.
Моржи в некоторых местах на Чукотке собираются на лежбища. Лежбища располагаются на удобных местах, обычно на песчаных косах. На них выходят тысячи моржей и неделями там находятся. Они иногда уходят в море, питаются, потом идут обратно. Лежбища бывают самцовые, бывают самочьи. Напитались они, жирные, отдыхают и общаются.
Раньше там такая была охота – она запрещена сейчас, – когда к моржам люди подходят с пиками и начинают их просто колоть на берегу. Моржи в испуге уходят, хотя они могли бы броситься на людей и смести их своими тушами. Но моржи боятся и уходят в море, давя друг друга. И так их промышляли: кого пикой заколют, кого давлеными берут. При мне такого промысла уже не было, а лежбище было известно.
Меня забросили на лежбище – на косу. Я подобрался к моржам, чтобы не пугать их, и затаился. Сейчас трудно восстановить, каким образом пришла мне в голову идея провести несколько дней с моржами на лежбище, но меня одного завезли на косу, я подобрался к лежбищу на расстояние 300 метров, сделал в песке окоп и пробыл там дня два. У меня был фотоаппарат.
В те годы мы использовали фотоаппараты «Зенит» или «Зоркий». Был у нас и киноаппарат. После войны были огромные склады военного имущества, которое распродавалось учреждениям. И мы купили там «кинопулемет». На каждом истребителе, на каждом самолете стояла камера, и летчик, нажимая на гашетку пулемета, одновременно включал камеру. Так было положено у военных, чтобы знать, кого летчик убил, какой самолет подбил. И вот с этим кинопулеметом я тоже работал.
Но на моржовом лежбище у меня был только фотоаппарат. Я был им, можно сказать, вооружен. Это было незабываемо: часами смотреть за перемещениями на лежбище. Такие часы и минуты наблюдения один на один с природой – это не только вдохновение, единение с природой получается, а какое-то более глубокое понимание ее. Оно на всю жизнь потом остается. Может быть, поэтому зоологи и ботаники и общаются со своими листочками и цветочками, отсюда происходит понимание единства живого, понимание необходимости бережного отношения к живому. Мы едины, и, черт возьми, значит, нельзя зверствовать и убивать без причины.
Еще мы работали на зверобойном промысле на Белом море. Выходили на ледоколе «Красин» из Мурманска. Перед выходом была авиаразведка: где, в каком месте находятся залежки тюленей, где они рожают на Белом море. Недавно, несколько лет назад, я снова был на залежках, но уже как турист.
Сейчас организованы туристические поездки на залежки тюленей, которые оказались выгоднее, чем промысловая добыча. Это приносит больше прибыли, занимает больше людей и не убивает тюленей. Этот туристический бизнес фактически дал новую жизнь деревне, которая спивалась, которая не знала, что делать. Сейчас люди получили постоянный поток туристов и доходы. Это не просто устойчивое, а экологически устойчивое развитие.
Но в 60-е годы экологического туризма еще не было, был зверобойный промысел. Идет ледокол, доходит до залежки. Тюлени на льду лежат. Мы с баграми спускаемся с ледокола вниз. Без багров на колотом льду нельзя, потому что, если тебя на льдине относит куда-то, ты должен багром зацепиться за другую льдину, подтащить ее к себе и перепрыгнуть. Люди спускаются с ледокола и бегают по льду на расстоянии сотен метров. Промысел кровавый, жуткий совершенно. На льду лежат беспомощные щенки – бельки. Совсем новорожденных, нескольких дней от роду, тюленей называют зеленцами. Они зелененькие. Чуть постарше – бельки, они белые. Совсем подросшие – серки. Но серка уже взрослый, он лает и уходит в воду. А белек небольшой, он лежит на льду и ждет, пока мама вылезет из моря, покормит его. Примерно две недели, пока лед крутится в Белом море, матери кормят бельков. Мамы уходят в море, сами кормятся, потом вылезают и снова кормят бельков. Полежат с ними несколько часов рядышком, потом снова уходят. И так далее. В течение двух или двух с половиной недель бельки из 5– или 15-килограммовых детенышей становятся 30-40-килограммовыми, линяют и становятся серками. Белая шерсть уходит, и появляется серебристая серая шерсть. К этому времени течение выносит тюленей в Баренцево море, где много рыбы. Льды распадаются. Вылинявшие, с толстым слоем жира серки уже могут уйти в воду и начинают сами кормиться. Но бельки беззащитны. Белая шерсть белька быстро намокает, малыши не могут уйти в воду, не могут плавать. Смысл промысла – убить бельков и содрать с них шкуру. Шкуры бельков выделывали и шили из них роскошные шубы и шапки.

С Марией Воронцовой, директором представительства Международного фонда защиты животных (IFAW) на детской залежке гренландского тюленя. Белое море, март 2011 г.
На Беломорском промысле мы исследовали в основном бельков. Я занимался изменчивостью числа и расположения вибрисс. Позже вместе с Галей Клевезаль мы сделали большую работу по структуре вибрисс. Вибриссы – это очень интересный орган. Это своего рода антенны. Тюлени чувствуют в воде мельчайшие колебания. И Галя Клевезаль показала, что колебания этой «антенны» как по рычагу передаются на нервные окончания, которые очень обильны в основании вибрисс.

Взрослых тюленей мы изучали на многолетних паковых льдах около Гренландии. Это другая популяция и другой промысел. К Гренландским льдам ходили зверобойные шхуны. Если шхуну зажимает лед, корпус такого корабля не трескается, шхуна просто «выдавливается» наверх, на поверхность льда. Это было достижением кораблестроения – делать такие шхуны. Но на шхуне пространство ограниченно. Если на ледоколе у научных сотрудников было свое помещение, где мы могли в бочках хранить образцы, то на шхуне это было невозможно. Помещения все маленькие, только койка тебе дается. Нужно было сделать так, чтобы как можно больше материала обрабатывалось на месте. Я там занимался с лаборантом Володей Этиным изучением окраски. У гренландских тюленей пятнистые шкуры. И когда промысловики эти шкуры с животных снимали, то их можно было помыть, разложить на палубе и сфотографировать. У меня были тысячи фотографий этих шкур для анализа рисунка. Кроме того, мы собирали вибриссы и скелетный материал гренландских тюленей, который сейчас хранится в зоологическом музее. Также велась добыча хохлача. Это такой вид тюленей, у которого во время гона нос раздувается и становится похожим на хохол.
Экспедиции давали возможность увидеть не только морских млекопитающих. Я видел разных зверей и птиц на Чукотке и Курилах. Я был на Белом море, и на берегу с белухой, и на воде с тюленями. Я видел Гренландию и охоту косаток у ее берегов. Тюлени лежат на Гренландском море на больших льдинах, длина которых достигает 50-100 метров. Но в океане это именно куски льда, а не ледяные поля, как на Белом море. И вот на этих кусках лежат тюлени. Косатки высматривают тюленей. И если тюлень лежит на небольшой льдине, то косатка подплывает под лед и поднимает один край льдины, чтобы тюлень упал в воду, и в воде его хватает. Однажды косатки перепутали меня с тюленем и стали крутиться вокруг льдины, на которой я находился.
В результате работы на промыслах мы собрали очень большой материал по морским млекопитающим. Морфологическая изменчивость, которой я занимался, привела меня к тому, что есть различия между популяциями по морфологическим признакам: расположению вибрисс, пятен на шкуре. Если до этого вся морфология была морфологией особи, то я пришел к понятию популяционной морфологии. Я выдумал этот термин – его не было. Потом оказалось, что одновременно со мной академик Шварц (я его тогда не знал) примерно к этому же пришел. Это была уже популяционная биология, и она меня интересовала. Это, пожалуй, был первый серьезный вклад в науку, классом выше кандидатской или докторской диссертации. Тимофеев-Ресовский сказал потом, что я «испортил звездное небо». То есть звездочка появилась на небе, или «сорвал звезду с неба», как-то так.
Когда мы занимались китами, до тюленей еще, пришла в голову идея подвести итоги. И мы написали книгу с Бельковичем «Киты и дельфины». Это были два тома, содержащие обзор всего по систематике, морфологии, поведению. Там была глава по иммунологии Славы Борисова. Главу по поведению написала Наталия Крушинская. Эта книга была очень быстро переведена за рубежом.
Я тогда был молодой, активный, ко всему – с интересом. Я не был карьеристом, но амбиции были. Я сейчас смотрю издалека на то время, и разделить амбициозность и желание исследовать очень трудно. В Советском Союзе все было регламентировано. Кандидат наук имел определенные возможности, но у доктора наук возможностей было гораздо больше. Например, доктор наук имел право на персональный абонемент в Ленинской библиотеке. Это давало возможность не приходить в читальный зал для работы, а заказывать книгу «навынос». Кандидат наук не имел права выписывать научную литературу из-за рубежа, а доктор наук мог на 50 или на 100 долларов США купить зарубежную научную литературу. Для этого был специальный отдел Академии наук на Кропоткинской в Доме ученых. Доктор наук мог подписываться на зарубежные научные журналы, что было невозможно для кандидата наук. Кандидат мог читать журналы только в библиотеке. Как только я стал доктором наук, я стал немедленно выписывать New Scientist – такой научно-политический журнал. Там были не просто научные статьи, а обзоры направлений развития науки. Когда я занялся фенетикой, я стал выписывать журналы с иллюстрациями, например Animals. Потом – зарплата. Младший научный сотрудник получал 120 рублей, а с кандидатской степенью – 170 рублей. Доктор наук – 400 рублей. Заведующий лабораторией – 500. А надо жить. У меня был ребенок, у меня была с помощью родителей купленная машина. Кооперативная квартира – сначала деньги дали родители, но дальше-то надо было платить за этот кооператив. Деньги были нужны, и их надо как-то зарабатывать. Это тоже могучий стимул для защиты докторской диссертации, которая не только могла раскрыть новые горизонты и возможности для науки, но и дать материальное обеспечение. Надо было защищаться, и интересно было защищаться.
Мы с Сергеем Евгеньевичем Клейненбергом искали, чем заниматься дальше… Я, как морфолог, занимался адаптациями: исследовал морфологические структуры и их функции. Возникла идея перенести «изобретения» природы в технику, то есть идея бионики. Я тогда не понимал зловещести этой идеи, был в эйфории, что, мол, морфология открывает какую-то структуру, а потом делается техническое устройство, которое копирует эту структуру, и получается нечто более эффективное, чем обычные человеческие изобретения. Ведь морфологическая структура живого организма отработана природой, эволюцией. Клейненберг очень всерьез к этому отнесся. И был сделан научный совет по бионике в Академии наук, куда вошел и Клейненберг. Возглавлял совет Аксель Иванович Берг, такой грандиозный оборонщик, очень приличный человек и в большой дружбе бывший с Клейненбергом. Но в результате оказалось, что вся бионика была направлена на оборонную промышленность и создание военной техники.

С Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским. Обнинск, конец 1970-х гг.
Эта эпопея вот чем для меня кончилась. Дельфинов начали исследовать с точки зрения служебного использования. В СССР впервые в неволе дельфины стали содержаться в Казачьей бухте в Севастополе, потом в Геленджике. Это были военные базы. И тогда я мог пойти по этому пути, войти в научные программы, которые используют дельфинов, и получать финансирование. Многие люди и организации так и сделали. А я отшатнулся. Когда понял, что дельфинов хотят использовать для военных целей, я не захотел в этом участвовать. Я ушел резко от морских млекопитающих в том числе и потому что был против использования бионики и дельфинов в военных целях. Мне казалось это неправильным. И я ушел в сторону. Мне не хотелось заниматься оборонными вещами, хотя, конечно, я об этом прямо не говорил. Да и нельзя было открыто сказать – это был бы крест на любой карьере.
В этот период я как раз и встретился с Тимофеевым-Ресовским.
Сергей Евгеньевич Клейненберг к тому моменту, наверное, дал мне все, что мог дать. Он дал мне возможность организовывать экспедиции, дал поддержку. Но мои научные поиски его уже не особенно интересовали. Он стал профессором и с удовольствием занимался организационной работой в институте. Он был очень надежным моим щитом и ракетой-носителем. Но он не был уже моим научным вдохновителем. А в науке нужно, чтобы были вдохновители, учителя. Одному в науке невозможно, гиблое дело. Ты будешь обязательно повторять то, что делал кто-то другой. Может быть, математик может проявить свою гениальность в одиночку. А в естественных науках это невозможно. Нужно обязательно быть на каком-то фронте, развивать его и при этом чувствовать, что справа и слева от тебя работают другие люди и ты знаешь, что они делают. И в этом отношении встреча с Тимофеевым-Ресовским была подарком судьбы, определившим мое дальнейшее существование как ученого.
Тимофеев, когда приезжал в Москву, останавливался или в доме математика Алексея Андреевича Ляпунова (но там было очень тесно), или у Реформатских. Сергей Николаевич Реформатский был радиохимиком, и Тимофеев знал его по радиационным делам, может быть, даже и по шарашкам. У Реформатского была хорошая квартира в доме на Мичуринском проспекте.
Я помню, что в большой комнате стоял рояль и я был около этого рояля, а Тимофеев-Ресовский сидел. И было несколько часов нашего разговора. Почему он ко мне отнесся с таким вниманием и время свое потратил – не знаю. Наверное, ему было интересно, потому что я был зоологом. Он сам себя называл «мокрым зоологом», потому что он исходно, хоть и не окончил университет, занимался гидробиологией. Дрозофилы и генетика были потом, а изначально – зоология.
И вот я ему говорю, что мне интересна изменчивость млекопитающих, у меня набран материал по тюленям, по вибриссам и по окраске. Что я вижу разницу между популяциями. Я уже тогда для себя сформулировал идею популяционной морфологии. Тимофеев говорит: «Ну ладно, давай подумаем. Вполне осознанная вещь – написать обзор по изменчивости млекопитающих. Такого вроде бы пока нет». Я говорю: «Да, такого нет».
В этих разговорах что главное? Одно дело, когда ты один со своими мыслями. Совсем другое – когда старший, могучий, знающий ученый говорит: «Да, это интересно, из этого можно что-то сделать». Это огромное значение имеет, колоссальное. Без учителей в науке нельзя.
Так вот, Тимофеев говорит: «Давай попробуем. Что нужно сделать для того, чтобы говорить об изменчивости млекопитающих? У млекопитающих 12 отрядов: хищные, копытные, грызуны, зайцеобразные, приматы и т. д. Для того чтобы говорить об изменчивости класса, нужно, чтобы был репрезентативный материал. У вас есть материал по китообразным и по ластоногим. Нужен материал по грызунам, по копытным, по хищным, по приматам, свой или литературный. Для того чтобы было представление об отряде, нужно оценить изменчивость нескольких видов внутри отряда. А чтобы говорить об изменчивости вида, нужно несколько признаков. А теперь давай посчитаем: несколько признаков для вида, 150 видов… Сколько нужно времени, чтобы высчитать коэффициент вариации одного признака?» Я считал на арифмометре «Филипс», прикинул, что считать придется среднее арифметическое, ошибку среднего, потом коэффициент вариации. В общем, в среднем минут пятнадцать-двадцать на признак. Тимофеев мне на это: «Ну, давай посмотрим: 10 тысяч расчетов, пятнадцать минут. Ну, еще подготовка. В течение полутора лет можно сделать такую работу». Вот такой подход. Это меня очень вдохновило.