Текст книги "Набег язычества на рубеже веков"
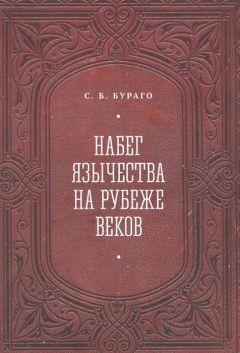
Автор книги: Сергей Бураго
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
О смысле поэзии[9]9
Язык и культура. Четвертая международная конференция. Материалы. – К.: Collegium. -1996.-с. 22–31.
[Закрыть]
Не старомодно ли сейчас размышлять о смысле поэзии, когда не очень-то и понятно, каков смысл, и есть ли вообще смысл в жизни, которой мы живем, и жизни, которая нас окружает? Не старомодно ли и вообще рассуждать, когда навалилось нечто, бескомпромиссно разрушающее сложившийся уклад личной, семейной, общественной жизни, так что человек заметался, хватаясь за наиболее, кажется, реальное – за принцип личной и даже сугубо материальной выгоды, и это бросает его то ли в рынок, то ли в чужие страны. Впрочем, и это все не ново. Социальные перемены, радикальные и не очень, так или иначе переламывают жизнь людей, особенно если их жизненная установка полностью определяется внешним, то есть социальным опытом. Мы же со времен Джона Локка как-то привыкли думать что иного, кроме внешнего опыта и не существует, что душа наша есть отподобление социума, так что нам только и остается, что оглядываться по сторонам, не придавая серьезного значения ни звездному небу над нами, ни той духовной глубине, которая предощущается в самих себе, но так и остается не освоенной.
Между тем инстинкт выживания не может удовлетвориться принципом материальной выгоды, и нас, как это ни кажется парадоксальным, все больше и больше захлестывают волны стихов, короткой прозы, картин и прикладного промысла. Как хорошо и удобно было бы определить все это расцветом исскуства в посттоталитарном обществе! Тем более, что наши художники и наши поэты обрели спрос в «цивилизованных странах», отчего, если повезет с каким-нибудь иностранным фондом, они путешествуют по свету со своими выставками и лекциями. И правильно делают: Запад должен «знать наших»… Запад и пытается знать: платит, выставляет, издает, поддерживает, в том числе и Бориса Парамонова, который рассказывает им и нам по «Свободе» о лицемерии русской классической литературы и о том, как Достоевский изменил своему знанию человека, поскольку имел идеалы.
Передо мной прекрасное мюнхенское издание переводов современных русских поэтов, и я открываю наугад страницу:
Ау-Ау
На стене детской больницы:
Андрюха – сын мой…
Мама, ау-ау!
И нарисован
Человечек.
«Передачи
Больным детям
Принимаются…
Вторник,
Пятница…
Посторонним
Вход
Воспрещен». Андрюха – сын мой, Ау-ау!1
Это стихотворение Генриха Сапгира. Усталое отупение ожидания, сквозь которое как-то еще будоражатся в рефрене «Андрюха – сын мой…» боль и тревога. Не очень понятно, правда, откуда само «Ау-ау!». Вряд ли это голос ребенка: говорящий «ау», еще не говорит «мама»… Но дело здесь не в логике, дело – в состоянии души человека. Так сказать, реализм психологического состояния, чистое отражение действительности: Хотя, для чего ее «отражать»?.. Открываю еще одну страницу:
Жертва транспорта
Был он юный и влюбленный,
Подарил ей нитку бус,
Ярким солнцем упоенный
Он попал под автобус.
Говорили: как попал он?! —
И росла, росла толпа…
Окрававленный лежал он
У трамвайного столба2.
Это стихотворение Евгения Кропивницкого. Жаль человека. И не спасла его любовь и щедрость, материализовавшаяся в «нитке бус»: «автобус» как орудие Рока тут как тут. И чего тогда вообще стоит и эта любовь и эта щедрость? Все равно ведь «трамвайный столб» – последний и нелепый причал. А может, все это просто «черный юмор»? Ну чего бы, кажется, размышлять о такой роковой безысходности и хореически приплясывать над трупом? А вот это уже, вероятно, искренне и серьезно:
Я был из тех – московских вьюнцов,
с младенческих почти что лет усвоивших,
что в мире есть один поэт, и это Владим Владимыч;
что Маяковский единственный, непостижимый,
равных – нет и не было; все прочее – тьфу, Фет3.
Это стихотворение Яна Сатуновского как-то вторит счастливой мысли Бориса Парамонова о лицемерии русской классической литературы, но только оно более выиграшно, поскольку не столь прямолинейно. Ну, был «из тех вьюнцов», но теперь-то уж нет, и раньше – да, но сейчас, быть может, и вовсе не «тьфу, Фет»…
Стихотворение – констатация; «отражает действительность» юношеских лет автора. Ну и что? Не у него одного было… Хорошо ли это, плохо ли? – Думайте сами: поэт ни к чему не обязывает – свобода! Давайте же наслаждаться свободой в разряженном пространстве смысла… Впрочем, следующее стихотворение того же автора много определеннее:
На носу декабрь. На дворе снежок.
Под снежком ледок, как заметил Блок.
Вот и Блока нет, Пастернака нет,
одиноко мне в ледяной стране4.
Такие вот «легенькие» стишки, от которых может стать по-настоящему страшно… Но все это – сквозь призму рассеянной задумчивости из-за стола в окно. Как бы несерьезная серьезность. Хотите – страшитесь. Хотите – констатируйте факт. Поэт не насилует ваше восприятие, он не тоталитарен, он не агрессивен, а вы – свободны. Хотя те же Пастернак, Блок, а через него же и Фет свое восприятие – деваться некуда – навязывали, а вот без них и страна льдом покрылась, и одиноко стало, и пусто, и бессмысленно… Странны все-таки все эти флуктуации постмодернизма, когда, как говорят Делез и Гуаттари, «нет ни единой оси для объекта, ни единства, разветвляющегося в субъекте»5. Что же тогда могут затронуть в человеке совсем отдельные от него субъекты, скажем, Пастернак и Блок, и как вообще вне этого единства возможны какие бы то ни было восприятие и понимание? Найти потенцию тоталитаризма и даже террора в принципе единства, вспоминая о марширующих колоннах, вовсе не трудно, но бывает ли любовь «по ту сторону» этого самого единства? Конечно же, и от любви можно отказаться, и от чреватого террором языка, предпочитая, по славу Фука, «анонимное бормотание», но только ведь и останется тогда одиночество «в ледяной стране»…
А все дело в том, что отрицаемое в постмодернизме, в позитивизме, и вообще в скептическом мироотношении единство, единство как таковое, и в самом деле не существует: единство эсэсовских шеренг и единство живописца и модели – это совершенно разные единства: первое – внешнее, так сказать социальное, второе – внутреннее, обнаруживающее и актулизирующее гармонию мироздания.
Первое или подложное единство – тоталитарно и террористично, и именно потому, что оно создает внешнее подобие, замыкая в человеке его творческую или, как говорил Пушкин (а за ним и Блок), «тайную свободу». Террор и есть подчинение внутреннего человека внешним обстоятельствам. Изощренное проявление террора вынуждение человека отказаться от самого для него дорогого, например, от веры, как в «Плахе» Чингиза Айтматова или от любви, как в «1984» Джорджа Оруэлла. Возможность этого тоталитарного единства в скептическом отношении к себе и миру, в никогда не удающемся бегстве от себя внутреннего. Первопричина всего этого по-настоящему страшного процесса – в соблазне легкости, нравственной пассивности человека, ибо, как говорил Блок, «вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения»6.
Второе или подлинное единство в осуществлении «тайной свободы» и творческой потенции человека, в установлении его подлинной связи с людьми и миром, в его нравственной активности, в гармонизации внутренней и окружающей его жизни.
Дело, таким образом, не в так называемой «террористической сущности языка», а во внимательном отношении к слову, чтобы его более общее значение не «покрывало», как говорит Оруэлл, определенный и конкретный смысл. А, следовательно, дело и не в «языковых играх», устраиваемых в пространстве поэтической речи. И говоря о сущности поэзии, нам придется отвернуться от «ситуации постмодернизма», которая в своих истоках и сущности не выбирается из просветительской традиции скептицизма, и потому ничего нам не скажет об интересующем нас предмете.
Ни поэзия, ни язык, ни что бы то ни было вообще не может непосредственно «отражать окружающую нас действительность», каким-то немыслимым образом, минуя человека. Поэзия без поэта не рождается и без воспринимающего ее читателя не существует. «Стирание человека», о чем говорил Фуко7, в этом контексте есть фикция весьма поверхностного мироотношения, если оно искренне, или есть выражение некоей интеллектуальной игры, замещающей ответственную жизненную позицию.
Но если поэзия не рождается без поэта, то что побуждает человека к существованию в сфере поэтического творчества и что нас побуждает к восприятию его стихов?
В своей предсмертной речи о Пушкине Блок назвал поэта «сыном гармонии»8. Но что такое гармония и в чем ее притягательная сила?
В трактате «О душе» Аристотель дает следующее определение гармонии: «… говоря о гармонии, мы имеем в виду два ее значения: во-первых, гармония в собственном смысле есть сочетание величин, которым свойственны движение и положение, когда они так прилажены друг к другу, что больше уже не могут принять в себя ничего однородного; во-вторых, гармония есть соотношение частей, составляющих смесь»9. Итак, прилаженность друг к другу, или соотношение частей. В любом случае должна существовать некая множественность и та или иная связь компонентов этой множественности. Гармония и касается этой связи единичных компонентов целого.
Однако этого не достаточно: «гармония» не сводится к чисто рассудочному понятию, слово это заряжено сильным положительным эмоциональным смыслом, который проявляет себя и в учении Лейбница о предустановленной гармонии, и в «Критике чистого разума» Канта, где божественный или самостоятельный разум составляет «причину мироздания посредством идей величайшей гармонии и единства»10, и в «системе трансцендентального идеализма» Шеллинга, где наше Я «отражается в качестве необходимости, вечного образа божественной гармонии вещей, как бы неподвижного отражения единства, из которого они все вышли»11.
Итак, это не просто соотношение частей целого и даже не только связь, это именно «божественная гармония вещей». Иначе, гармония осознается и переживается как безусловное благо, как божественный закон мироздания, как высший смысл бытия. Гармония и есть проявление божественного в нашей жизни. Замечательно об этом сказано у древних китайцев в «Хань-Фей-цзы»: «Если поры пусты, то гармониия каждый день проникает в человека»12, Впрочем, если гармония есть также связь субъекта и объекта, то она не только проникает в человека извне, но и задана внутри нас по крайней мере как возможность.
Необычайно точно об этом сказано у Фета:
И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, Солнце мира.
Не «познаю», а именно «узнаю», то есть осознаю глубинную связь основы своего духа и основы мироздания.
В истории культуры гармония понимается также как упорядоченность в противовес беспорядку – хаосу. Однако «упорядоченность» – слишком рациональное измерение, вызывающее ассоциацию с внешним единством, с тоталитарными шеренгами или схоластическими схемами, измерение, мало что говорящее о сущности гармонии. Да и хаос – не просто беспорядок и безначалие, чем-то он привлекателен, чем-то тревожит душу.
Между тем дихатомия хаос – гармония представляется все же справедливой. И вот в какой связи. Подлинное познание – это не сбор информации с последующим ее складированием в резервуарах памяти. Познание – это усвоение познаваемого, то есть идентификация.
Я и не-Я на основе их глубинной общности в общемировом единстве. В процесс познания нечто до того чужое и отстраненное становится безусловно своим, то есть усвоенным, «узнанным», как сказал Фет. Этот процесс освоения есть одновременно процесс проявления в сознании связи нашего Я со всем тем, что становится предметом нашего познания.
Но ведь именно обнаруживаемая нами связь вещей и связь нашего Я с этим миром и является основой переживания, по слову Шеллинга, «вечного образа божественной гармонии вещей». Гармония, таким образом, открывается человеку только в активном усвоении окружающего, в постоянной работе души, иначе говоря, в творчестве. Эта работа души – «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь» (Пастернак) – и есть процесс гармонизации хаоса, то есть того, что еще отстранено от нашего Я и потому представляется темным и беспорядочным. Эта работа души есть одновременно и процесс сигнификации, т. е. смысло-полагания, наблюдаемого нами решительно во всех проявлениях человеческой деятельности и легко обнаруживаемого даже в мельчайшей частице вербального языка, ведь вне сферы смысла наша жизнь, не только духовная, но и физическая просто невозможна.
Деятельное преодоление отстраненности или гармонизация хаоса есть, таким образом, непременное (хотя и не всегда осознанное) условие самого нашего существования. Но было бы слишком плоско и самонадеянно думать, что человеческое Я столь самодостаточно, столь индивидуально (т. е. неделимо), что благодаря этой своей самодостаточности у него появляется возможность привносить в мир хаоса смысл и гармонию. В том-то и дело, что наше Я не только индивидуально, но и, так сказать, дивидуально, т. е. делимо, даже, может быть, многоярусно. И основой нашего смыслополагания, нашей гармонизации хаоса и нашего творчества есть не волюнтаристское Я, а те, как говорил Блок, «Бездонные глубины духа, где человек перестает быть человеком»13, то есть та сфера Я, в которой воплощена наша единосущность всему мирозданию.
Именно оттуда, из этой глубины неразличимости Я и не-Я и черпает свою энергию поэтическое слово, привносящее в мир смысл и гармонию. Впрочем, не только поэтическое слово, но и всякое вообще творчество, в том числе и творчество жизненное.
Менее всего хотел бы я говорить об иерархии искусств и вслед гегелевской традиции называть поэзию высшим искусством. Любое проявление творчества человека есть смысл и гармония, и довольно претенциозно здесь выстраивать какую-либо иерархию. Но поскольку речь идет о поэзии, хотелось бы утвердиться в нескольких, касающихся ее аксиомах.
Во-первых, поэзия есть словесное искусство, и потому все то, что касается сигнификативной (т. е. смыслопологающей) природы языка, в полной мере относится и к поэзии.
Во-вторых, поэзия есть предельная концентрация семантики слова, и потому поэтическая строка много значимее предложения прозаического текста.
В-третьих, поэзия есть синтез смыслополагания слова как знака, слова как зрительного образа и слова как звука, и поэтому она обусловливает воплощенность синтеза сознательного и бессознательного начал человеческой личности.
В-четвертых, поэзия есть синтез непосредственности и глубочайшей обдуманности материала, и потому она несводима к чистой эмоциональной импульсивности или чистой рассудочности.
И наконец, в-пятых, поэзия есть концентрированная реализация гармонического начала мира видимого, и потому в ней наиболее явно утверждается связь мира видимого и мира невидимого.
Это последнее обстоятельство обусловливает необходимость ценностной ориентации в сфере поэтического творчества, и вне этой ценностной ориентации не существует ни один, даже мельчайший элемент поэтического языка. Здесь речь не идет о морализаторстве и так называемой «воспитательной роли литературы», которая обычно надумана и лицемерна. Речь идет о свободной воплощенности в поэтическом слове первоосновы человеческого Я поэта, побуждающей самораскрытие человека, воспринимающего это поэтическое слово и становящегося поэтому не «адресатом», не «потребителем» искусства, а человеком, переживающим подлинный процесс творчества, то есть процесс гармонизации раздробленного доселе и хаотичного мира простой видимости. Иерархия ценностей или нравственные постулаты нашей жизни и есть осознанное и рационально сформулированное, как, например, у Канта, выражение все той же гармонической сущности мироздания, которая в поэзии воплощается прямо и непосредственно. Вот почему поэт – это по определению Пушкина, «пророк», несущий в себе огромную ответственность за верность божественному смыслу и предназначению поэзии.
Стихи, в которых мы сталкиваемся с «пространством вне иерархии», стихи, в которых все без разбора одинаково самоценно, а значит, и все лишено своей ценности, затрагивают слишком внешнее в нашем Я, до того внешнее, что не выходят, даже при удачной образности, за грань констатации внешнего опыта, то есть хаоса повседневности:
Поговорим с тобой
как магнитофон с магнитофоном,
лихая душа,
Некрасов Николай Всеволод,
русский японец.
(Ян Сатуновский)14.
Ну, поговорим… А зачем, если «магнитофон с магнитофоном» и если все равно «русский японец»?» Этот внешне понятный и трансформированный в бесстрастие стих Тютчева, конечно же, никакое не преодоление хаоса, а напротив, преодоление в себе себя же, помещение своего внутреннего Я в камеру самонадеянного умственного безверия. Какая уж тут поэзия? Беда, да и только. Время открыть бутылку и забыться… Но вот немцы переводят, печатают, вероятно, за «антитоталитаризм» поэтической формы…
И все же это не поэзия: хаос побеждает тогда, когда творческие силы души дремлют, когда главные устремления того, кто сочиняет стихи, всецело обусловлены внешним опытом и направлены вовне.
Смысл же поэзии, напротив, в том, чтобы пробуждать творческую, то есть гармоническую потенцию души, «обиды не страшась, не требуя венца». Смысл поэзии – в актуализации созвучия человека сущности универсума. И все это опять же лучше всего сказалось в стихах:
Жизнь – без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами – сумрак неминучий,
Иль ясность Божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, – поймешь, где тьма.
(А. Блок).
Примечания
1 Lianosouro. Gedichte und Bilder aus Moskau. Munchen – 1992 – S. 108.
2 Там же, с. 40.
3 Тамже, с. 132.
4 Тамже, с. 134.
5 Новое литературное обозрение. – 1995 – 11 – С. 204.
6 А. Блок. Собр. соч. в 8-ми тт. – Т.6 – М.-Л.Д962 – С. 163.
7 Новое литературное обозрение. – 1995 – 11 – С.220.
8 А.Блок. Там же, с. 161
9 Аристотель Соч. в 4-х тт. – Т. 1 – М, 1976 – С. 348.
10 И.Кант. Соч. в 6-ти тт. – Т. 3 – М., 1964 – С. 575.
11 Ф.Шеллинг. Соч. в 2-х тт. – Т. 1 – М., 1987 – С. 552.
12 Древнекитайская философия. Собр. текстов в 2-х тт. – Т. 2 – М. – 1973 – С. 244.
13 А. Блок. Там же, С. 163
14 Lianosouro…, S. 150
Размышления о верлибре[10]10
Язык и культура. Вторая международная конференция. Доклады. – К.: Collegium, 1993. -с. 134–145.
[Закрыть]
Поводом для этих размышлений о верлибре явилась по-настоящему подвижническая деятельность Карена Джангирова, благодаря усилиям которого появился ряд журнальных публикаций и сборников, актуализировавших проблему верлибра в сознании современного читателя.
Размышляет о верлибре в своем кратком предисловии «К антологии русского верлибра» (М., «Прометей», 1991 г.) и сам К. Джангиров. Если говорить кратко, его позиция относительно жанровой принадлежности верлибра сводится к следующему. В литературе существуют:
1. Канонические стихи.
2. Проза.
3. Верлибр.
Каждый из этих жанров неформален, поскольку каждый из них реализует определенный метод освоения действительности. Причем, если «устоявшиеся методы» (канонические стихи и проза) вполне сочетаются с провозглашенной сверху идеей построения канонического мира, населенного каноническими душами, умами, литературами и прочими его составляющими (с. 7), то «верлибр не терпит фальши и лжи», что опять-таки не способствовало его признанию теми, для кого «литература была и остается сферой обслуживания» (там же).
Что же касается поэзии, то поэзия, с точки зрения Карена Джангирова, – не какой-либо отдельный жанр, но «апогейное состояние» любого жанра литературы и искусства (в том числе, например, графики).
Это очень отчетливый взгляд на вещи, может быть, даже чрезмерно отчетливый. Во всяком случае, говоря строго, нам теперь о Пушкине, имея в виду его основную литературную деятельность, следует сказать, что Пушкин – не поэт, а «канонический стихотворец»; поэт же он только в тех стихах, которые достигают своего «апогейного» жанрового состояния.
Честно говоря, на слух все это не ложится, то есть язык откровенно сопротивляется всей этой нашей отчетливости.
Мешает привычка? Или нечто более глубокое? Попробуем разобраться.
И прежде всего в том, что есть поэзия как «апогейное» состояние любого жанра. А почему, собственно, только жанра? Разве мы не можем сказать: «Как поэтичен весь ее облик – её голос, взгляд, походка?» или «Посмотрите, сколько поэзии в этом ландшафте?» Согласен – здесь налицо «апогейное» состояние человека и «апогейное» состояние природы. Но дело в том, что и человек, и природа, и графика, и любой литературный жанр сопрягаются в нашем сознании с самой сущностью поэтического мировосприятия, которое полнее всего реализуется в поэзии как литературном жанре. Вспомним: «Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами; но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он – сын гармонии, поэт». Так (и очень точно) сказал Блок в своей знаменитой речи о Пушкине. Это чувство гармонии как выражение сущности мира может, конечно же, реализовываться в любом виде и жанре искусства, может реализовываться и в науке, и в практической деятельности человека, и вообще во всей его жизни. Но признанная его родная обитель в литературе – поэзия, понимаемая как определенный жанр литературы, и именно от названия жанра мы получили такие выражения, как «поэтическая душа» или «поэзия ландшафта», или как в автоэпитафии Сирано де Бержерака Э. Ростана:
Он был поэтом, но поэм не создал, Зато всю жизнь он прожил как поэт. Случайно ли то, что литературный жанр дал название тому особому складу мировосприятия и даже особому характеру жизненных поступков, которые мы называем поэтическими? Ничего случайного, уверен, здесь нет. Ведь поэтическая речь – это не что иное, как становление и коммуникативная реализация понимания и пересоздания мира простой видимости на основе рационально-чувственного проникновения в сущность жизни и мироздания, причем важнейшей отличительной характеристикой поэтической речи следует считать ее смыслообразующую музыкальность.
В самом деле, во-первых, как это следует из диалектического понимания языка, поэтическая речь – как и вообще язык – есть, прежде всего, становление, то есть она не есть некая неподвижность с четко очерченными границами, поскольку она не есть вещь, данная нам исключительно нашими ощущениями; но это и не просто выражение движения как простой подчиненности механическому времени: в ней заключен ритм, по природе своей начало, преодолевающее время в повторе тех или иных его элементов. Без этого повтора, без воссоздания прошлого в настоящем, без памяти вообще – невозможна деятельность человеческого сознания, и сама деятельность сознания поэтому есть одновременное временное начало, и начало, преодолевающее время. Это именно становление, то есть движение, сопряженное с определенной целью, что и придает смысл этому движению; иными словами, поэтическая речь – это осмысленное движение.
Вместе с тем, во-вторых, поэтическая речь есть явление человеческого языка и потому явление человеческой коммуникации, причем эта коммуникация не есть некие внешние для нашего Я «правила общения»: сама сущность языка – в глубинной связи индивидуального и надындивидуального начал. Употребляя то или иное слово, мы употребляем его в его собственном неповторимом контексте, определяемом стилем и характером нашего мышления, но это слово вместе с тем принадлежит и вообще тому языку, на котором мы говорим, то есть оно принадлежит всему народу, или, по крайней мере, определенной его части. А поскольку язык есть непосредственная действительность сознания, то и сама деятельность нашего сознания есть безусловная связь нашего Я с другими людьми, и потому необходимо подчеркнуть также коммуникативную природу поэтической речи.
Из сказанного, в-третьих, следует принципиальная возможность подлинного понимания человеком других людей: ведь если само наше сознание, при всей его неповторимости есть также и начало надындивидуальное, то именно здесь – залог возможности понимания людьми друг друга. Но человек принципиально не отъединен также и от всей природы и мироздания, следовательно, деятельность его сознания обусловливает также и понимание им природы и мира.
Но ведь понимание, в-четвертых, не есть простой фотоснимок с действительности в сознании, а есть осмысление этой действительности, познание причин существования тех или иных явлений и познание их взаимосвязи. Понимание, таким образом, невозможно без творческого пересоздания мира простой видимости, проникновения в сущность того, что надлежит понять. И все это является также характернейшей чертой поэтической речи.
В-пятых, поэтическая речь есть наивысшая концентрация реализующегося в слове смысла, и обусловливается это наивысшей степенью синтеза рационального и чувственного начал, свойственных человеческому сознанию и языку.
Вместе с тем все эти пять пунктов нашего определения поэтической речи уточняют ее родовую принадлежность человеческому языку вообще, но нам также необходимо определить ее специфику. И эта специфика обусловливается прежде всего реализованным в поэзии музыкальным (слуховым) восприятием мира.
Разумеется, и зрение, и слух у человека произрастают «из одного корня», так что их абсолютное противопоставление – вещь нелепая, мы можем говорить лишь о доминанте того или другого начала в художественной литературе. Так, в прозе мы встречаемся с доминантой рационального и зрительного восприятия мира, хотя странно было бы говорить об отсутствии своеобразной музыки прозы или отсутствии в ней чувственного начала. Нет, художественной прозе свойственно прежде всего то, что определяет сущность художественного восприятия мира вообще, то есть глубокий синтез разума и чувства, зрения и слуха, но в этом, так сказать, общехудожественном синтезе доминируют все же разум и зрение. Поэтому опыты А. Белого по ритмизации прозы воспринимались многими его читателями как насилие над природой художественной прозы.
Тот же общехудожественный синтез является также основой поэзии, но здесь доминируют слух и чувство. Именно развитие поэтического слуха предопределяет степень художественного совершенства творчества того или иного поэта. Поэтому рационализированная и сознательно сопряженная со зрительным восприятием мира поэзия В. Брюсова обладает все-таки лишь поверхностным совершенством, а опыты по рациональному конструированию поэтической речи или широко распространенная сейчас «интеллектуальная поэзия» хотя и требуют от читателя напряжения умственной деятельности, но вовсе не рождают ответного поэтического чувства; как сказал Блок, рецензируя стихи одного поэта, все это интересно, но выучить наизусть не хочется.
Мощный синтез звучащего слова и зрительного восприятия мира дается драмой, но здесь доминирует реальное действие, и в своем естественном воплощении – на сцене – она выходит за грань собственно художественного текста, становясь определяющим, но все же компонентом более универсальной, чем сам текст пьесы, цельности – театрального спектакля; и потому разговор о драме событий особый, выходящий за пределы нашей темы. Но и говоря о поэзии и художественной прозе, необходимо подчеркнуть то, что «незыблемость границ» между ними не может считаться абсолютной. Сколько споров мы пережили, желая понять, прозой или стихами написано «Слово о полку Игореве»! Вероятно, все же это был некий синтез того и другого, тот самый синтез, к которому уже в нашу эпоху устремились и ритмическая проза, и интеллектуальная поэзия. Именно на этом пересечении прозы и поэзии легче всего определить и место верлибра. Причем сделать это тем соблазнительней, что существование верлибра освящается таким образом многовековой традицией, восходящей не только к «Слову о полку Игореве», но и к Библии, и даже к более древним текстам.
И все же «методы освоения действительности» в «Слове…» и современном верлибре явно не совпадают. Достаточно наугад открыть указанную выше «Антологию русского верлибра» или даже ровную и прекрасную «Книгу, удивлений» Элисео Диего и положить рядом «Слово о полку Игореве» или Евангелие, как станет совершенно очевидной натяжка в нашем сопоставлении. Ведь границы, разделяющие современный верлибр и древние литературные памятники, пролегают в самой сущности этих явлений. И Библия, и «Слово…» прежде всего внеличностны. За ними – не отдельный автор, а общенародное, общечеловеческое или божественное начало.
В современном же верлибре тоже может быть общенародное или общечеловеческое начало, но оно обязательно и даже подчеркнуто преломляется через призму личностного восприятия мира, что, как известно, является определяющей характеристикой лирики. Синтез поэзии и прозы в древних памятниках эпичен, верлибр – личностей. И здесь, конечно же, мы имеем дело с различными типами мировосприятия и различными типами самоощущения человека в мире.
Потому говорить о некой в сопоставлении с поэзией и прозой третьей (верлибрической) линии в развитии искусства слова хотя и соблазнительно, но все же не совсем корректно. Исторически современный верлибр возник и утвердился в творчестве вполне «канонических» стихотворцев, т. е. в лирической поэзии, и это вовсе никак не унижает верлибр, а напротив, ставит серьезнейший вопрос о причинах его появления как особого жанра поэтической речи.
Но говоря о поэтической речи, мы тем самым говорим о реализующемся в ней поэтическом мышлении, так же, как мы можем говорить о философском мышлении, музыкальном мышлении и т. д. «Мышление» в этом контексте не означает, разумеется, сугубо рациональной деятельности человеческого сознания. Будучи художественным (рационально-чувственным) вообще, поэтическое мышление особенно ориентировано на звук, на музыкальное восприятие мира. Очень точно сказано об этом у Блока:
Приближается звук.
И, покорна щемящему звуку,
Молодеет душа.
И метр, и рифма, и ассонансы, и аллитерации (в тех стихах, где все это существует), т. е. и динамическая, и тембральная, и звучностная характеристика стиха – его сокровенная мелодия (а она присутствует в любом поэтическом тексте), – все это собственно языковое богатство языка в его неразрушимой связи с семантикой слова, являясь смыслообразующим началом поэтической речи, оказывается и ее главным отличительным признаком. Реализующееся в человеческой речи поэтическое мышление, таким образом, в самых существенных своих качествах есть звуковое или музыкальное мышление. И если это так, то взамен предварительного, развернутого и по необходимости описательного определения поэтической речи можно предложить теперь иной вариант: поэтическая речь есть непосредственная действительность музыкального мышления в пределах языковой стихии.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































