Читать книгу "Письма о любви"
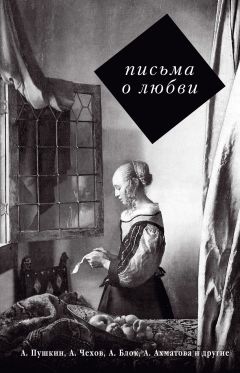
Автор книги: Сергей Нечаев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Одни биографы утверждают, что уже после нескольких «медовых лет» во Владимире Наталья Александровна пережила кризис веры в «идеальную любовь» и безупречность собственного мужа. Считается, в частности, что особенно кризис этот обострился после его «случайной» измены с горничной (эту измену Герцен потом описывал как некий опыт, узнавание жизни такой, какая она есть). Другие уверены, что «прогрессивный» Герцен высоко ценил умственные и душевные качества своей жены, и именно это сделало их брак «союзом равноправных личностей», а это, в свою очередь, привело к поиску «самости» у Натальи Александровны, к смене образцовых моделей и к свободно-разрушительной сексуальности.
В 1847 году они покинули Россию (как потом оказалось, навсегда) и вместе пережили надежды и разочарования, связанные с событиями французской революции 1848 года.
Следует отметить, что Natalie много болела. Связано это было с тем, что практически каждый год, начиная с появления на свет в 1839 году сына Александра, она рожала детей. К несчастью, второй, третий и четвертый ребенок умерли сразу после родов, пятый – сын Николай – родился глухим, а седьмой – дочь Лиза – прожила всего одиннадцать месяцев. В 1850 году родилась Ольга.
А потом Наталья Александровна вдруг увлеклась Георгом Гервегом, которого Генрих Гейне называл «железным жаворонком» грядущей германской революции (в Ницце Гервег жил со своей женой Эммой).
Герцен узнал о любви своей жены к Гервегу в январе 1851 года.
Очевидно, что любовный треугольник «Гервег – Наталья – Герцен» возник не на ровном месте, а во время сильнейшего душевного кризиса, который пережила молодая женщина, и связан он был с крушением ее романтических представлений о семье и браке.
Каждый в этой непростой ситуации повел себя по-своему. Для Герцена, например, главное заключалось в том, чтобы «остаться на высоте». Поначалу он ждал, что тот, кого он еще недавно считал своим другом, честно объяснится, но объяснения не последовало. Тогда он обратился к жене, понимая, что этим путем они быстро дойдут «до больших бед» и что в их жизни «что-нибудь да разобьется». Для Натальи Александровны невозможность продолжения отношений с Гервегом стала тяжелейшей драмой. Да, в конечном итоге она осталась с мужем, но втайне сохранила чувство к Георгу. И тот тоже вроде бы со страстью относился к ней, ведь, как известно, препятствия только обостряют любовные отношения.
Герцен, пережив всю гамму чувств, начиная от чувства сострадания к мукам жены и кончая страстным желанием отстоять свою любовь, был вынужден прогнать Гервега и потребовал отъезда семьи Гервегов из Ниццы. Георг стал шантажировать его угрозой самоубийства, но все же Гервеги уехали.
Семейный конфликт достиг апогея. Началась переписка, ибо Natalie любила поэта вопреки рассудку, а Герцен… разгласил ее письма, снабдив их достаточно едкими комментариями. Супруги бурно объяснились. Позже Наталья Александровна назвала расхождение с мужем «страшной ошибкой», и они примирились друг с другом.
А потом произошло страшное несчастье. 16 ноября 1851 года во время шторма в Средиземном море затонул пароход «Город Грасс», на котором находились мать Герцена и их с Натальей Александровной восьмилетний сын Коля. Бабушка везла глухого от рождения внука на консультацию в Марсель. Их тела так и не были найдены. В ту ноябрьскую ночь в Ницце их с нетерпением ждали, украсили иллюминацией сад, но вместо праздника в дом пришло горе.
Этот кошмар отодвинул Гервега и все, что было с ним связано, на второй план.
16 января 1852 г.
Александр Герцен – Марии Рейхель
Голова болит чаще и чаще. Скука такая, тоска, что, наконец, если бы не дети, то и все равно, впереди ничего, кроме скитаний, болтовни и гибели за ничто <…> Finita la Comedia, матушка Марья Каспаровна. Укатал меня этот 1851 год.
«Укатал этот 1851 год» и Наталью Александровну. После трагической гибели сына она очень тяжело заболела, оказавшись не в силах перенести потерю. 30 апреля 1852 года у нее родился восьмой ребенок. Сына назвали Владимиром, но через два дня он умер. В тот же день умерла и сама Наталья Александровна. Ей не было и тридцати пяти лет.
Мать и новорожденный сын были похоронены в Ницце в одном гробу. После этого потрясенный Герцен написал: «Все рухнуло – общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье».
Оставив у себя старшего сына, Александр Иванович двух дочерей на время отдал приехавшей за ними из Парижа М. К. Рейхель. После этого он переехал в Лондон и там в 1853 году основал Вольную русскую типографию, чтобы вслух, на весь мир и без помех, обращаться к русскому народу.
Жить Герцену оставалось еще восемнадцать лет…
Николай Огарев
Ближайшим другом Герцена был поэт «с трагическими нотами» и публицист, всегда остававшийся самим собой и «гулявший сам по себе», Николай Платонович Огарев.
Когда умерла Наталья Александровна, жена Герцена, у того осталось трое детей: Саша, Наталья (Тата) и Оля. Старшему Саше было двенадцать лет, младшей Оле – два года. Перед смертью Наталья Александровна не раз говорила, что хотела бы доверить воспитание детей Наталье Алексеевне Тучковой. Жена Герцена любила ее и верила, что только Наталья Алексеевна сумеет заменить мать осиротевшим детям.
Упомянутая Наталья Алексеевна Тучкова была дочерью предводителя пензенского дворянства и участника событий 1825 года А. А. Тучкова, человека в высшей степени благородного и хранившего заветы декабристской чести. Она получила хорошее домашнее образование, а в семнадцать лет откликнулась на чувства Николая Платоновича Огарева.
В 1849 году она стала его гражданской женой.
Наталья Алексеевна была женщиной пылкой, и она просто не могла не увлечься освободительными идеями. В Париже, во время событий 1848 года, она даже пыталась пробраться на баррикады. Восхищенный Огарев тогда написал ей: «Я еще в жизни никогда не чувствовал, что есть женщина, которая с наслаждением умрет со мной на баррикаде! Как это хорошо!»
Естественно, Тучкова не могла не откликнуться на предсмертное пожелание подруги. При этом ее не останавливало то, что Огарев был старше на пятнадцать лет и состоял в законном браке.
Дело в том, что еще в 1836 году Огарев сблизился с Марией Львовной Рославлевой, дочерью Льва Яковлевича Рославлева и Анны Алексеевны Панчулидзевой.
23 апреля 1836 г.
Николай Огарев – Марии Рославлевой
Вчера я был печален, печален, как еще никогда. Почему? Не знаю. Конечно, это не была ревность, – я слишком верю тебе, чтобы ревновать. Но два чувства, две мысли волновали мой дух. Я был так удален от тебя в течение всего дня – вот одна из причин моей грусти. Затем все эти люди, Мария, эти люди, называющие себя твоими друзьями, – так недостойны тебя. Эта дама с печатью глупости во взоре, этот господин с маленькими лживыми глазами и толстым животом, с физиономией, обнаруживающей физические аппетиты, ужасно раздражали меня. Господи, думал я, возможно ли, чтобы этот олицетворенный материализм безнаказанно приближался к этому существу, столь чистому и святому, которое я называю моей Марией? Друг мой, речи этого господина меня ужасают; это эгоизм, порождающий полный скептицизм, но втиснутый в тесную рамку обыденности. Говорю тебе, этот человек испугал меня, потому что он неглуп. Волна мизантропии нахлынула на меня, и я не мог совладать с нею; мне приходилось делать усилие над собою, чтобы поддерживать разговор с этими людьми. По возвращении домой мизантропия обратилась на меня самого, и в памяти моей воскресла вся летопись моей порочности. Наконец мое лихорадочное возбужденное воображение сосредоточилось на самом пороке, и моя мысль начала купаться в омуте разврата. В эту минуту я был недостоин тебя, Мария. Прости мне это, – может быть, это было вызвано каким-нибудь расстройством в организме. Дух мой скоро воспарил, и теперь я снова твой со всей возвышенностью ума, со всей чистотой и непорочностью души, со всей святой страстью моей любви к тебе. От этого я не сомкнул глаз до сих пор, потому что ко всему этому внутреннему волнению присоединялись еще несносные прелести моей квартиры.
Теперь покой вернулся в мою душу. Утро восхитительно. Солнце едва встало и вид на равнину бесподобен. Теперь я могу думать о тебе и соединять с тобою все мысли, которые кишат в моей голове, и сливать с ними грезы о будущем.
Через три дня ты будешь моей женой, Мария, через три дня мы всецело будем принадлежать друг другу, и отныне наша судьба будет едина. Пойдем, Мария, исполнять ее. Я чувствую, некий Бог живет и говорит во мне, пойдем, куда нас зовет его голос. Если у меня довольно души, чтобы любить тебя, у меня, наверное, хватит и силы, чтобы идти по следам Христа – на освобождение человечества. Ибо любить тебя значит любить все благое, Бога, вселенную, потому что твоя душа открыта добру и способна охватить его, потому что твоя душа вся – любовь. Да, моя любовь к тебе делает меня гордым. Нынче я не промедлю минуты, чтобы прийти увидать тебя и обнять. В твоих объятиях, Мария, я чувствую себя – себя, и целый мир идей и любви, и целую будущность, полную величия, – в твоих объятиях я чувствую себя возвышенным, возвышенным, как наша любовь. Никто не в силах понять нашу любовь; и пусть их не верят, дети грязи и праха, пусть тешатся своей язвительной улыбкой. Их неверие есть неверие несчастного, отрицающего все, чтобы освободить свою совесть от призрака добродетели, в существование Бога; они не верят, потому что не могут любить. Оставь их в жертву зависти и всем этим мелким терзаниям, которые вызывает в их порочной душе вид добродетели. Забудь и презри – я вручаю им этот дар от всей души.
Наша любовь, Мария, заключает в себе зерно освобождения человечества. Гордись ею! Наша любовь, Мария, это страж нашей добродетели на всю жизнь. Наша любовь, Мария, это залог нашего счастья. Наша любовь, Мария, это самоотречение, истина, вера в наших душах. Наша любовь, Мария, будет пересказываться из рода в род, и все грядущие поколения будут хранить нашу память, как святыню. Я предрекаю тебе это, Мария, ибо я пророк, ибо чувствую, что Бог, живущий во мне, предначертывает мне мою участь и радуется моей любви к тебе. Прости. Приди в мои объятия.
Брак между Огаревым и Марией Львовной Рославлевой был заключен в 1838 году, и она взяла его фамилию.
18 июля 1840 г.
Николай Огарев – Марии Огаревой
Хотел писать тебе вчера вечером; но был не в духе; лежал на диване и не мог ничего делать и лег спать в 10 часов. Читал и перечитывал твое письмо. Je ne te meconnais pas[22]22
Я тебя не узнаю (фр.).
[Закрыть]. Ты все же моя милая, добрая, умная, откровенная, прямодушная, mon interessante Marie[23]23
Моя интересная Мария (фр.).
[Закрыть]. Но многое и многое в твоих мнениях основано на условной фантастической жизни общества, а не на внутренней, глубокой, действительной человеческой жизни; часто ты непоследовательна в своих убеждениях, и сердце, ум с одной стороны спорят с привычками, вкусами с другой стороны. Повторю: иногда это меня сердит и оскорбляет, но по большей части мне это больно, мне тебя жалко, что ты добровольно отказываешься от лучшей доли человека. Так, напр[имер], ты убеждена в прогрессе – и не можешь мысленно оторваться от круга, которого участь пребывать в status quo. Так, тебе все поэтическое важно, но не занимает тебя. Маша, меня это мучит – и не ради себя, а ради тебя; ты лишаешься лучших наслаждений. Поверь мне, что эти противоречия, которые существуют в тебе самой (если заглянешь в себя откровенно), – они-то главное противоречие между нами. Но все же хорошая человеческая сторона и в тебе, и во мне так сильна, что мы не можем оставаться в отношениях тупых и пошлых мужа и жены, а должны быть товарищами, друзьями, любовниками. Дело в том теперь, что в близких отношениях надо не досадовать друг на друга, а иметь друг на друга теплое влияние, полное любви. Оно не может иметь места, если ты в меня веришь. А я в тебя верю, право, верю. Да вот как: если бы ты перестала меня любить en amante[24]24
Как любовница (фр.).
[Закрыть] и была бы увлечена другим, если б я вынес это – я был бы лучшим твоим другом, и тот должен бы сделать тебя счастливою под опасением смертной казни. В святость брака я не верю – а в святость любви верю. У нас брак сделался пугалом людей – и мы видим узы. Но истинная любовь не надевает оков, но только симпатизирует со всеми движениями любимой души. От этого привязанность к людям, которые близки к любимому нами существу. От этого я благословляю Галахова[25]25
Иван Павлович Галахов – приятель Герцена и Огарева, который любил Марию Львовну. Их роман начался летом 1841 года, за границей, и продолжался около года.
[Закрыть] за все минуты душевной симпатии, которые ты с ним проводила. Брак мешает жить, а любовь побуждает к жизни, делает жизнь гармоническою, полною, необъятно широкою. Если ты думаешь, что между нами нет ничего общего, кроме названий мужа и жены, – то прогони меня, просто прогони меня, – муж человек невыносимый. Но я, Маша, я полон надежды, я глубоко убежден и в моей любви к тебе, и в том, что противоречия между нами мнимы, что они должны рушиться вследствие наших благородных натур. Гордиева узла я не могу разрубить, на это у меня нет ни капли гениальной воли. Но я буду всегда вести себя вследствие твоего желания: ты приманишь – приду, ты бросишься в мои объятия – возьму; ты махнешь – отойду, воротишь – ворочусь. Что об этом будут думать люди, мне до того дела нет. Не хотелось бы, чтоб они тебя позорили, а меня – сколько им угодно; к этому я совершенно равнодушен <…> Маша, Маша! если б ты немного захотела вникнуть в мою душу, ты нашла бы, что такое самолюбие для меня не существует. Нет! – я тебя люблю как друга, подругу, моего ребенка, которому хотелось бы дать мне все возможное человеческое блаженство – лишь бы только человеческое, вытекающее из святой, вечной, божественной натуры человека, а не из пошлой, условной, ежедневной, формалистической, призрачной жизни общества. Если б я был ангел, Маша, я бы посадил тебя себе на крылья и унес бы на небо. Но и во мне много грязевого, мелкого и призрачного; я <…> не довольно просветлен духом, чтоб из светлого сознания действовать вследствие сильной воли. Вот, может быть, причина, отчего ты в меня мало веришь. Я на тебя имею мало влияния.
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно!
Я часто думаю: зачем я живу на свете? Счастья женщины я не умел сделать. От этого все мои личные отношения сделались для меня мучительны. Оторваться от всех, кто мне близок, – что ж мне тогда делать на белом свете? А любить – больно. Что мое поэтическое и социальное призвание? – ничего не значат. В последнее особенно мало веры, хотя и много рвения. Однако во мне есть теплота, жар души, сильное стремление; иногда я даже живу такою полною жизнью, за минуту которой я не возьму ста тысяч других жизней. О! не все потеряно, не верю, чтоб все было потеряно. С тобой мы будем друзьями, с друзьями – союзом, а все, что во мне хорошего, выскажется в стихах. Маша, Маша, – люби твоего поэта! Послушай: если я и недостоин или буду недостоин любви – все же люби меня. Но полно толковать на этот лад; это слишком давить душу. Виноват ли я, что я сегодня грустен? А все эта проклятая слабость характера, подчинение der Naturgewalt[26]26
Природа (нем.).
[Закрыть]; между тем как спокойная духовная сила должна бы вести жизнь ровно и стройно.Когда приедешь? Привези мне фрак и черный жилет, словом бальный костюм. Здесь по субботам бал, на котором куча народу <…>
Прощай, моя милая подруга! Можно так назвать? <…>
Тебя целую и обнимаю. Будь моим другом, прижми меня к сердцу, отдай мне твое сердце – ему будет тепло от моей любви. Прощай!
Брак Огарева оказался несчастливым. Став женой богатого человека (а Огарев был выходцем из очень обеспеченной дворянской семьи), Мария Львовна посвятила себя светской жизни. Разногласия между супругами постоянно увеличивались, а в ее жизни появились другие мужчины. В декабре 1844 года супруги разъехались.
А в 1849 году в жизни Огарева появилась Наталья Алексеевна Тучкова.
Позднее они поженились (это произошло после смерти Марии Львовны Рославлевой-Огаревой). В 1856 году семья выехала в Лондон. И в первую же неделю пребывания в Лондоне Наталья Алексеевна задумчиво сказала мужу: «Искандер[27]27
Псевдоним Герцена.
[Закрыть] такой талантливый, такой могучий. И в то же самое время совсем беззащитный, уязвимый!» И вот через несколько месяцев после приезда в Лондон жена призналась ему, что полюбила Герцена, хочет жить с ним вместе.
В 1857 году Наталья Алексеевна стала гражданской женой Герцена, взяла на себя воспитание его детей от первого брака. В 1858 году у супругов родилась дочь Елизавета, а в 1861 году – близнецы Елена и Алексей. При этом все они официально считались детьми Огарева.
Огарев был горячо привязан к Наталье Алексеевне, и случившееся стало для него тяжким ударом. Казалось бы, между Огаревым и Герценом должна возникнуть непреодолимая пропасть, но этого не произошло.
Однако деликатный уход Огарева из любовного треугольника не принес добрых плодов. С каждым прожитым вместе с Герценом годом требовательность Натальи Алексеевны росла, а вместе с этим росли раздражительность и неудовлетворенность. Александр Иванович понял, что жестоко ошибся, приняв свой порыв за любовь (сама Тучкова весьма точно назвала его чувство «вспышкой усталого сердца»), но было уже поздно что-либо изменить.
Огарев же «в сияньи гордого покоя» наблюдал за тем, как двое близких ему людей мучают друг друга. Однажды он написал бывшей жене.
2 ноября 1865 г. (Женева)
Николай Огарев – Наталье Тучковой-Огаревой
Долго я не решался писать тебе, Натали, но не могу выдержать моего молчания; будь это в последний раз, что я пишу, – мне все кажется, что это еще не в последний, что мы слишком тесно были связаны в жизни и что слово мое не может остаться без следа и влияния; стало, оно поможет тебе к действительной реабилитации, на которую мне потерять надежду так тяжело, что, мне кажется, я умру прежде, чем оторвусь от нее. Выслушай мою речь спокойно, так, чтобы понять ее, взвесить ее, оценить ее – и вглядеться в ее правду. Есть человек, которого я с отроческих лет любил, как брата; была женщина, которая меня любила, как брата, и я любил ее, как сестру, и это ты очень хорошо знаешь. Есть женщина, которую я любил, как мое дитя, и думал, что она достигнет светлого человеческого развития – долею под моим влиянием; я ее любил, как мое дитя и как мою жену. Эта женщина любила моего брата и мою сестру – как брата и сестру. Когда сестра умерла, она перенесла идеально свою любовь к ней на ее детей. Мы поехали вместе на помощь этим детям и брату. Ты полюбила моего брата. Я не стану говорить о том, в каком отношении я тогда был к тебе; одно скажу, что, вместо моего мечтаемого влияния на тебя, чувствовал, что я нахожусь подвластным и не возвышаю, а унижаю тебя. Я был уверен, что любовь брата тебя возвысит, – и все ставило жизнь на такую высокую ногу, как редко случай ставит ее. Ты могла любить моего брата и быть матерью детей моей сестры и твоей сестры, т. е. той женщины, которая для тебя была выше всего в мире. В самом деле – что за великое отношение становилось между всеми нами! И что же вышло? Зачем ты убиваешь его? А чтоб кто-нибудь из нас, кроме тебя, убивал это отношение – этого ты, конечно, не можешь сказать. Теперь ты пишешь к Г…, что мне нечего бояться, чтоб общественное мнение обвинило меня, потому что оно всегда обвиняет женщину. Это ужасно пошло! Неужто ты думаешь, что я сколько-нибудь забочусь об том – обвинит ли меня публика в духе кн. Мещерской или не обвинит? Мне это совершенно равнодушно. Что мне неравнодушно, это то – станешь ли ты сама как нравственное существо или станешь как злое, падшее существо. Последнего я не могу вынести, потому что мне это больно, больно потому, что я тебя любил страстно. Скажи мне, пожалуйста, из-за каких же личных причин я с тобой в разрыве, чтоб кто-нибудь мог сказать, что я прав, а ты виновата, или наоборот? Если ты лично передо мной виновата – ты не понимаешь, в чем. А если я виноват – я никогда этого даже тебе не говорил. Мой разрыв с тобой потому, что ты преследуешь детей моей сестры, которых я – умру – но не дам в обиду, а преследуешь ты их унизительно для себя, потому что, во-первых, ты их считала своими детьми, и, во-вторых, они против тебя ничего не сделали, и если ты не лжешь – ты не можешь сказать иначе. Если я когда-нибудь не стану держать секрета – это, конечно, не для оправдания самого себя, что равно не нужно для общежития, которого я не много уважаю, и равнодушно для меня самого, потому что моя совесть в этом случае чиста и я больше ничего не требую. Если я не стану держать секрета – это для того, чтобы не дать в обиду детей моей сестры, – и это я свято исполню. В этом вопросе я нисколько не беру на себя обязанности секрета; я даже думаю, что секрет с моей стороны будет слабостью, равной преступлению. А что же сделали дети против тебя, я спрашиваю? Который из них? Когда? Клеветать можно, но, в самом деле, – когда кто против тебя что сделал? Саша, что ли? Если говорил тебе, что ты нехорошо поступаешь с его сестрами, то он был вполне вправе. Этого ты сама не признать не можешь. А дурного против тебя он никогда ничего не делал. Ольга? Не было человека, больше или меньше постороннего, которому бы ты ее не выдавала за изверга. Конечно, никто этому не верит… Ольга этого не знает. Ее удивляло, что она не может проститься с Лизой <…> Ольга сама по себе – существо, которое еще не выросло из детства, но становится все больше и больше добродушным. Тата… Чем больше она что-либо провидит, тем больше стремится сделаться другом тебе и старшею сестрою Лизе. Кто же против тебя что-либо сделал? За что ты хочешь их стереть с бела света? Вот из-за чего наш разрыв, Натали, а не из-за того, чтоб кто-нибудь из нас был лично виноват один перед другим. Что мне нужно – это твое нравственное восстановление, потому что я по воспоминанию чувствую себя тебе близким. Скорбью о смерти детей ты для меня не восстановляешься, ибо человек, который может носить черное платье и действовать со злобой, для меня падающий человек, – я в его скорбь или любовь не верю, а вижу только мелкое, презренное самолюбие, равное ревности и зависти. Но когда я знаю, что этот человек еще способен взойти в свою совесть и реабилитироваться, то я готов стать на колени и просить его: «Опомнись!» Это я теперь и делаю. А если ты подумаешь, что таким оторваньем Лизы от ее семьи ты или ее испортишь и сделаешь злою, или она поймет, в чем дело, и взглянет на тебя с презрением, то ты еще глубже должна войти в себя и опомниться! Да! Я становлюсь на колени и умоляю тебя: «Опомнись!» Вот все, что я могу сказать! Ради памяти умерших детей, которая должна быть чиста, ради жизни Лизы, которая должна быть чиста, я умоляю тебя: «Опомнись!» Неужто так трудно честному существу сказать самому себе: я ошиблась, я гибла – но каюсь и хочу воскреснуть? Если это трудно – тогда я отрекаюсь от всякого уважения и всякого обязательства. Я все сказал, что мог. Умоляю тебя – не думай, чтоб во мне было какое-нибудь злое чувство. Все, что я прошу, все, из-за чего я мучусь, – это одна просьба: очистись и воскресни к действительно человеческой жизни. А как много для этого элементов – это ты сама легко поймешь. Прощай пока. Не поминай лихом. Всякое слово мое сказано не из какой-нибудь мелкой мести, а из глубокого, любящего воспоминания.
Твой папа Ага
Письмо это было написано в Ниццу, где Наталья Алексеевна жила с А. И. Герценом. Увы, счастливой семейной жизни у них не получилось. Наталья Алексеевна так и не смогла наладить отношения со старшими детьми мужа. Кроме того, тяжелейшим ударом для «супругов» в 1864 году стала смерть близнецов от дифтерита. Эта трагедия не объединила их, а, наоборот, развела по разные стороны.
В 1869 году Н. П. Огареву было 56 лет, а А. И. Герцену – 57 лет. В XIX веке это считалось настоящей старостью.
По отзывам современников, тяжелая болезнь настолько подточила физические силы Огарева, что он выглядел «глубоким стариком». Тем не менее дух Николая Платоновича был непоколебим.
Здоровье Герцена также было совершенно разрушено: обострился начавшийся очень давно диабет, а это давало мучительные урологические осложнения. Хотелось лишь одного – покоя и устроенности. И как же тяжелы были выпавшие на его долю лихорадочные скитания последних лет – Париж, Ницца, Цюрих, Флоренция, Женева, Брюссель…
9 (21) января 1870 года Герцена не стало. Он был похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез, однако позже, согласно его не единожды повторенным при жизни пожеланиям, его прах был перевезен в Ниццу и погребен рядом с могилой детей и его «любимой Natalie № 1».
Дальнейшая судьба Натальи Алексеевны Тучковой-Огаревой сложилась поистине трагически. Через несколько лет после смерти Герцена неожиданно покончила с собой ее 17-летняя дочь Лиза (из-за неразделенной любви к одному 44-летнему французу).
Наталье Алексеевне было всего 47, но ей казалось, что жизнь закончена, – так много мучительно тяжелого было пережито ею за два десятка лет, проведенных за границей. Все было в прошлом, а впереди ее ждало еще почти сорок холодных и полных одиночества лет.
Все эти годы Наталья Алексеевна жила лишь одними воспоминаниями. Она писала во многом безжалостные к себе «Мемуары». Вот ее слова: «Мне на роду написано причинять горе тем, кого я люблю». Даже всепрощающий Огарев не мог не высказать своей бывшей жене, что он о ней думает. Герцен говорил с ней еще жестче: «Ты любишь быть несчастной и недостаточно любишь, чтобы другие были счастливы».
Наталья Алексеевна оставила Огарева ради сильного чувства к Герцену, но потом она измучила их обоих своими сомнениями и сожалениями о сделанном шаге. Она умерла 30 декабря 1913 (12 января 1914) года в селе Старое Акшино Инсарского уезда Пензенской губернии, недалеко от того места, где родилась.
Незадолго до смерти Огарева она написала ему прощальное письмо.
12 апреля 1875 г.
Наталья Тучкова-Огарева – Николаю Огареву
Огарев, так как тебе память часто изменяет, хочу тебе напомнить, что если я и Лиза тебе не пишем, так это потому, что эта дикая женщина нас выгнала из твоего дома без малейшего протеста с твоей стороны; едва ты простился с нами и даже не проводил до дверей. Да, это дурной и слабый поступок! Когда раз во время митинга, при Нечаеве, эта женщина, тоже без малейшего повода, бросилась на меня с поднятыми кулаками, ты просил меня ее простить – и я простила. И вот к чему привело мое доверие к тебе. Прощай навсегда, не пеняй на нас – мы так же заботимся о тебе, как другие, и даже больше, чем Саша. Я бы желала, чтоб ты сжег мои письма, старые особенно; к чему после нашей смерти посторонним копаться в нашей душе. Прощай!
Что же касается Огарева, то он очень тяжело переживал все случившееся. В 1875 году он написал дочери А. И. Герцена Наталье Александровне (Тате) письмо, из которого видно, насколько безрезультатно окончились его попытки «наладить мир» в семье.
1 мая 1875 г.
Николай Огарев – Наталье Герцен
На последнее гадкое письмо Н.А. ко мне я решился не отвечать, чтоб ее не затронуть, а держать в покое и в отдалении. Хотя она в нем и требует, чтоб я истребил ее письма ко мне, чтобы никого не мешать в наши дрязги (!), но я этого не сделаю, чтобы иметь на всякий случай показать, кто прав, кто виноват, кто добр, кто зол. Да и не хочется мне отвечать женщине, которая старается меня восстановить против людей, мне близких и по памяти и по всем отношениям ко мне.
Николай Платонович умер 31 мая (12 июня) 1877 года в небольшом английском городке Гринвич: прямо на улице у него случился очередной припадок, при падении он повредил себе позвоночник и умер через несколько дней, не приходя в сознание. Его похоронили на гринвичском протестантском кладбище, и лишь в 1966 году его останки были перевезены в Москву и похоронены на Новодевичьем кладбище.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































