Текст книги "Письма о любви"
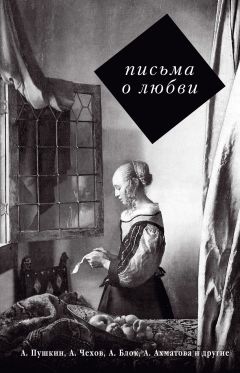
Автор книги: Сергей Нечаев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
А в октябре 1924 года Валерий Брюсов скончался, немного не дожив до пятидесяти одного года.
Нина же в феврале 1928 года, находясь в Париже, открыла газовый кран в номере скромной гостиницы, в которой жила. «Я искупаю смертью всю свою жизнь», – написала она в предсмертной записке. И последнее ее слово было обращено к уже покойному Брюсову: «Я все тебе прощаю. Я иду за тобой».
Елизавета Дмитриева
(Черубина де Габриак)
Название «Черная речка» прочно ассоциируется в нашей памяти с роковой дуэлью А. С. Пушкина с Дантесом. О ней практически все известно в мельчайших деталях. Примерно в этом же месте (на Парголовской дороге) дрались М. Ю. Лермонтов и барон де Барант. А вот о дуэли на Черной речке двух выдающихся русских поэтов, художника храбрости и певца бесстрашия Николая Степановича Гумилева и неистощимого выдумщика Максимилиана Александровича Волошина, известно разве что в узком кругу литературоведов-филологов.
Во все времена главным яблоком раздора у мужчин были прекрасные дамы. Первая дуэль на Черной речке произошла из-за Натальи Гончаровой. Из-за кого же стрелялись Гумилев с Волошиным? Из-за Анны Горенко, принявшей псевдоним Ахматова и позже ставшей женой Гумилева? Нет. Дрались поэты из-за молодой поэтессы, но ее звали не Анна, а Елизавета. Елизавета Ивановна Дмитриева, известная читателям своего времени под псевдонимом Черубина де Габриак.
Считается, что весной 1909 года у Гумилева с Елизаветой Дмитриевой завязался роман. Позднее сама она призналась, что у нее был роман с двумя поэтами одновременно: оба были влюблены в нее, и она была влюблена в обоих. Но Волошина она встретила на несколько лет раньше, питала слабость к его поэзии, посылала ему свои стихи, переписывалась с ним и обожествляла его, считая недосягаемым для себя идеалом. Гумилева она встретила в июне 1907 года в Париже, но та встреча последствий не предполагала. А весной 1909 года они увиделись вновь, и об этом Дмитриева потом написала так: «Это был значительный вечер в моей жизни <…> Мы много говорили с Гумилевым об Африке, почти с полуслова понимали друг друга <…> Он поехал провожать меня, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это была “встреча” и не нам ей противиться».
Какое-то время они были неразлучны, встречаясь ежедневно и проводя вместе много времени. По свидетельству Дмитриевой, она безоглядно бросилась в этот роман, хотя была в то время невестой Всеволода Васильева, отбывавшего тогда воинскую повинность. Сердце Гумилева также не было вполне свободно. Начиная с 1903 года он был влюблен в гимназистку Аню Горенко, сестру своего гимназического друга Андрея. Но к 1909 году Гумилев получил от нее уже не менее семи отказов на предложения выйти за него замуж. Его мучила ревность и угнетали эти отказы. Он знал, что у нее был возлюбленный (будущая Анна Ахматова с зимы 1905 года испытывала нежные чувства к своему репетитору по математике Владимиру Викторовичу Голенищеву-Кутузову, но ее любовь к нему была несчастливой). И вот тогда, измученный влечением к Ане Горенко и ее постоянными отказами, Гумилев сделал предложение Елизавете Дмитриевой, но получил отказ.
Это всего лишь версия, и никто не знает, как все обстояло на самом деле. Вероятно, Дмитриева решила сохранить верность Васильеву, женой которого она станет в 1911 году.
По другой версии, не Гумилев уговаривал Дмитриеву выйти за него замуж, а Дмитриева хотела женить на себе Гумилева. А вот Максимилиан Волошин в это время совсем не спешил делать ей предложение. Она же писала Волошину, на время уехавшему в Европу, полные эмоций письма.
Петербург. 16 мая <1908>. Пятница. 10 ч. веч.
Елизавета Дмитриева – Максимилиану Волошину
Я почему-то не знала, писать Вам или нет. Теперь, когда еще нет от Вас вестей; думала – не надо напоминать и многое другое – ненужное, наверно. И для того, чтобы было верно – и честно – пишу. Хотелось давно; старалась привести мысли в порядок – определить связь – не могла; мысли из синего стекла застывали и не двигались, и я перехожу от одной к другой – вспоминаю. Сегодня Вам 31 год – ведь да; думала об этом вчера и сегодня проснулась с этой мыслью; было нужно что-то сделать, м. б., написать Вам. Потом немного теряются силы, о, не совсем, немного только: п[отому] ч[то] Вы уехали, не вижу Вас и не пью чего-то (?) прохладного в Ваших словах, я не знаю что – это, но в этом есть и вера. Но потому и хорошо, что Вы уехали, п[отому] ч[то] лучше самой, так труднее. Вы когда-то говорили, что этот путь – сперва дает сомненье, и долгую тоску, и одиночество. И теперь оно пришло, одиночество – пришло, и я одна <…> Только я верю, что так нужно. И потом было так нужно, чтобы Вы прошли мимо, т. к. Вы и сделали. Иногда мне кажется, что Вы оттуда, что Вы проходите мимо всех – только проходите, подходя ко всем близко и не приближаясь ни к кому. Это можно писать? Можно мне писать все, что мне хочется? <…>
…у меня много сомнений, чувство, что скоро я переступлю черту, что потом назад не будет возврата; и не боязнь, а ужас выбора. Как будто все, что было во мне и около меня, ушло и я одна в свободном выборе. А я еще так мало знаю, так мало – бесконечно <…>
Но уже нет возврата к прошлому, туда, где было и «да», и «нет», и «может быть», – теперь пришло время выбора.
И знаю, что выберу яркий путь, если убью в себе все ненужное, если оправдаю его до уничтожения. Пишите мне, пожалуйста, Макс Александрович, про что-нибудь. Вам хорошо? Уже в Финляндию. А мне странно теперь <…>
Жму Ваши руки.
Дмитриева
Из эпистолярного наследия Дмитриевой сохранилось 109 писем к Волошину, и они охватывают период с 1908-го по 1928 год.
9 июня <1908> (Халола[74]74
Халола – климатический курорт в Финляндии.
[Закрыть]). ПонедельникЕлизавета Дмитриева – Максимилиану Волошину
Дни странно сплетаются, образуют какой-то круг, отдаляют прошлые, шумные дни.
Когда на мой стол ложатся темно-зеленые Ваши конверты, мне нужно порвать какую-то паутину, чтобы вглядеться в Ваши буквы. И в то же время я много думаю о Вас, чувствую Вас. И сейчас мне хочется писать Вам что-то страшно важное и красивое, но слова еще не подчинены мне <…>
У нас много сирени и яркие, солнечные дни. Посылаю Вам веточку – мне всегда нужно посылать Вам цветы – Вам нельзя иначе – Вы ведь это тоже знаете. Теперь, сейчас я вижу Ваш Париж, и меня тянет туда – я так люблю его; у меня в Париже – другая душа и другая жизнь – в Париже я воспринимаю яркие краски и лучше вижу сумерки <…>
Я слишком много бываю в себе, это выходит непроизвольно; я целую неделю лежала, одна; было страшно жарко, и из города пришли злые вести – у меня хлынула кровь горлом, и я лежала, нельзя было даже двигать пальцами, можно было только думать. Теперь не так: я много занимаюсь и гуляю, читаю все, что не дает мне думать. В моем дне много ритма.
Где же мне жить, как не здесь? Я такая же, как и они. Смерть тоже ходит около меня, но они ее боятся, а я нет – и потому она не властна надо мной. Здесь рядом санатория, и в ней я лечусь – оттого я и здесь.
Здесь страшно и безнадежно.
Здесь не только ждут смерти, здесь еще плачут о жизни, и она сюда приходит, принимая странные, едкие формы. И от невозможности восприятия ее плачут целые ночи; нужно долго гладить руки и говорить печальные слова о Радости, чтобы перестали. И то ненадолго. Но во мне самой, наряду с тоской, есть Радость, я могу слушать жизнь, и мне не так трудно.
У меня есть книги, сирень, ко мне приходят Ваши письма.
Дмитриева
13 окт<ября> – 30 сент<ября> 1908. Петербург
Елизавета Дмитриева – Максимилиану Волошину
Уже очень давно от Вас нет писем, очень. Теперь мы пишем друг другу полуоборванные письма, останавливаемся на полусловах, у меня такое чувство.
Точно с Халолы я потеряла Ваши письма, точно я не пишу Вам письма, а «переписываюсь».
Почему все стало так? Я много об этом думала, и мне было больно. Потому что Вас для меня много; Вы это знаете.
Вы для меня поэт страшно близкий своим творчеством, в Вас для меня скрыты многие слова, и потом я Вас очень люблю.
И потому, если уйдете или пройдете, то будет горько; только все-таки Вы проходите или уходите, если это нужно.
Вы знаете, а я ничего не знаю. Может быть, в Халиле я все оставила, а Вы думаете, что я теперь пустая, да. Вы это думаете?
Это совсем верно, я теперь стала очень, очень скучная, у меня пустая душа.
Моя внешняя жизнь идет так скверно, так некрасиво и одиноко, что я боюсь; боюсь, что она отраженье внутренней <…>
Иногда я думаю, что Вам самому нехорошо, тогда хочется быть очень ласковой. Но чувствую себя беспомощной.
Вы весной сказали, что нужно сожаление, т[ак] что не нужно и писать мне, если это все прошло.
Но если Вы не пишете случайно, то напишите поскорее, милый Макс Александрович; я очень устала.
Л<иля>
7-го/20.XII. 1908 г.
Елизавета Дмитриева – Максимилиану Волошину
У меня сегодня на душе как-то темно и смутно, но все же хочу придти к Вам, чтобы говорить с Вами; Ваше сегодняшнее письмо подошло прямо к глубинам моим, и где-то в сердце от него заболело. Я чувствую себя сейчас безмерно одинокой и покинутой; около меня нет людей, смотрящих в меня; а все мои виденья не приходят больше; минутами я не верю в них. А в то же время никогда еще у меня в душе не было так много любви и нежности, но я не умею передавать ее. Она накопляется в моем сердце и теснит его, и нет сил и знаков, чтобы выразить ее. У меня сейчас спутались все мысли, все их ветви и вихри кружатся вокруг меня. Я думаю, что это окончится тем, что я найду выраженье для моей любви, какое-нибудь общее выражение, и тогда будет настоящий путь, а не искание, и тогда глаза перестанут плакать, а губы дрожать; и сейчас в минуту ужаса, которая во мне, мне так близко, так дорого Ваше стихотворение; спасибо за него и за «Счастье», но оно еще не близко мне, хотя и тянет к нему, но думаю, верю, что оно станет близким.
* * *
Мне вдруг стало светло и радостно от сознания, что Вы есть и что можно быть с Вами.
Вы всегда были таким, какой Вы теперь?
Все то, что пишете Вы о теософии, – глубоко-верно и о искусстве; но ведь путь его ценен только тогда, когда зароненное семя чужого творчества отразится в побегах личного творчества. Путь искусства – путь избранных, людей, умеющих претворить воду в вино. А для других – это путь постоянной горечи; нет ничего тяжелее, как невозможность творчества, если есть вечное стремление к нему. Понимать, но не проникаться, – ведь это проклятие! Мне это понятно, п[отому] ч[то] во мне этого так много; у меня так много жажды творчества и так мало творчества, т. е. нет его совсем. Меня так тянет писать, и я так часто пишу, но ведь я знаю, хорошо знаю, что это не то, что этого не нужно писать, что все это бледно и серо и по содержанию [и] по форме. Чувство моей обездоленности меня очень мучает. Я сейчас пересмотрела все мои стихотворения, и ни одно не выражает того, что я хочу. Я посылаю Вам последнее по времени <…> Оно Вам не может понравиться. Только, пожалуйста, милый, хороший, думайте обо мне, как и раньше, и пишите мне <…>
Но Волошину нравились стихи Лили (так звали Дмитриеву друзья). Они были несколько манерны, стилизованы под нечто средневековое, однако у автора, безусловно, наличествовал собственный поэтический голос.
Лето 1909 года Дмитриева провела в Коктебеле, на даче у Волошина. Этот поэт-символист превратил Коктебель в некое культовое место, центр притяжения для творческих людей и экстравагантных персонажей разного рода, и именно там у них и родилась идея литературной мистификации. Был придуман звучный псевдоним и литературная маска таинственной красавицы-католички Черубины де Габриак (Черубиной звали возлюбленную матросов в одном из романов Фрэнсиса Брет Гарта, а Габриаком именовали чертика, стоявшего на книжной полке Волошина).
Стихи Черубины были на русском языке, а сопровождавшие их письма редактору – на французском. Главный редактор журнала «Аполлон» эстет Сергей Константинович Маковский «попался на крючок» – какой талантище вдруг выискался, какая необычайная красота, какая талантливая смелость… И с 1909 года стихи Черубины де Габриак стали печататься в «Аполлоне», ее успех был головокружителен и несомненен, и ее творчество получило высокую оценку многих известных людей. В частности, Алексей Толстой назвал Черубину «одной из самых фантастических и печальных фигур в русской поэзии». Маковский был в восхищении. Вячеслав Иванов с восторгом говорил о ее «мистическом эросе»… Впрочем, последний, вероятно, что-то подозревал, ибо он говорил Волошину: «Я очень ценю стихи Черубины. Они талантливы. Но если это мистификация, то это гениально».
Журнал «Аполлон» публично объявил Черубину поэтессой будущего. Так развивалась Мистификация Века, основанная на способностях Дмитриевой и ее духовной связи с Волошиным. Именно он сумел внушить ей, что она талантлива. Макс и Лиля полгода морочили голову публике, наслаждаясь успехом возникшей на российском поэтическом небосклоне звезды. Они резвились от души, придумывали все новые и новые подробности из жизни прекрасной испанки…
Что же касается Гумилева, то Волошин опасался, что Николай Степанович может раскрыть истинное лицо Дмитриевой и предать огласке роль Волошина в мистификации с Черубиной де Габриак. Получается, что Волошин судил о дворянине Гумилеве по себе, по-мещански, а Николай Степанович при всех своих недостатках все-таки был джентльменом и о своих галантных похождениях не рассказывал даже близким людям. Выходит также, что Дмитриева вольно или невольно стравливала Волошина и Гумилева, а Волошин принял на веру ее слова о нанесенном ей оскорблении.
Она явно предпочла Гумилеву его коллегу по редакции «Аполлона» Максимилиана Волошина – человека, славившегося общительностью и, по словам Марины Цветаевой, «прочностью своих дружб». В ответ разъяренный Гумилев позволил себе нелестно высказаться о поэтессе, а Волошин, в свою очередь, нанес ему публичное оскорбление.
Сам он потом описывал это так: «В огромной мастерской на полу были разостланы декорации к “Орфею”. Все были уже в сборе. Гумилев стоял с Блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел “Заклинание цветов”. Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос И. Ф. Анненского: “Достоевский прав, звук пощечины – действительно мокрый”. Гумилев отшатнулся от меня и сказал: “Ты мне за это ответишь” (мы с ним не были на “ты”). Мне хотелось сказать: “Николай Степанович, это не брудершафт”. Но я тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос: “Вы поняли?” (То есть: поняли ли – за что?)»
А вот версия главного редактора «Аполлона» Маковского: «Волошин казался взволнованным. Вдруг, поравнявшись с Гумилевым, не говоря ни слова, он размахнулся и изо всей силы ударил его по лицу своей могучей ладонью. Сразу побагровела щека Гумилева, и глаз припух. Он бросился было на обидчика с кулаками. Но его оттащили – не допускать же драки между хилым Николаем Степановичем и таким силачом как Волошин. Вызов на поединок произошел сразу же».
Дуэль Волошина и Гумилева состоялась 22 ноября 1909 года, через 72 с лишним года после дуэли Пушкина. Это была очень странная дуэль. Во-первых, оба дуэлянта опоздали к месту поединка. Гумилев отправился на дуэль в собственной машине. И одет он был по-барски: в дорогой шубе и цилиндре. Но его машина застряла в снегу. Во-вторых, Волошин, ехавший на обыкновенном извозчике, тоже застрял в сугробе и решил идти к месту дуэли пешком, но по дороге он потерял калошу. Без нее стреляться он не хотел, и секунданты бросились искать волошинскую калошу. Наконец пропажа обнаружена и возвращена владельцу.
За пистолетами отправились к Борису Суворину, сыну знаменитого издателя, но у него оружия не оказалось. Тогда отправились к юристу А. Ф. Мейердорфу, и у того пистолеты нашлись: гладкоствольные, чуть ли не пушкинской эпохи. По утверждению Никиты Алексеевича Толстого, его отец тайком засыпал в пистолеты тройную порцию пороха – чтобы усилилась отдача и уменьшилась точность стрельбы. Потом граф Толстой отсчитал шаги, разделявшие дуэлянтов. Бесстрашный Гумилев сбросил с плеч шубу и остался в смокинге и цилиндре. Напротив находился растерянный Волошин: широкий в плечах, толстоватый, с гривой волос на голове, в шубе, без шапки, но в калошах. В глазах его стояли слезы, а руки дрожали.
По одной версии, Гумилев промахнулся, по другой версии – выстрелил вверх. Во всяком случае, он явно особенно не прицеливался. А Волошин признался, что вообще никогда не умел стрелять. Короче говоря, дуэль завершилась без кровопролития.
В газетах потом этот поединок назвали водевильным. Полиция раскрыла это дело, обнаружив на Черной речке калошу одного из секундантов. Так несостоявшаяся трагедия превратилась в фарс. И, надо сказать, журналисты вволю поиздевались над обоими участниками дуэли.
Согласно приговору окружного суда, Гумилев получил за дуэль семь дней домашнего ареста (как формальный инициатор поединка), а Волошин – сутки домашнего ареста. Но едва ли дуэлянты отбывали это наказание на самом деле.
Несмотря на благополучный исход дуэли, вина за нее, похоже, была на совести Дмитриевой, и, по-видимому, это мучило ее.
Суббота. 6.II. 1910. СПБ
Елизавета Дмитриева – Максимилиану Волошину
Я сегодня утром рано отправила тебе мою отрывалочку; а в 11 получила от тебя из Джанкоя. И стало спокойнее. Я рада твоей книге, рада тому, что очень скоро у меня она будет.
И так завидую тому, что ты один, там, в Коктебеле.
Рада, что не приедет Брюсов. Я теперь очень занята; «Аполлон» присылает мне перевод за переводом, неразборчивые и гадкие. Они меня делают тупой <…>
До того нехорошо.
Я чиню зубы, и они болят.
Когда они болели в Коктебеле, то всходило солнце и зажигало желтые мальвы.
Здесь оттепель.
А внутри, Макс, я не знаю, что внутри! Я все думаю, и слова большие, возмездье, искупленье, отреченье, только все это неверно. Я очень мучаюсь. Не знаю, чем; внутри нет точки.
Я хочу, чтоб мне где[-нибудь] можно было переночевать; у меня душа черная, у меня все болит. Я не пишу стихов, т. е. написала плохие.
Точно умираю, или слепну. Макс, во мне нет радости. Я мучаю и тебя, и себя очень, я не понимаю, чем.
Это очень нехорошо – эгоизм, но мне от него некуда уйти.
Тебе не скучно со мной?
Макс, у меня слова не те, читай за ними, глубже. Пожалуйста.
Ты обещал писать стихи, мне письмо в стихах – не забудь. Я жду. Я всех слов жду. Так голодна я <…>
Что Феодосия?
Мне нужно твердости.
Макс, любимый мой!
Лиля
1 марта <1910. Петербург>
Елизавета Дмитриева – Максимилиану Волошину
Твои письма дают радость и тоску. Радость – п[отому] ч[то] ты мне дорог, и твой покой тоже, тоску – п[отому] ч[то] все ясней, что нет к тебе возврата. Но это без боли, Макс, и не нужно, чтоб у тебя была; п[отому] ч[то] я не дальше, я, м. б., гораздо ближе подойду к тебе, но только ты не путь мой. А где путь мой – не знаю.
Твои «весенние» стихи я плохо чувствую, а сегодняшние мне близки, особенно «цвета роз и меда». А в первом мне не нравится, что фразы разрезаны, конец на другой строчке, чем начало; потом нехорошо, что лик – жен[ского] рода (хотя, м. б., это по Далю?).
* * *
А предпоследнее стихотворение о «семисвечнике» мне очень близко, но выбрось последние четыре строчки; жабры, плевы – все это никуда; плохо и то, что семисвечник обращается в канделябр, почему не в люстру или лампу?
Помочь тебе в стихах, что я могу – я молчу. Я написала два-три прескверных стишка, которые даже не шлю <…>
Лето я, наверное, проведу в Петербурге.
Целую тебя. Пиши. О себе!
Лиля
В ходе мистификации с Черубиной де Габриак Дмитриева влюбилась в Маковского, и крах надежд на него, по-видимому, вызвал ее охлаждение к Волошину – инициатору всего предприятия. Волошин долго не мог поверить в конец их любви – и в ряде писем в начале 1910 года Дмитриева все решительнее говорила о своем намерении уйти.
15 марта <1910>
Елизавета Дмитриева – Максимилиану Волошину
<…> Но я все тверже и тверже знаю это, я не хочу, чтобы ты этого не знал. Я всегда давала тебе лишь боль, но и ты не давал мне радости. Макс, слушай, и больше я не буду повторять этих слов: я никогда не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя.
Макс, мой милый, видишь, так много, так много я ждала от моей любви к тебе, такого яркого, такого ведущего, но ты не дал. Я ждала раньше всего, что ты научишь меня любить, но ты не научил. Ты меня обманул. Это не упрек, ты сам не знал, я слишком многого хотела и слишком мало умела сама.
Виновата я, если бывают виновные. Я стою на большом распутье. Я ушла от тебя. Я не буду больше писать стихи. Я не знаю, что я буду делать. Макс, ты выявил во мне на миг силу творчества, но отнял ее от меня навсегда потом. Пусть мои стихи будут символом моей любви к тебе.
Я сказала все. А за этот год я благодарю тебя. Ты отрезал меня от прошлого.
Прощай, Макс. Если б для счастья твоего я могла отдать жизнь! Не кляни меня! Мы встретимся когда-нибудь нежно и дружески. Ты ведь тоже стал моим любимым ребенком, моим самым близким поэтом. Сердце рвется, Макс. Прощай, мой горько-любимый.
Лиля
16. XI.1910. СПБ В<асильевский> о<стров>, 7 л<иния>, д<ом> 62/1, к. 14
Елизавета Дмитриева – Максимилиану Волошину
Дорогой Макс, уже много времени прошло с тех пор, как мы не встречались. Кто знает, когда и где встретимся. Я бы хотела, чтобы Вам стало хорошо и светло, чтобы Вы взяли жизнь и любовь. Настоящую, чтобы Вы перестали мучиться мною; я бы хотела взять всю Вашу боль на себя, хотела бы, чтобы я не оставалась больше в В[ашей] жизни.
Мне хорошо, светло и спокойно.
Я знаю, куда и зачем. Тот путь искусства, к[отор]ый был близок для меня раньше, теперь далек навсегда. Ничего моего в печати больше не появится.
Я-художник умерла. Но это меня глубоко радует. У меня не тот путь. И теперь в начале его, когда я уже знаю, что нам долго не встретиться, – я Вам говорю: спасибо за все, прощайте и простите. Я благословляю все, что было; все ложное, все не мое вывело меня на свет. Спасибо Вам, не кляните меня, забудьте и будьте радостны. Ваш путь, Ваша жизнь всегда мне близки.
Лиля
Разоблачение Черубины де Габриак состоялось в конце 1909 года, но Гумилев, который сделал очередное предложение Анне Ахматовой (и она его на этот раз приняла), к этому не имел никакого отношения. Правду узнал поэт Михаил Кузмин, и это обернулось для Дмитриевой тяжелейшим творческим кризисом: после разрыва с Гумилевым и Волошиным и после скандальной дуэли между ними она надолго замолчала.
В одном из писем она написала Волошину: «Черубина никогда не была для меня игрой <…> Черубина поистине была моим рождением; увы! Мертворождением».
Дуэль психологически окончательно сломила Дмитриеву: она была почти на краю безумия, не только перестала писать стихи, но и около пяти лет почти не читала стихов – каждая ритмическая строчка причиняла ей боль…
В 1911 году Елизавета Дмитриева вышла замуж за инженера-мелиоратора В. Н. Васильева, приняла его фамилию и уехала с ним в Туркестан. Позднее она много путешествовала, побывав в Германии, Швейцарии, Финляндии и Грузии. Лишь в 1915 году она возвратилась к поэзии.
В 1926 году, уже после гибели Гумилева, расстрелянного Петроградским ГубЧК в августе 1921 года по ложному обвинению в участии в белогвардейском заговоре, Елизавета Ивановна (Лиля) написала «Исповедь», завещав опубликовать ее только после своей смерти.
Дальнейшая судьба Елизаветы Ивановны Васильевой (урожденной Дмитриевой) сложилась тяжело. Ее выслали в Ташкент за дворянское происхождение. Там она и умерла 5 декабря 1928 года от рака печени, не дождавшись окончания срока ссылки. Ее могила затерялась. Эпизод с Черубиной де Габриак, безусловно, стал самой яркой страницей в ее жизни.
Лиля не смогла остаться с Волошиным, но навсегда сохранила к нему доброе отношение. До конца жизни они состояли в переписке, и ее последнее письмо к нему датируется 8 сентября 1928 года.
8 сентября 1928 года (Ташкент)
Елизавета Дмитриева – Максимилиану Волошину
Мой дорогой Макс!
Вчера была Гунна[75]75
Гуна – прозвище Ксении Павловны Девлет-Матвеевой.
[Закрыть] от тебя с подарками. Так хорошо, когда что-нибудь приходит из Коктебеля. Спасибо Марусе[76]76
9 марта 1927 года был зарегистрирован брак Максимилиана Волошина с Марией Степановной Заболоцкой, которая, став женой поэта, разделила с ним трудные годы (1922–1932) и была его опорой.
[Закрыть] за чудесную коробочку с камешками, похожими на звезды. Я их все время перебираю. На моих белых стенах уже много твоих акварелей: они очень созвучны Туркестану.Для меня мир кажется сейчас новым, п[отому] ч[то] я целый месяц была сильно больна и еще сейчас без посторонней помощи не могу сойти с веранды.
У меня были всякие неприятности, те немногие книги, к[отор]ые еще у меня были, опять отняты. Я была совсем одна, это было перед приездом Лиды[77]77
Лидия Павловна Владимирова (урожденная Брюллова). В некоторых источниках указывается, что Лидия Брюллова и Елизавета Дмитриева-Васильева были не только близкими подругами, но и троюродными сестрами.
[Закрыть], когда она приехала, я заболела острым воспалением желчного пузыря; – это не опасно, но только очень больно. Весь месяц прошел в жару, морфии и боли, и вот я сейчас, как тень с берегов Стикса, впиваю солнце и зеленые листья. Это лето было не жарким, все время были дожди <…>Я бы очень хотела повидаться и с тобой, и с Марусей. Может быть, это еще и будет. Рада, что, по словам Гуны, ты лучше себя чувствуешь <…>
Ты всегда помни, Макс, что я тебя люблю. Мне сейчас тихо и радостно внутри. Болезнь многое изменила.
Воля шлет свою любовь.
Крепко целую Марусю.
И тебя, дорогой Макс!
Твоя Лиля
О смерти Лили Волошину сообщил ее муж. А сам Максимилиан Волошин скончался в Крыму в 1932 году.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































