Текст книги "Письма о любви"
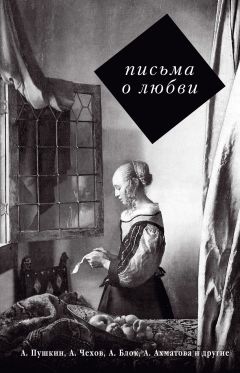
Автор книги: Сергей Нечаев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Иван Гончаров
Иван Александрович Гончаров – писатель, критик, член Петербургской Академии наук, автор известных романов «Обломов», «Обрыв» и «Обыкновенная история», которого В. Г. Белинский называл «лицом совершенно новым в нашей литературе», – всегда необычайно бережно охранял тайну своей личной жизни. Поэтому мы почти ничего не знаем о его человеческих привязанностях и переживаниях.
Гончаров часто воспринимался современниками как его вымышленный литературный герой – меланхоличный, ленивый, много мечтающий, но ничего не делающий. Однако это был лишь внешний облик, внутренне же Иван Александрович был человеком мыслящим и очень деятельным.
Любовью всей его жизни была Елизавета Васильевна Толстая, которую он впервые увидел еще шестнадцатилетней девушкой в доме Майковых, их общих друзей. Елизавета тоже относилась к Гончарову как к некоему «Обломову». Она принимала его ухаживания, письма, но отношения дальше дружбы никогда не заходили. А писатель буквально сгорал в костре своей страсти. Увы, сгорал один… Судя по письмам Ивана Александровича, в ответ на которые он лишь иногда получал редкие и скупые слова, характер Елизаветы Толстой, привыкшей к поклонению, был не самым гармоничным. С одной стороны, она была младше Гончарова на пятнадцать дет. С другой стороны, ей очень нравилось, что получивший известность в России писатель, словно юноша, весь поглощен чувством к ней.
Бурная переписка между ними началась гораздо позже знакомства, уже во вполне зрелом возрасте. Гончаров потом написал о Елизавете Васильевне: «Я часто благословляю судьбу, что встретил ее: я стал лучше, кажется, по крайней мере с тех пор, как знаю ее, я не уличал себя ни в одном промахе против совести, даже ни в одном нечистом чувстве: мне все чудится, что ее кроткий карий взгляд везде следит за мной, я чувствую над своей совестью и волей постоянный невидимый контроль».
19 сентября 1855 г. Петербург
Иван Гончаров – Елизавете Толстой
<…> не имею ни права, ни возможности быть ценсором таких верных, безыскусственных выражений Вашего сердца. Но чтение Ваших confidences[28]28
Откровений (фр.).
[Закрыть] мне доставило несколько приятных минут. Все написанное Вами есть верное отражение господствующего в Вас чувства – не больше. Вы, конечно, этого и достигали, принимаясь за перо, в противном случае, то есть если б у Вас была другая претензия, она бы непременно высказалась в тонкостях ума. Вы впали бы в частности, в подробности, старались бы об отделке, и тогда вышло бы литературнее, но не было бы искренности. А тут примета ее заключается, между прочим, в том, что Вы, по примеру всех, так или иначе выражавших свое чувство, считали его исключением. Тоска, мечты, слезы – все это симптомы известной болезни. Зачем бы, кажется, это писать? А нужно, я знаю, – помню, то есть я сам никогда не писал, а помню, что не прочь бы, если б меня заперли в деревне. Вам, как и всем в этом положении, жадно хочется прислушиваться к голосу собственного чувства, так что трудно заглушить в себе эту потребность высказываться. Его не было, говорить с ним нельзя, писать по почте об этом неудобно, особенно в такие места, где письма поступают в карантин, прежде нежели дойдут по адресу, – и вот Вы (и другой в таком состоянии) начинаете говорить с неодушевленными предметами, сначала с письменным столом, потом с печкой и т. д. <…> Хорошо, у кого есть няня, а у кого нет – можно слова два перемолвить хоть с мухой. Но все это у Вас грациозно, естественно грациозно, как Вы сами и Ваш ум, потом свежо и молодо, так что особенно мучительная сторона страсти, даже и мне напомнила что-то бывалое, уж давно угасшее и забытое во мне. Позволю себе сделать одно капитальное замечание: Вы все обращаетесь к внешней его стороне, едва вскользь упоминая об уме, душе etc., a то все «красивая поза», «опершись на руку» – да тут же непременно и «конь». Я все думал, что у Вас это должно быть полнее. Впрочем, Вы и сами сознаетесь в своем дневнике, что Вы «влюблены», – следовательно, это еще не решенный вопрос, наступила ли бы за пылом страсти настоящая, глубокая любовь, чувство прочное и более покойное? Во всех Ваших выражениях мелькает только страсть в виде болезни, а не сознательное и неизменное чувство. Вы смело можете показать эту тетрадку Вашему будущему жениху: он найдет, что не все для него погибло, и откроет тут много залогов на излечение. Я нахожу, что это и естественно – страсть и любовь (про которую я говорю), что-то не одинаковы, или, по крайней мере, бывают иногда не одинаковы.В двух местах только я вижу небольшие натяжки: это в выражениях тоска-змея да погодушка-верховая: мне это показалось умышленным украшением, риторикой. Потом я не мог не засмеяться от души, читая, как Вы с ним мечтаете женить Ваших будущих детей. Да, да, все это верно, искренно: тут весь очаровательный мир, со всею милой глупостью любви, как называет это Аполлон Майков <…>
Я позволил себе сделать этот общий вывод о Вашей тетрадке, предвидя изустный Ваш вопрос о моем мнении: но изустно не выскажешь в порядке, и я предпочел написать. Но довольно, а то, пожалуй, не кончишь на листе, дай только волю себе. С Вами я особенно разговорчив: чувствую, однако ж, что апатия и тяжесть возвращаются понемногу ко мне, а Вы было своим умом и старой дружбой расшевелили во мне болтливость. – Еще раз благодарю за доверие, но тетрадки не возвращаю, по Вашему желанию, до личного свидания. Надеюсь, что в сказанном мною, несмотря на Вашу обидчивость, Вы не найдете ничего обидного: я счел дружескою обязанностию сказать откровенно, как и что мне кажется <…>
25 октября 1855 г. Петербург
Иван Гончаров – Елизавете Толстой
Как благодарить Вас, изящнейший, нежнейший друг, за торопливую, милую весть о себе? Кинуться Вам в ноги и в умилении поцеловать одну из них, а буде можно, то и обе – Вы не велите, находите это унижением, а я вижу тут только понижение, взять одну из Ваших рук и почтительно-страстно приложиться к ней: пальцы закованы в броню колец, которые охлаждают пыл поцелуя. Заплакал бы от радости, да кругом все чиновники, я на службе был (когда пришло письмо), подумают, не рехнулся ли я. Но Вы поймете и без всего этого, как я рад <…> Но не думайте, однако ж, что Вы первая вспомнили обо мне, а не я о Вас, что Вы первая написали ко мне, а не я первый к Вам: доказательство должно быть давно в Ваших руках – это мое письмо, другое доказательство на Ваших плечах – это салоп, третье – в Ваших глазах: это книги. Вы не подозревали, конечно, что навстречу Вашему письму неслось уже мое, не чувствовали, что за Вами помчалась моя неотступная мысль, летала, как докучливая муха, около поезда, врывалась нескромно в семейный вагон, тревожно отыскивала Вас среди узлов, мешков, ребят, старых и молодых княгинь, успокоивалась подле Вас час, два, потом, усталая, измученная, летела в столь любимый Вами Петербург и теперь ревниво допытывается, к кому направлены Ваши наиболее горькие сожаления, о ком были Ваши слезы?.. Нет, не догнать, не предупредить и не опередить Вашей дружбе мою, не переспорить меня в этом. Ваша дружба – как легкий, прохладный ветерок в летний день, нежит, щекочет нервы, приятно шевелит их, как струны, и производит музыку во всем организме. Моя – как воздух, проникает всюду, всего касается, заходит в легкие: надо уйти на дно морское, чтоб защититься от него. Хорошо, если б она сделалась такою же необходимостью для Вас, как воздух, чтоб Вы не пожелали, в защиту от него, обратиться в рыбу. Вы плакали, – пишете Вы, а о чем? <…> Знаете, как мне жаль, что я не видал Ваших слез никогда: мне недостает их для полноты очерка всей Вашей физиономии. Если б Вы были здесь, я готов бы был разобидеть Вас, чтоб Вы заплакали, чтоб поглядеть, как из Ваших глаз «сыплются эти перлы», сказал бы поэт, и то восточный. Особенно хотелось бы видеть эти слезы, о которых Вы пишете, сосчитать, сколько их пролито вообще, досталось ли на мою долю, и если досталось, то сколько именно. Смекните на досуге и уведомьте об итоге поаккуратнее. Вы отвечаете на это всегда, что «слезы портят лицо, глаза красны» etc. Да боже мой: разве только хороши сухие и ясные глаза? Рисовать – так, но чтоб не забывать никогда таких глаз, как Ваши, нужно изредка видеть их плачущими. Вы знаете – к чему проводник – слезы, но Вы не хлопотали о том, чтоб я не забывал Ваших глаз, оттого, конечно, никогда и не показывали слез.
Не подозревали Вы и того, что Вы едва успели миновать Тверь, а у меня в голове, неправда – в душе, созрел уже план прилагаемой при этом главы романа. Вы еще не огляделись в Москве, а план был уже набросан на бумагу, теперь переписывается и завтра посылается к Вам, – не того романа, который должен быть готов через полтора года во имя Ваше, а того, который начался в душе героя и бог весть когда кончится. Это одна из больных, жалких страниц романа: за что на Вас ляжет печальная обязанность читать ее? Дружба героя тяжела. Я даже в сомнении, посылать ли эту исповедь героя, довольно безобразную, как рана, которую человек решается показать другу только потому, что надеется возбудить ею не отвращение, а участие. У героини много власти – во взгляде, в голосе, в слове: за отсутствием двух первых благотворно может действовать последнее, и уже подействовало. Посылаю еще и потому, что Вас это может позабавить, заставить не раз улыбнуться, а местами Вы не без участия увидите, как мучительно герой допытывается узнать героиню до самой маленькой веснушки на лице, до крошечного пятнышка на совести, чтобы любить ее или без сомнений, или прояснить их и любить со всеми пятнышками и веснушками. Ужели Вы без любопытства посмотрите на эту борьбу, из которой ему выйти поможет только или забвение им героини, или ее горячее участие. Я тоже принимаю участие в герое: мне жаль его. Того участия, которого ему недоставало в жизни, он уж не найдет, и ему предстоит одинокая и печальная старость. Позади у него мало доброго: он увлекался иногда без пути и толку и часто страдал оттого, что чересчур добросовестно смотрел бог знает на что. Вот источник его сомнений.
Прежде нежели скажете что-нибудь о самом отрывке, не скажете ли, если можно поскорее, о том, что Вы его получили <…>
Записку Вашу я получил не в пятницу, 21-го, как Вы думали, а сегодня, 24-го; пришла она 22-го, но вчера и третьего дня по случаю праздников я не был на службе, и письмо ждало меня. Напрасно говорите, чтоб я не показывал ее, я не покажу ни второй, ни третьей, ни сотой, если она будет. Поступайте так и с моими письмами. За верный адрес благодарю, но верен ли он: прихода не означено. Мой адрес, как я вижу, Вы, по обыкновению своему, потеряли, да я бы и удивился, если б он уцелел, а на память Вы бог знает чего написали, много лишнего. Ни министерства, ни титула моего не нужно. Прилагаю особо на бумажке, как надо писать.
Пришла моя очередь удивляться и восхищаться Вашими записками. Грация ли Вашего ума или некоторая, редко проявляющаяся в Вас теплота чувства подкупают меня, только я не начитаюсь письма. Не избалуйтесь моим отзывом и пишите с тою же искренностию и простотой, с какой Вы вообще держите себя в отношении к друзьям Вашим.
Зачем это Вы уехали отсюда? Или бы Вы не приезжали, а если приехали, то не уезжали бы никогда <…>
Здесь началась обыкновенная жизнь, какая была до Вас: да что в ней? Никуда и ничего не хочется. Я уж уклонился от нескольких вечеров и обедов. Теперь вечер: я не выходил, пишу и не скучаю. Этого со мной давно, да, кажется, никогда, не случалось <…>
Что за погода: дождь льет, слякоть. Это, право, от того, что Вы уехали. Воспоминание о конфектах преследует меня до сих пор: ложный стыд появиться с коробочкой и навлечь несколько насмешек удержал меня от довольствия угодить Вам. Нет, видно, еще я мало люблю Вас. Теперь не могу мимо кондитерской равнодушно пройти. Как-нибудь постараюсь прислать – да как? С Кладбищевым не пошлю – съест… Это все Вы виноваты.
Дайте ручку, обе – и прощайте пока. Ваш верный, верный и преданный друг
Гончаров
Глупо письмо: где ж взять ума? Ведь Вас уж нет. При Вас у меня были какие-то крылья, которые отпали теперь.
14 ноября 1855 г. Петербург
Иван Гончаров – Елизавете Толстой
Вы ленивы, Вы рассеянны, Вы живете только под влиянием настоящего момента, не связывая его ни с прошедшим, ни с будущим, Вы – притворщица, Вы – только самолюбивы, и в привязанностях Ваших не лежит серьезного основания, т. е. теплого и сердечного, Вы… Вы… Вы… Ах, сколько бы исписал страниц, если б вздумал исчислять Ваши недостатки, сказал бы я, но скажу – достоинства, потому что они помогают Вам жить так покойно и гордо, так лениво, не лишают Вас сна и аппетита, сохраняют свежесть лица, блеск глаз и вечную власть над сердцами людей, которые имели несчастие с Вами встретиться.
Мы, напротив, мы, т. е. Ваши друзья, – не выпускаем Вас из вида, следим за Вами мысленно всюду, ездим по Москве, живем в деревне, ничто не затмит Вашего образа в нашей памяти, Вашего голоса в ушах, счастливы каждым ласковым словом и несчастны от Вашего забвения. Мы с болезненным нетерпением ждем строчки от Вас и держим наготове перо, чтобы высказать, и не сможем высказать во всей полноте и силе о том, как свежо и живо впечатление, оставленное Вами, как ничто не выживет из нас Вашего краткого появления, как отъезд Ваш только раздражает и усиливает желание видеть Вас, как Ваше место и воспоминание до сих пор не могут замениться никакими настоящими и будущими явлениями, наконец, мы не признаем, не хотим признавать счастьем ничего, что не – Вы! <…>
Скажите, достанет ли у Вас духу оспаривать мой девиз: que la plus sure des choses – est le doute[30]30
что самое несомненное – сомнение (фр.).
[Закрыть]? Сами посудите: от 24-го октября Вы получили мое большое письмо и обещали отвечать на него из деревни. Потом вслед за тем, конечно, прислали к Вам другое из Москвы, из дома г-жи Колошиной (куда я адресовал, не знавши, что Вы едете в деревню), наконец, в ответ на Ваш вопрос, самое милое из писем, посланное из Москвы, я через три дня, несмотря на каторжный недосуг, послал, уже по деревенскому адресу, четвертое письмо <…> – и вот с тех пор прошли тысячи столетий, лет, меньше, 15 дней. Но 15 дней!Разве это не тысяча лет, разве это не все равно? И Вам не пришло на ум – я уже не говорю – на сердце, взять на другой, на третий, наконец, на пятый день перо и сказать, я жива, здорова, помню Вас… Или Ваша правдивость мешает? Вы не любите лгать, я знаю, ну так напишите: «Я забыла о Вас, мне некогда, не до Вас, здесь есть также друзья, но лучше, милее, любезнее, свежее, приятнее и живее – и притом они налицо». А это для Вас главное. Если все не то, скажите: «Я нездорова (храни Вас Бог!), влюблена… (гм! гм!)… выхожу замуж (о ужас!), и потому мне не до друзей» <…> Почему же ужас? Потому что тогда Вас отнимут от нас навсегда, потому что всякая дружба, самая святая, самая вынутая просвира – все это утонет в всепоглощающих правах мужа, потому что… потому что – ах, мало ли почему! Но Вы молчите упорно, убийственно <…>
И что это за потребность говорить с Вами, которою я одержим? Как ее обуздать? Вы принимаете деятельные меры к тому, т. е. упорно молчите, и все не помогает: вот я говорю, и говорю с такой охотой, которая похожа на страсть. Я нигде и никогда так не говорил и не говорю. Иногда болтаю, даже спорю, ум ратоборствует, но только ум. Сердце не вовлекает меня в эти разговоры, спорю холодно, отстаю охотно. Отними у меня это право говорить с Вами – и мне многого будет недоставать; пропадет самая живая нить, парализует самый живой нерв, который так связывает меня с людьми, с обществом. Мудрено ли, что при предположении о Вашем замужестве я не могу защититься от ужаса, что вижу врага в будущем Вашем муже? Ведь он ни Вам, ни мне писать не позволит, этот изверг! <…>
Я вчера видел Вас во сне: я будто ждал Вас у Майковых. Вы не появлялись долго (почти так же долго, как однажды к обеду к ним: где Вы тогда были?.. не знаю, но угадываю), нетерпение мое возросло до болезни, наконец Вы явились, но где была Ваша красота? Вы были обезображены – и я все-таки был неимоверно счастлив, увидя Вас, как случилось бы и во сне. Но сам я был – представьте – без… всякого костюма, прикрывался какой-то простыней… Говорят – это значит несчастье: пусть, лишь бы не для Вас <…>
На днях один воротившийся из отпуска мой сослуживец вдруг сказал мне в Департаменте, что мне кланяется «M-lle Толстая». Можете себе представить эффект этих слов на меня. Оказалось, что этот поклон прислала (если он не лжет) Ваша миленькая кузина, с которой он ехал по железной дороге. Он, впрочем, знает и Вас, видал в Москве. Фамилия его – Левченко. Ведь он мог бы заехать в деревню, кажется, он знаком с тетушкой. «Счастливец! – думал я. – Зачем не я на его месте? Как бы это возможно взять отпуск на неделю, съездить и воротиться»… «А зачем? – вдруг является вопрос, – кому тебя нужно?» и т. д. Такие вопросы значительно охлаждают всякие порывы <…>
Да, скажите, Вы не сердитесь ли на меня, что много пустяков пишу? Или не сердятся ли на Вас, что Вы пишете? Скажите откровенно – я не буду, пожалуй, хотя… совсем не – хотя, а нехотя. Наконец – ответите ли хоть на это письмо? Скажете ли о причине молчания? Заняты ли кем-нибудь так, что недосуг, или нет ли речи о замужестве? Надеюсь, что Вы первому мне сообщите эту новость. Да что это я пристаю к Вам: велите мне замолчать. Да, я приказываю, говорите Вы: слушаю и молчу. Еще одно: если в письмах моих повеет хандрой, если говорится о намерении забыть Вас и Вашу дружбу – не верьте, а верьте, что альфа и омега моей хандры – и радости тоже – не скажу, кто и что. Прощайте <…>
Прощайте. Ах, увижу ли Вас когда-нибудь, где-нибудь! Прощайте или до свидания. Если с Вами никаких перемен нет и Вы не пишете только по гнусной лености и убийственному равнодушию к старым друзьям – то да простит Бог <…> А если просто – нельзя писать, не велят или не тянет к этому – и не пишите.
Да будет Вам стыдно – отрекаюсь от дружбы к Вам навсегда, если эти письма будет читать когда-нибудь и где-нибудь другой или другая, кроме Вас.
1 декабря 1855 г. Петербург
Иван Гончаров – Елизавете Толстой
Милостивая государыня Елизавета Васильевна,
Упорное молчание, конечно, есть верное средство к прекращению бесполезной переписки с бесполезными друзьями, но Вы, вероятно, предполагали, что после Вашего дружеского расположения и двух, трех ласковых писем к Вашим старым знакомым молчание это породит тьму вопросов, внушаемых участием: здорова ли она? Не уехала ли оттуда? Ленится? Рассердилась? и т. п. <…> Писать Вы, по-видимому, не расположены, даже в ответ на письмо Е.П.[31]31
Екатерина Павловна Майкова – писательница, жена Владимира Николаевича Майкова, возможный прообраз Ольги Ильинской в «Обломове» и Веры Бережковой в «Обрыве» Гончарова.
[Закрыть], посланное к Вам недели три назад. Я, однако ж, советовал подождать, полагая, что молчание Ваше происходит от какой-нибудь важной причины и что как скоро эта причина минует, нездоровье, например, то Вы и напишете. Неважные я все перебрал и не знаю, на какой остановиться: если б Вы уехали, то, конечно, дали бы знать, чтоб Вам не писали туда: этого требует самый обыкновенный и принятый порядок. Забыли, т. е. охладели к приятелям: это не помешало бы написать холодную страничку, для приличия, хоть затем, чтоб прикрыть забвение. Лень – не верю: можно лениться день, два, десять, но лениться пять недель, не отвечать на все теплые дружеские призывы – это лень, простирающаяся до степени варварства, преступления. Вы, верно, не захотели бы возбудить в приятелях весьма основательных и серьезных беспокойств насчет аккуратного получения их писем. Рассердились или оскорбились: да и тогда лучше же – отвечать с достоинством, чем с достоинством молчать, что показывает не совсем доброе сердце. Но кем и чем? Не больным ли моим приятелем, который доверчиво и болтливо поверял свою душу, все свои сомнения и противоречия, в которые беспрестанно впадал (признак страстей: не мало я издевался над ним!)? Или, может быть, за друга детства? Е.П. сказала просто «напишите ей, как он нашумел и чего наговорил у Левицкого». «Зачем?» – спросил он. «Затем, чтобы она знала, какой он». И только, а мой приятель развел это собственными рассуждениями, которых никому и в голову не приходило. Наконец, если б Вы нашли почему-нибудь неудобным для Вас переписываться, то и об этом бы дали, конечно, знать, чтоб не писали больше к Вам. Мне кажется, что приятель мой чуть ли не напугал Вас созданным его беспорядочным воображением фантомом, которого испугался и сам. А Вы так и приняли это за чистую монету и лишили его большого наслаждения. Да притом он только полагался на Ваше мнение, а Вы и замолчали. Не снимете ли этот обет молчания: Вам больше grace, т. е. грация, к лицу, нежели гордость, гнусный порок. Но что бы ни было, это не изменяет дела, факт остается тот же: Вы молчите.
23 декабря 1855 г. Петербург
Иван Гончаров – Елизавете Толстой
Наконец Вы, богиня Елизавета Васильевна, решились нарушить Ваше молчание и порадовали одного из смертных ласковым письмом. Благодарю Вас как за него, так и за дружеское и лестное для меня Ваше желание иметь мой портрет <…> Я бы отвечал по пунктам на Ваше милое письмо, но оно дома, а я в гостях у Старика и застал Старушку за письмом к Вам и выпросил у нее полстранички, она было обещала, а потом исписала весь листок и дала мне вот эту четвертушку. Я очень счастлив был уже и тем, когда увидел Ваше письмо к Майковым, следовательно узнал, что Вы здоровы, с каким же удовольствием получил сам Ваше письмо – можете представить. Вы спрашиваете меня о здоровье, о месте и что-то еще: кашель этот принадлежит моей комплекции и, вероятно, не пройдет никогда, но есть еще кое-что хуже кашля – это приливы крови к голове, особенно по ночам, когда так явственно подкрадывается ко мне апоплексический удар: все, что остается мне получить в жизни. Место – старшего цензора, т. е. русской цензуры – с тремя тысячами руб. жалования и с 10 000 хлопот. Но это еще должно состояться в январе, а если вакансии не откроются, то, может быть, и не состоится, тогда у меня есть план удалиться года на два на Волгу, к сестрам, и попробовать, могу ли я еще исполнить мои прежние литературные задачи, не все ли отнял холод жизни и бестолковое шатание по свету, – и если удастся, я умру покойно, исполнив свое дело, если нет – замучаюсь в скучных, жалких трудах.
До свидания, гордая, прекрасная богиня, дай бог Вам счастья в этом и в Новом Году и всю жизнь. Смею молить об одном, не забыть жалкого, скучающего смертного, больного, холодного, но все еще немного боготворящего Вас
И. Гончарова
28 декабря 1855 года (Санкт-Петербург)
Иван Гончаров – Елизавете Толстой
Вы теперь, вероятно, уже получили письмо от Старушки: я пришел к ней в то время, когда она начала его, и приписал в нем сам. Она не показала мне, что пишет, сказала только, что есть и обо мне: я довольно долго ничего хорошего не делал, и оттого интересного ничего она обо мне Вам и не сообщит. Несмотря на мою приписку, я не лишаюсь права писать обстоятельно в ответ на Ваше письмо. Какая разница между им и вторым, предыдущим Вашим письмом! Правда, между ними протекла целая вечность, или два месяца, что в иных случаях совершенно все равно. То письмо – дружеское, искреннее, носящее следы недавнего свидания, чуть не слез, по крайней мере говорящее о них, – это, напротив, пропитано ядом или ласково уязвляющей, сладкой насмешкой или холодной иронией, lettre mordante[32]32
Едкое письмо (фр.).
[Закрыть], с целью казаться дружеским. Вы колете мне глаза, – писано там, – уменьем держать слово – тем лучше для Вас (то есть это значит, а относительно Вас я об обещаниях и заботиться не думаю и не хочу). Далее. Болезнь и несносные посетители мешали писать, да и не о чем: деревенская жизнь монотонна, стало быть, я щадила Вас, лишая себя удовольствия беседовать с Вами (перевод верен). Еще: Вы снисходительны, и этому я обязана высочайшим удовольствием слушать Вас! – Предостережения и советы Ваши излишни. – Можно гордиться дружбою такого человека… – и не писать, забыли Вы прибавить. Почему ж нельзя? Можно даже и не гордиться, и не писать <…>Какое право я имел обнаруживать перед Вами весь беспорядок души моего лучшего друга, передавать Вам эти волнения, вопросы, сомнения, пугать Вас фантомами, предположениями, уцепиться за какую-нибудь сторону Ваших наклонностей, привычек, характера и анализировать их, когда Вы не признавали и не разделяли этих волнений и хаоса? Зачем, к чему? Вам было это, конечно, дико, надоело, Вы и замолчали, замкнувшись в Вашем непотрясаемом спокойствии. Одно немного может оправдать меня, это то, что все это делалось с целью не прерывать разговора с Вами, не терять Вас никогда и нигде из вида, не допускать лечь ни забвению, ни времени, ни расстоянию в этой дружеской связи, вызывать Вас на постоянную диалектику и, любуясь на портрете и в памяти Вашей наружной красотой, любоваться легкой грацией и остротою Вашего ума и мягкостью, ровным биением Вашего сердца – вот цели. Но у Вас подобных целей не было, и Вы со второго письма оборвали нить и обратили ее в едва осязаемый, невидимый волосок <…> Отчего Вы не сказали, сколько именно писем получено Вами: оттого ли, что казалось Вам неловко, показав счетом пять или шесть писем, отвечать на них полутора страничками, или оттого, что, может быть, Вы не получили которого-нибудь, писанного в Москву, например? Вы очень искусно намекнули на каждое из писем, кроме московского: получено ли и оно?
31 декабря 1855 – 2 января 1856. Петербург
Иван Гончаров – Елизавете Толстой
Вот уже несколько дней, как у меня лежит готовое и не посланное письмо к Вам: отчего не посланное? И сам не знаю: частию оттого, что оно чересчур откровенно написано, частию гордость, возмущенная Вашею ленью и небрежностью, удерживали меня и, может быть, удержали бы совсем, если б память сердца, благодарного за несколько проведенных Вами здесь недель, за несколько приятных часов и, наконец, счастливых (не для Вас) минут, не заговорила сильнее всякой гордости и самолюбия: видите, как я прост и откровенен! И вот я посылаю, но только половину письма, остальную оставлю у себя и, вероятно, уничтожу, выбрав, что нужно, сюда. Письмо слишком длинно: из него Вы никакого практического смысла, ни истины не извлечете, разве только можете сделать один безошибочный логический вывод, что длинное письмо, написанное при моем недосуге, – есть… длинное письмо <…>
Впрочем оно было очень здравое и приличное письмо, да оно и не может быть иначе: «лучшего моего друга»[33]33
Гончаров послал Елизавете Толстой целую серию писем – вымышленный «роман» под условным названием «Pour et contre» («За и против»). В нем от третьего лица, своего «лучшего друга», он рассказал о своей любви, о своих душевных муках. Это – беспредельные по откровенности признания в любви, но в них псевдобиографический резонер все же развенчивает позицию романически влюбленного в Толстую персонажа. По сути же, Гончаров в этом тексте задавал Елизавете Толстой вопросы об их совместном будущем. И, несмотря на упорство «лучшего друга» писателя, безупречная логика резонера убеждала его отказаться от всяких надежд на взаимность.
[Закрыть] уже больше нет, он не существует, он пропал, испарился, рассыпался прахом. Остаюсь один я, с своей апатией, или хандрой, с болью в печени, без «дара слова», следовательно, пугать и тревожить Вас бредом некому. Он, улетучиваясь, говорил мне при последнем издыхании Вашими словами: «Tout va pour le mieux[34]34
Все к лучшему (фр.).
[Закрыть]: хорошо, что она уехала, хорошо, что и не писала так долго: tout, tout est pour le mieux[35]35
Все, все к лучшему (фр.).
[Закрыть]». Он даже избегал смотреть на портреты, не читал <…> чтоб не расшевеливать воспоминаний, и так мирно угас, как он говорит, для вдохновенья, для слез, для жизни и т. д. (У него был дар слова.) Но бог с ним: он надоел мне, а Вам, я думаю, вдвое.
25 января 1857 года практически мыслящая Елизавета Васильевна Толстая вышла замуж за другого – за своего кузена, представителя древнего дворянского рода Александра Илларионовича Мусина-Пушкина. Для Гончарова это стало ударом, но он благословил Елизавету на этот брак. Он написал: «А теперь прощайте <…> мой чудесный друг, моя милая, умная, добрая, обворожительная… Лиза!!! Вдруг сорвалось с языка. Я с ужасом оглядываюсь, нет ли кого кругом, и почтительно прибавляю: прощайте, Елизавета Вас[ильевна]. Бог да благословит Вас счастьем, какого Вы заслуживаете. Я в умилении сердца благодарю Вас за Вашу дружбу, которая греет меня, старика».
Долгие годы верным другом Гончарова, умеющим выслушать и понять, была Юлия Дмитриевна Ефремова, родственница его друзей Майковых. Между ними регулярно велась переписка, Гончаров доверял ей свои самые сокровенные мысли и всегда находил душевный отклик.
25 октября (6 ноября) 1847 года (Санкт-Петербург)
Иван Гончаров – Юлии Ефремовой
Долго намеревался я медлить ответом на Ваше письмо, Юлия Дмитриевна, в отмщение (если это только отмщение) за продолжительное молчание. Но сегодня получил огромную работу по службе и сегодня же прощаюсь с своею ленью и свободой по крайней мере на месяц. Молчать еще месяц – это значило бы слишком далеко простирать свое мщение: да за что же наказывать и себя? Итак, мои последние свободные минуты принадлежат Вам, и я нахожу, что лучше употребить их нельзя. Смотрите, сколько комплиментов в одном только вступлении! О, я знаю, что Вы любите. Присовокупляю еще один: я любовался Вашими письмами, и особенно последним, вот этим, на которое отвечаю, но чем любовался? Нежностью и легкостью пера, что ли, или чувствительностию, которая сквозит даже в обыкновенных фразах и всегда обличает женщину, или, наконец, игривою и кокетливою болтовнею: вовсе нет! А любовался я Вашим навыком писать письма, Вашею дипломатическою манерою, потом господствующею в них консеквентностью[36]36
Последовательность в понятиях и поступках.
[Закрыть] и степенностью. Право, так: не сочтите этого, ради бога, за насмешку. Так и представляю Вас себе с пером в руке за этими письмами, с задумчивою миною, немигающими глазами, сидящею прямо (отчасти и по причине тесной шнуровки: станете ли Вы делать такое важное дело в парессезке[37]37
В мягком корсете (от фр. paresseux – ленивая).
[Закрыть]?), словом, воображаю Вас в каком-то строгом чине, пишущею к бесчисленным, разбросанным по всей России тетушкам, бабушкам, в том числе еще и к Ивану Александровичу. При такой практике по тетушкам и бабушкам как и не приобресть навыка! А Вы еще скромничали – как писать. Впрочем, среди этих стройных и строгих фраз есть одна, которая много смягчает серьезный тон письма: она уверяет, что Вы «не забываете друзей», а самолюбие внушает мне смелость принять это отчасти и на свой счет <…>Лучшее место, однако ж, Вашего письма есть то, где Вы обещаете приехать в декабре. Но зачем так долго! Нельзя ли в ноябре? По крайней мере, сдержите слово хоть в декабре. Я как отъявленный эгоист не стыжусь признаться, для чего я очень усердно желаю этого. У меня, за отъездом Вашим, один вечер пропадает совсем; как он настанет, то есть такой вечер, когда я, по моему предположению, был бы у Вас на креслах у окна или на маленьком диване, курить папироску и то спорить с Вами и сердить Вас, то тревожить Вас и даже нагонять на Вас минутную тоску преподаванием своей печальной теории жизни – и вдруг этого ничего нет! Как я ни старался забыть эти вечера и делать в то время что-нибудь другое – невозможно. Я и играл, и читал, и ходил к так называемым друзьям, прибегал даже к решительным мерам, как то – к крепким напиткам, – нет, один вечер остался незаменим в неделю (вот уж, кажется, пятый комплимент в письме, и какой комплимент: почти весь построен на правде, а если и есть ложь, так разве самая малость). Приезжайте же поскорее <…>
На вопрос Ваш, что делается в литературном мире, – ответ немудреный, то есть все то же: капля меду и бочка дегтю. Мы ожидаем теперь много хорошего от Белинского: он воротился здоровее и бодрее – только надолго ли, бог весть. Но ведь и прогулки за границу, между прочим в Париж, много помогли ему. Он уж что-то пишет к следующей книжке.
Благодарю Вас за участие к моим трудам. И тут утешительного нечего сказать. Нового ничего нет, да сомневаюсь, и будет ли. Есть известный Вам небольшой рассказ, довольно вздорный: он появится в январской книжке. А теперь он пока у меня, я перечитываю его, кажется в шестой раз, и все никак не могу истребить восклицательных знаков, наставленных переписчиком, черт знает зачем. Мараю, мараю, где-нибудь да останется. Вот чем пока ограничивается моя литературная деятельность. А то хожу, повеся нос, что не мешает мне, однако же, исправно кушать и почивать, ношу с собой везде томящую меня скуку ко всякому труду, особенно литературному, чувствую холод, близкий к отвращению, и только вот в эту минуту, то есть за этим письмом, тружусь с особенным удовольствием, не знаю почему (шестой комплимент и уж этот весь чистая правда, иначе письмо не было бы так длинно). Вы говорите, что у нас талантливые люди пишут мало, а бездарные много; и Белинский точь-в-точь этими словами твердит то же самое, а талантливым людям все неймется: не пишут, бестии! Я тоже немало ругаю их <…>
Надеюсь получить от Вас хоть одно письмо до Вашего приезда; если нет – буду и я взаимно молчать. Я плачу взаимностью во всем, начиная с любви до переписки: знайте же об этом наперед, если захотите влюбиться в меня или если будете продолжать переписываться. Прощайте – или лучше до следующего письма и до личного свидания. Остаюсь все тот же, неизменно холодный, скучный и дружески почтительный
Гончаров
29 июля (9 августа) 1857 г. Мариенбад
Иван Гончаров – Юлии Ефремовой
Вот уж шестая неделя, несравненный друг мой Юлия Дмитриевна, как я живу в Мариенбаде и собираюсь уехать только в воскресенье дальше, куда-нибудь, мне все равно. Я вспоминаю о Вас беспрестанно, и скажу почему. Но прежде скажу о своем здоровье и о леченье. Каждое утро встаю я в половине шестого и в седьмом часу являюсь к источнику пить от трех до четырех больших кружек воды и хожу два, а иногда два с половиной и даже до трех часов. Обедают в Мариенбаде в час, самые поздние – в два, а я в четыре: не могу следовать общему правилу; кусок в горло нейдет; да притом перед обедом я беру – один день ванны из грязи, другой из минеральной воды, все от печени. Грязь так черна, как деготь, и так густа, что с некоторым усилием надо продавить в ней себе место, чтоб сесть: опускаешься точно в болото. Зато тепло, 27 градусов, и притом она немного щиплет кожу. Напротив ванны стоит зеркало: я, вылезая оттуда, всякий раз посмотрю на себя и не налюбуюсь, потом займусь вытаскиванием комков, прутиков и мелких камешков, которые набьются везде, да и сидя в ванне, занимаюсь вытаскиванием из-под себя всякой дряни, то есть камней и щепочек. Рядом тут же стоит теплая ванна с водой: я перехожу в нее и опять делаюсь чист, бел и прекрасен, как Вы меня знаете <…> Обедаю я четыре блюда: пять ложек супу, баранью или телячью крошечную немецкую котлетку и полцыпленка, и самого тощего, как будто и он пил мариенбадскую воду. Вина я здесь не видал и ни разу не вспомнил о нем, о водке никто в Мариенбаде не слыхивал, фрукты и салат строжайше запрещены, как и всякая сырая зелень. Но кофе и чай позволены, кому что нравится. В 10 часов весь Мариенбад уже спит, и – подивитесь – я тоже, да ведь как: на днях была жесточайшая гроза, перебудившая всех, а я не слыхал. По-видимому, все бы это должно было помочь, и помогает, я это чувствую. Припадков желудочных нет, желтых пятен на лице тоже, живешь на чистом воздухе: у меня перед окнами парк и горы с лесами <…> И при всем том леченье мое едва ли удастся. Угадайте, отчего? Оттого, что ежедневно по возвращении с утренней прогулки, то есть с 10 часов до трех, я не встаю со стула, сижу и пишу… почти до обморока. Встаю из-за работы бледный, едва от усталости шевелю рукой… следовательно, что лечу утром, то разрушаю опять днем, зато вечером бегаю и исправляю утренний грех. А вспоминаю Вас часто, потому что – помните – как Вы на весь мир трещали, что я поеду, напишу роман, ворочусь здоровый, веселый – etc. etc. Как мне было досадно тогда на Вас: какими пустяками казалось Ваше пророчество. «Здоров, напишу роман: какая бестолковая, – думал я, – разве это возможно, разве не прошло это все, и здоровье и романы!» И что же: Вы чуть не правы! Да как Вы смеете быть правой, как Вы позволили себе предсказывать то, в чем я не только сомневался, но и отчаивался? Помню еще, как на прощанье Вы робко и торопливо перекрестили меня, но, видно, от чистого сердца, и, конечно, очень искренно, от всей полноты дружбы пожелали мне покоя, веселья и опять-таки – писанья. Представьте же, мой друг, что все это вполовину, нет, больше нежели вполовину, уже исполнилось, и я ставлю себе в долг прежде всего сказать об этом Вам. Да что Вы, молитесь, что ли, за меня, продолжаете желать так же искренно, как и при отъезде? Видно, так. Так слушайте же: я приехал сюда 21 июня нашего стиля, а сегодня 29 июля, у меня закончена первая часть Обломова, написана вся вторая часть и довольно много третьей, так что лес уже редеет, и я вижу вдали… конец. Странно покажется, что в месяц мог быть написан почти весь роман: не только странно, даже невозможно, но надо вспомнить, что он созрел у меня в голове в течение многих лет и что мне оставалось почти только записать его; во-вторых, он еще не весь, в-третьих, он требует значительной выработки, в-четвертых, наконец, может быть, я написал кучу вздору, который только годится бросить в огонь. Авось бог даст, годится на что-нибудь и другое, погожу бросать. Я бы охотно остался месяц еще здесь, потому что дальше, знаю, мне не удастся уже заняться писаньем; но не остаюсь потому, что недописанное нетрудно будет, несмотря на занятия, докончить и в Петербурге <…>
Вот о чем я хотел известить Вас первую, зная, что Вам весело будет от этого, вот отчего вспоминаю «о бестолковой предсказательнице» с удовольствием, нужды нет, если б даже из этого ничего не вышло, все-таки месяц я был раздражен, занят и не чувствовал скуки, не замечал времени <…>
В память удачного предсказания я послал Вам, милая моя Кассандра, две крошечные фарфоровые вазочки с живописью с богемских фабрик – для цветов. Это не подарок, потому что – для подарка – слабо, но в память Вашего дружеского провожанья. Их привезет Александра Михайловна Яковлева (вдова купца), премилая, преобразованная, без претензий и без кокетства женщина, за которой я не волочился, а между тем не скучал, видясь ежедневно у источника и на прогулках. Это чуть ли не в первый раз случилось со мной – не скучать с женщиной без волокитства, и если случилось, так, право, не по моей, а по ее воле: она нисколько не кокетка и нравиться не желает <…>
Теперь Вы мне не пишите, потому что я не знаю, куда поеду и где остановлюсь: посмотрю, что лакеи скажут.
Что, если б доктор Франкль узнал, что я и вечером сегодня пишу это письмо? Он уж и за утро ворчит на меня! У меня щека болит от сырости, вчера простудился да еще шмель укусил мне палец, боюсь, как бы завтра писать не помешал: этого нынче пуще всего боюсь.
Прощайте, милый друг, не показывайте моих безобразных писем никому <…>
Ваш другИ. Гончаров
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































