Текст книги "Письма о любви"
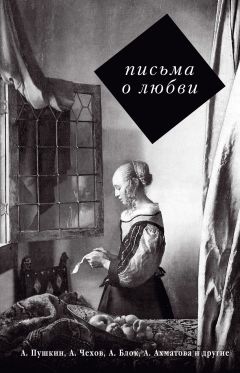
Автор книги: Сергей Нечаев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
11 июня 1906 г. Лидино
Нина Петровская – Валерию Брюсову
Я уже много раз предчувствовала, что возникнет этот разговор, но не боюсь его, а рада сказать тебе о себе все, что есть и что знаю. Только верь в правдивость моих слов. Я никогда уже больше не буду лгать тебе. Начну с того же, с твоей последней книги, хотя говорить об этом мне тяжело и теперь. Помнишь ты себя в прошлом году? Я только после узнала, что больше мне не увидать тебя таким. Но ведь в Финляндии я ничего не знала и не поверила бы, что все изменится так быстро, почти внезапно. Ты говорил: «всё»… Ты упорно повторял: «всё, я весь, вся жизнь». И когда мне стала дорога твоя любовь, слова эти зазвучали как музыка. Я поверила в них, и в тебя, и в свою любовь. Тогда же, может быть бессознательно, почувствовала, что прошлое, все, что замыкалось этим годом, ушло навсегда. Мы вступали в новое, и хотя будущее казалось мне лучезарнее прошлого, вдруг захотелось, так страстно захотелось отметить его каким-то знаком здесь, чтоб осталась об нем вечная память. Я попросила тебя[70]70
Посвятить ей книгу стихов.
[Закрыть]… Это даже была и не просьба, а нежный отклик на твои же слова. Это было первое желанье, обращенное лично к тебе, первая гордая мечта о твоей любви. И ты отказал. Я не помню в моей жизни такой смертельной убивающей обиды. В те дни, когда после года, тяжелее всех лет в моей жизни, я почувствовала себя живой и воскресшей, когда мне показалось, что наконец сбылась моя последняя тайная мечта о любви, – ты же, ты, Валерий, сказал мне «нет»… А я ведь действительно подумала, что предо мной беспредельность. Пойми, мне было больно видеть твою книгу, страшно касаться к ней, невыносимо слышать о ней. Она казалась мне живым воплощением самой горькой обиды. Я сказала, что никогда не прочту ее. Вначале я действительно не могла заставить себя взять ее в руки, а после, когда притупилась и стихла обида и я увидала, что это тебе тоже больно, – хотелось боли за боль. Я знала больше половины ее раньше. Любила ли ее, как прежние? Ах, можно ли так спрашивать? Те стихи были частью моей души, воплощением ее в строках, страницей жизни самой страшной, горестной и дорогой. Ты говоришь: «Ты не стала читать моей книги». Ты поверил, что я могу не прочесть, и верил до этого дня! Валерий, я читала ее всю, всю в апреле, на Пасхе. Читала с тайной болью, с горьким упоеньем, с большей любовью к тебе, к твоим стихам, чем в прежние годы. И не хотела и не могла сказать тебе. Мы были очень замучены в эти дни. Где мы были? Что могли сказать друг другу?!И дальше: – в начале этой осени; – ты или я – не знаю, уж не разберусь теперь, – но кто-то взял неверную ноту. Вместо радости начались мучительства, мы катились неудержимо, как по рельсам, всё дальше, всё вглубь. Обижали взаимно. Ты обижал жестоко, задевал самое хрупкое, самое нежное, – и я… о, конечно, и я!.. Твои новые стихи, рассказы, статьи, – я подходила к ним заранее враждебная. Душа твоя казалась далекой, холодной, далекими стали казаться они, потому что они – твоя душа. Но ведь те дни омраченья, запутанности, слепоты миновали для меня. Ты не веришь! не веришь! <…>
Вт<орник>, 13 фев<раля> 1907 г. Москва
Нина Петровская – Валерию Брюсову
<…> Ты считал меня жестокой, требовательной, осуждал, негодовал. Может быть, был прав и ты, может быть, и я, – об этом больше не надо говорить. Но посмотри, куда все ушло, где всё? И только от твоих ласковых слов, от нежных глаз, от того, что однажды пришел ты таким, какого мучительно и напрасно ждала я долго, долго. Не понимая, должно быть, где сущность, я говорила все не о том, мучила тебя и себя. А ведь просто-то как! Все только в твоей душе, а не в «ней» и ни в чем внешнем, и не может она ни помешать, ни коснуться нас, потому что все соединившее нас ей неведомо и чуждо, как жителю иной планеты. Когда я буду видеть тебя всегда близкого, всегда родного с моими нежными глазами, – что я могу спросить с тебя, чего требовать?.. Ты сам не захочешь ни мучить, ни обижать. Я просто доверюсь тебе, всей душой, всей жизнью. Ты веришь, Валерий? Правда, что настал миг последнего выбора, последнего окончательного решения. Рассеялись тучи, что долго-долго закрывали голубое небо и солнце. Разве захочется уйти теперь? Куда? Зачем? Нам так хорошо… И я покорно и с последней светлой нежностью говорю – навсегда. Скажи и ты, и ты! Скажи еще раз. Не бойся меня, я стала совсем хорошая, – это не слова. Правда. Будем еще ближе. Будем говорить все, без боязни. Страх создает ложь. Не надо больше лжи, ни твоей, ни моей. Люблю тебя, мой милый, ласковый зверочек, хочу тебя, твоей близости, твоих ласк с неизменной влюбленностью, точно каждая встреча – первая. Выздоравливай. Как хорошо мы встретимся, как много, много я буду целовать тебя. И ты… Будем? Ты захочешь? Но не выходи, пока не поправишься совсем, ты хрупкий, как маленький ребенок. Не думай обо мне ничего, ничего дурного. Я живу тихо, одиноко, только с тобой. Пиши, так радуюсь на твои письма…
Среда, 25 июля 1907 г. Москва
Валерий Брюсов – Нине Петровской
<…> Не слишком ли мы всё узнали, не слишком ли всё проанализировали! Ах, трудно сочетать анализ с живым чувством, – хотя такое сочетание и будет венцом человеческой души!
<…> Ты представляешься мне медиком у постели больного, а больной этот – наши отношения (не хочу сказать наша любовь!). Неустанно Ты ставишь один диагноз за другим, все более и более точно определяя болезнь. Всматриваешься, вдумываешься во все симптомы и все поправляешь себя. А больной в это время умирает, ему нужны лекарства, сейчас, немедленно, а Ты, боясь ошибиться, только размышляешь над ним <…>
…дорого мне и рад я, что берешь Ты назад иные свои обвинения, которые были очень несправедливы и очень жестоки. Только вот в чем дело: не важно сейчас, совсем Ты права, или не совсем, или совсем не права. Не рассуждать нам должно сейчас, а что-то делать. Не определять болезнь, а лечить ее!
Нина, дорогая, хорошая, милая! Еще и еще раз обращаю к Тебе все те же рассуждения. Есть две аксиомы. Первая: «Мы должны быть вместе». Вторая: «Мы таковы, каковы мы». Конечно, если одна из них не истинна, нечего и говорить дальше. Но если истинны обе, надо найти средний путь, ведущий между ними. Надо сделать так, чтобы каждый из нас, оставаясь самим собою, мог быть с другим. Требовать, чтобы переменились чувства, чтобы изменилась душа, – безумие. Больше я от Тебя ничего такого не спрошу, и Ты не спрашивай такого от меня. Но неужели для тех нас, каковы мы теперь, нет единения, нет путей вместе, не рядом только, но действительно вместе!
Нина, Ниночка! я очень Тебя люблю, я очень хочу быть с Тобой, – не так, как последнее время, но близко, близко, тесно, слитно душой, как телом. И наперекор всем тучам, закрывшим весь наш небосклон, все еще, безумно, верю я и в солнце, и в ясный день. Сделай шаг ко мне, не уходи прочь, не отрекайся от меня, а я протягиваю руки к Тебе – всегда.
Скучаю без Тебя, Нинка, в Москве, без Твоего голоса, без Твоего лица, без Твоих губ.
В 1907 году в журнале «Весы» был опубликован роман Брюсова «Огненный ангел», в основу которого легла искаженная история его взаимоотношений с Ниной Петровской и Андреем Белым.
Он посвятил эту книгу Нине и в посвящении назвал ее «много любившей и от любви погибшей». Однако сам он погибать не хотел. «Исчерпав сюжет» как в литературном, так и в житейском смысле, он захотел отстраниться, вернуться к домашнему уюту, к своим любимым пирогам с морковью, заботливо приготовленным Иоанной (Жанной) Матвеевной Брюсовой. А дальше – больше: желание порвать навсегда с постоянно перевозбужденной Ниной он стал высказывать с каким-то даже нарочитым бездушием.
Их отношения длились несколько лет, и они были известны всей литературно-художественной Москве. Для Нины Петровской эти отношения были одновременно и сладкими, и мучительными. Ведь у нее появилась новая обязанность – соответствовать творчеству Брюсова. Он написал роман, а она… жила в романе. Брюсов списал свою героиню с Нины, а Петровская – подстраивалась под девушку из книги. Брюсов вывел ее в романе под именем Ренаты, и тут же появилась «настоящая» Рената: романтическая, противоречивая, экзальтированная и решительная. Нина очень скоро вошла в роль героини романа и играла эту роль вполне серьезно.
31 декабря 1908/13 января 1909 г. Москва
Валерий Брюсов – Нине Петровской
<…> Скажу прямо и просто. Я всегда думал, что Твоя жизнь за границей будет лишь временной, что жить Ты вернешься в Россию. По глубокому моему убеждению, жить русскому человеку, а особенно русскому писателю, возможно только в России. Россия нам нужна как наша стихия: вне ее мы временно дышим даже бодрее, словно в атмосфере, где более кислороду, но потом задыхаемся и жаждем вернуться в родной воздух. Вспомни последние годы Тургенева и его томления вне России. Прочти последнюю книгу Бальмонта (которую я Тебе посылаю), и особенно его поэму «В белой стране». Ты увидишь, поймешь, что значит быть без России, без той России, которую все мы клянем и клеймим последними словами. Я всегда думал, что Ты в Россию вернешься.
Но я всегда думал и думаю до сих пор, что эти месяцы, проведенные нами в разлуке, не будут потеряны. Что до меня, я чувствую, что за эти месяцы многое в моей душе успокоилось и прояснилось. (О, как бы мне хотелось, чтобы и Ты могла сказать это об себе!) Я чувствую, как в моей душе моя любовь к Тебе из дикого пламени, мечущегося под ветром, то взлетающего яростным языком, то почти угасающего в золе, стала ровным и ясным светом, который не угасит никакой вихрь, ибо он не подвластен никаким стихиям, никаким случайностям. Я чувствую в себе твердое и бодрое желание быть с Тобой, Тебя любить, заботиться о Тебе, сколько это в моих силах. Я чувствую, что эта необходимость быть в жизни с Тобой стала для меня столь осязательной, столь непобедимой, что во имя ее стало для меня доступно многое такое, что раньше казалось недоступным. <…>
…разве эти месяцы разлуки не доказали Тебе (здесь я уже говорю только о Тебе), не доказали Тебе, что моя любовь к Тебе – истинная, что никогда не лгал я Тебе, говоря: «Люблю». Если только Тебе нужна моя любовь, теперь Ты можешь ее брать без колебаний, в уверенности, что не ошибешься, что не возьмешь змеи вместо рыбы. И если что-либо в моей любви кажется Тебе, казалось странным, теперь это не заставит Тебя усомниться в существе самой любви, а лишь придаст ей тот или иной оттенок. Мне кажется, что я испытание, поставленное нам, вынес с достоинством, что я своей души и моей любви к Тебе не унизил ни изменой, ни коварством. Мне кажется, что этими месяцами, всей моей жизнью в эти дни, всеми моими письмами, этим письмом, наконец, доказал, что люблю Тебя.
Но если все это так, то где же должны мы жить? Мы должны жить близко один от другого, чтобы встречаться часто, чтобы проводить время вдвоем, чтобы быть вместе. Ты права совершенно, говоря, что быть вместе «душой, чувствами» – лишь пустые слова. Жизнь вместе возможна лишь при реальной близости. Вряд ли осуществимо это, если Ты будешь жить за границей (оставляя в стороне те соображения, какие я выставил раньше), а я в России. В лучшем случае я приезжал бы к Тебе в год на 2–3 месяца. Этого слишком мало. Это разрушило бы нашу связь. Вот почему я думаю, что Тебе жить надо там же, где живу я, или в том же городе, где я, или совсем близко. Говоря о том положении вещей, какое существует сейчас: или в Москве, или в Петербурге.
Но, разумеется, все это имеет смысл лишь при ряде «если». Если Ты еще любишь меня… Если Ты еще хочешь быть со мной… Если эти месяцы доказали Тебе, что нам быть вместе необходимо… Если Ты теперь отбрасываешь как неважные иные из тех затруднений, которые Тебе казались прежде неодолимыми… Если… Если… Если… <…>
Нина, дорогая, подумай о моих словах. Дополни, договори все, что я не мог досказать на этих 8 страницах. Доскажи слова, оставшиеся между строк, обещания, только намеченные в беглых фразах. Будь щедрой от моего имени, потому что я сказал много меньше, чем хотел. Верь всему, каждому слову, потому что ничего не написал я без глубокой веры в свои слова и во многих случаях должен был бы сказать сильнее, решительнее, но не сумел.
Обдумав, взвесив, ответь мне, что Ты выбираешь: эту жизнь со мной или жизнь без меня. Я не стану спорить. Я так во многом перед Тобой виноват, что не смею спорить. Я приму Твое решение как приговор, на который нет апелляции… Я склоню голову под Твои слова, как под топор.
И от Твоего решения этого главного, этого конечного вопроса нашей жизни будут зависеть все наши дальнейшие поступки, и прежде всего – нужно ли нам встречаться в Петербурге, этой весной, в феврале. – Пока, по старому праву, целую Тебя любовно и ласково…
Однако развязка отношений в романе оказалась совсем не такой, как в жизни. Ренату Брюсов решил убить, и он ее убил. А Нина принялась отчаянно флиртовать с завсегдатаями литературных салонов, чтобы спровоцировать ревность Брюсова. А еще она стала сильно пить и пристрастилась к морфию. В 1909 году она даже чуть не умерла от передозировки.
В 1911 году Нина навсегда уехала за границу. Ее сжигало чувство ревности к творчеству Брюсова, сознание своего бессилия как-то воздействовать на любимого. Она так и не поняла, как можно клясться в любви женщине и при этом признавать, что еще в большей мере поклоняешься совсем другому божеству.
А для Брюсова любовь превратилась в перегоревшую страсть. По сути, он просто охладел, устал от таких отношений, и ему захотелось, как он говорил, «уйти куда-либо в пустыню». Но он старался успокоить Нину, осторожно готовил ее к расставанию, ибо опасался резкого разрыва, прекрасно зная ее болезненную душевную взвинченность, делавшую ее способной на все.
Вначале Нина жила в Италии, потом – во Франции. Оттуда она продолжала писать Брюсову самозабвенные письма, по-прежнему полные любовных излияний и больше похожие на крики истязуемой. Но при этом она претенциозно подписывала их: «Твоя бывшая Рената».
11 февраля 1911 г. Москва
Нина Петровская – Валерию Брюсову
Очень прошу тебя прочесть до конца
со всеми приписками
11 февраля 1911
Милый Валерий,
теперь уже действительно все между нами кончилось, и у тебя не должно быть сомнений. Ты сделал мне признанье, первое настоящее искреннее признанье, которое наконец объяснило мне все мои недоумения за семь лет жизни с тобой, которое осветило ярким светом те события и факты, что ты много раз пытался называть разными именами, всеми именами, кроме настоящего. Не знаю, зачем ты долго таил от меня эту единственную истину твоего ко мне отношения. Если бы ты сказал мне так прямо, как сказал наконец, то, верь, меня давно уже не было бы в твоей жизни, и не было бы у тебя тех неприятностей и мучений, которые связывались со мной. Я сейчас хочу только проститься с тобой. Проститься печально и ясно, чтобы изгладилось в твоей памяти впечатление кощунственных слов моих последней встречи. Пойми, Валерий, это состояние души, эту боль, которая ослепляет все чувства и исторгает против воли безумный стон или крик. Ты знаешь хорошо «лики любви» и знаешь, что иногда проклятье равно самой нежнейшей ласке. И еще хочу я, Валерий, чтобы, прощаясь со мной навсегда, ты понял меня так же глубоко, как наконец поняла твои чувства я. Ты связан с той женщиной инстинктивным, темным, стихийным чувством. Я такое чувство называю любовью; особенно наблюдая его семь лет во всех реальных проявлениях, я пришла к выводу, что для тебя – это самая настоящая любовь и во всей полноте ее, на какую ты только способен. И рядом с признанием в любви и неизъяснимой привязанности к ней ты сказал совсем просто, что меня не любишь совсем, что ко мне у тебя чувство, которое можно назвать как угодно, только не любовью в обычном человеческом значении этого слова. Ни нежности, ни близости, ни слияния личных интересов, ни влечения, ни желания видеть (как близкую), ни одного элемента того, что я называю любовью, у тебя ко мне нет. «Я бы желал, – сказал ты, – жить как я хочу, своей жизнью, с женой или без нее – все равно, быть где я хочу, ездить куда хочу, и если я пожелаю тебя видеть, прийти к тебе, чтобы говорить о том, о чем мы можем говорить». Так ты сказал <…>
Я понимаю, Валерий, что можно женщину разлюбить или не любить вовсе и уйти, – это просто, естественно, честно. Но неужели ты сам не понимаешь, как чудовищно, как неслыханно жестоко твое предложение мне подобных «отношений». Или ты не знаешь, как я тебя любила, или ты забываешь, что и у меня есть живая душа, которая так же способна страдать, так же чувствительна к обиде, так же хочет ласки, близости, нежности, тепла, как и ее душа, в которой ты все это признаешь? Что предлагал ты мне? Нечеловеческие отношения, отношения, уже невозможные между нами, потому что я-то тебя люблю, и все, что ты у меня отнял для другой, стало причиной вечной, неутихающей боли. Тебе, который любит другую и у которого эта простая потребность радости сближения с кем-то родным и милым удовлетворена вполне, конечно, нетрудно было бы иногда приходить ко мне «поболтать», прочесть стихи, рассказать о новой книжке… Но мне… как могу я с вечной тоской по тебе, с вечным острым голодом в сердце равнодушно встречать тебя, радостно видеть тебя, соединенного с другой, отдавшего все, чего я так страстно хотела от тебя семь лет, – другой… Видеть тебя в моей жизни случайным гостем и знать, что жизнь твоя устроена с другой женщиной. Знать всегда, что у меня ты гость, а там муж, любовник, хозяин дома… Довольствоваться ничтожной подачкой, что падает с ее стола, знать всегда, что «там» ты отрекаешься от меня, готов каждую минуту отказаться от меня, лишь бы избавить ее от минуты огорченья, всегда, всегда жить со взором, прикованным к вашей тайной для меня жизни, видеть вас вместе утром, вечером, за столом, за книгой, в постели, – близких, родных, любящих… и жить от встречи до встречи в пустоте, в холоде, в одиночестве, с вечной неисцелимой завистью, с нестерпимой мукой ревности, обиды, униженности, сознания, что я для тебя ничто, а она – близкая, милая, жена… Возможно ли это! Подумай, подумай, Валерий, кто согласился бы сказать себе: «Хорошо, я принимаю это, я соглашаюсь со всем, и отныне моя жизнь будет такой»… Все чувства – и человеческие, и женские – были бы поруганы этой жизнью. И пойми, она была бы возможна лишь тогда, если бы и я любила тебя столько же или, лучше сказать: не любила бы тебя так же, как ты меня. Ты мне предлагал ту форму отношений, что у меня уже есть с Сережей. Но ведь пойми, – Сережу я разлюбила давно, и Л.Д.[71]71
Л.Д. – Лидия Дмитриевна Рындина (в первом браке – Брылкина, а во втором браке – Соколова). Эта актриса вышла замуж за С. А. Соколова (Кречетова), и в 1919 году они покинули Россию.
[Закрыть] не отняла у меня в нем ни мужа, ни любовника. С Сережей мне бывать так легко, потому что ничего другого, ничего того, что он отдает Л.Д., мне не нужно. И только поэтому создались эти «идеальные отношения» мои с ним. Но ведь во всякой более или менее молодой и способной любить душе совершенно понятна потребность в иных чувствах, и вот тому пример: ни Сережа, ни ты, – Вы не удовлетворяетесь «идеальными» отношениями со мной и имеете иное. Так почему же я, почему я должна, задушив в себе живую простую человеческую любовь, довольствоваться этой бескровной, безжизненной, замороженной дружбой? И как могу я это, если душа полна воспоминаний о других твоих чувствах!.. Ведь все мои желания – такие естественные и простые, – только потому оказываются почти преступными, что они не совпадают с твоими. Ведь ей ты позволяешь говорить, что ты один ее жизнь, ее обиды от моего присутствия тебе больны, ее желание быть, например, с тобой совсем вдвоем летом тебе не кажутся безумными и чрезмерными притязаниями. Ее забота, ее ласка, ее потребность в твоих ласках и заботах не тяготят тебя, потому что тебе это приятно и нужно. А как же могу я согласиться на то, что ты мне предлагаешь, когда я знаю, что все мое личное, интимное, нежное не нужно тебе и тяготит тебя. И неужели не понимаешь ты, что все эти простые и насущные проявления и желания любви, когда их будешь стараться давить и душить, заострятся, как иглы, и вопьются в сердце вечной обидой и болью. Ах, как хочу я, чтобы понял ты это! Только понял… Тогда не будет у тебя этого жестокого выражения глаз, тогда ты пожалеешь меня настоящей хорошей жалостью. Ты знаешь, у меня грудь разрывается от этой жажды отдать тебе всю мою нежность, все тепло, всю ласку и ласковость, которые прежде так были тебе нужны. И я хожу точно проклятая, когда ты не ласкаешь, не жалеешь, не хочешь быть близким со мной. Как я задушу все это, чтобы с ясным, спокойным лицом и душой принять ту холодную, бескровную, отвлеченную дружбу, что ты мне предлагаешь?! Да ведь эти пределы, что ты поставил, это сознание, что «пределы» только для меня, а с ней ты живой, любящий, – это убивает всякое живое, непосредственное проявление. Быть с тобой и думать каждый миг: «Ах, не сказала ли я чего лишнего, не слишком ли я интимно себя веду, не навязчива ли я, не неприятно ли ему, что я его поцеловала, не сидит ли он сейчас только потому, что видит в моих глазах скрытую тоску»… Можно ли это, Валерий, принять как жизнь, как способ жизни или форму ее? С нечеловеческим мужеством сказать себе: «Те радости, без которых жизнь для меня равна смерти, – не для меня. Их он отдает ей, отдает от всего сердца, и сказал, что я должна о них забыть». А потом вернуться к жизни, работать, бывать с людьми, смеяться, существовать, видеться с тобой, точно ничего не случилось?.. Так? Ты думаешь, что можно так? Ты думаешь, что мою душу можно ломать по всем направленьям и она все-таки останется живой?.. Положить на мои плечи такое горе, миллионной доли которого не вынесла бы она, и думать, что смогу приходить на твои зовы? Валерий, дорогой мой, мне ничего от тебя не нужно, и больше не делай для меня даже самого малого, я об одном прошу тебя с тоской – постарайся понять невозможность того, чего ты от меня хотел. Скажи сам, в глубине себя, что ты говорил о невозможном. В этом признании твоем я нашла бы последнее горькое удовлетворенье. Осуди себя сам за эту минуту нечеловеческого ко мне отношенья. Можно разлюбить человека совсем, можно никак не ощущать его в своей жизни, но понимать, хотя умом только, особенно зная о нем все, – разве уж это невозможно?!. Ты сказал мне: «Но ведь без меня тебе не будет лучше?» И с усмешкой прибавил: «Конечно, нет, – так почему же тогда мне не приходить?» На эти слова я отвечу тебе совсем чистосердечно. О, конечно, мне без тебя ужасно, и я не знаю, как я буду жить без тебя и даже смогу ли я это… Но и с тобой после твоего признанья в любви к другой я тоже не могу быть. Твой вид, каждое твое слово, эта безнадежная твоя окаменелость, лишь только ты оказываешься рядом со мной, и сознание, что все мне нужное, желанное, все, без чего моя жизнь – одна сплошная темная ночь, отдано другой, сознание, что я должна держаться в пределах и не смею из них выходить, сознание, что все мои проявления любви к тебе в твоих глазах только жалки, безобразны, смешны или тяготят тебя, и вечная необходимость душить в себе малейшее движение живого чувства, чтобы вдруг не оказаться вне пределов, поставленных тобой, – все это так ужасно, так оскорбляет меня и мою любовь, причиняет мне такую раскаленную острую боль, что создать хотя какое-нибудь подобие отношений при этих условиях я не могу, не могу и не могу… Тогда ты скажешь: «Ну что же делать? Что надо делать?»Ах, как странно это спрашивать! Что может делать человек во время катастрофы, разбившей все его существование? И как научить его сделать что-то гармоническое, стройное, годное к жизни, из элементов его горя!..
Конечно, я говорю тебе: «Уйди» – не на радость себе и не думаю, что с твоим уходом «все устроится прекрасно». Я говорю тебе «уйди» в отчаянии и остаюсь в отчаянии. И знаю, что если опять позову тебя и ты придешь, – не будет ничего ни нового, ни хорошего, и вновь начнется бесконечная мука. И я уже не могу желать, чтобы длились эти мучения встреч. Даже самые горькие наши встречи имели смысл, пока что-то выяснялось; а в душе вопреки всему жила у меня надежда, которую ты сам вызвал к жизни, и я думала: «Нет, он сказал мне – не верь, если я даже буду говорить, что не люблю тебя, потому что мы не мажем расстаться, – я это узнал навсегда, как единственную правду о нас». Но теперь?.. Какие у меня могут быть надежды, если ты говоришь с безжалостной правдивостью: «Да, я люблю ее, а не тебя». И поверив этому ужасу, как могу я на нем построить хотя что-либо с тобой?!
Милый мой, ведь есть же минимум желаний и требований, без удовлетворения которых жизнь одного из двух становится каким-то сплошным поруганьем и униженьем. Ты знаешь это, – ведь ты же все время старался, чтобы было хорошо ей, а это значило давать ей то или иное. Мои желания и требования сократились до последних границ, за которыми уже мне только оставалось увидать, что ты мне ничего не хочешь дать. Я говорила тебе о том немногом, что нужно мне для жизни. Ты ответил просто и ясно: «Я не могу тебе дать даже этого немногого». – Что же остается мне? Опять просить, ждать, умолять, биться о каменную стену? Нет, нам говорить о какой-либо «нашей» жизни уже невозможно. Я все сказала, все, все!.. Теперь осталось бы повторять.
И я говорю тебе «уйди» для тебя и для себя. Тебя это избавит от тяжелых свиданий и разговоров. Мне твой уход выяснит все, что должна я сделать. Пока ты «как-то» еще, но все же приходишь и я хотя в две недели раз слышу твой голос, у меня, конечно, невольно создается ощущение, что ты еще здесь, еще «как-то», но со мной. Без тебя совсем, когда затихнут твои шаги и голос, когда не останется даже наших призрачных «дел», когда опустится надо мной полная тьма, когда одиночество из всех сил сдавит сердце, я смогу умереть. О, я ничего не жду, никаких утешений. И у меня не было оставлено «хода на случай», как у тебя и Б.Н.[72]72
Б.Н. – поэт Андрей Белый, настоящее имя которого было Борис Николаевич Бугаев.
[Закрыть]. Моя гибель несомненна, – я думаю, это тебе даже виднее, чем мне. Без тебя у меня кончается всякая связь с живой жизнью и людьми, без тебя я лишена даже единственного утешения – способности работать. Я не выйду никуда из зеленой комнаты, а долго ли можно прострадать так, – это решится само собой. Ах, верь только, Валерий, что я не говорю ни одного преувеличенного слова.Ты же знаешь обо мне все, и ты знаешь также, что бывает с душой, у которой действительно отняли то, чем она была жива. Я не хочу твоей жалости, я не хочу, чтобы ты делал для меня хотя что-нибудь, сцепя зубы, без сердца. Да «что-нибудь» от тебя я взять не могу. Потому оставь меня, предоставь меня моему горю, гибели и судьбе. И не бойся, я не позову тебя. Мне незачем больше звать тебя. Я знаю теперь правду и против рока идти не могу. А позвать тебя для встречи, какой была последняя, – даже для такой встречи не могла бы позвать я тебя, потому что мне больше нечего узнавать и «выяснять». Бог знает, как люблю я тебя, милый, милый Валерий… Во всякий час твоей тихой радости или работы или скучных обязанностей, во все часы, дни и месяцы, пока я буду жива, я буду томиться мечтой возле тебя. Я никогда уже не утешусь и не буду даже искать утешений. Я смотрю прямо в стеклянные глаза моей погибели и знаю, что она меня не минует. Ведь теперь я остаюсь всецело «с ним». Душу мою и тело с полным сознаньем предаю его губительной власти. И только думаю – боже мой, зачем я узнала тебя!.. У меня было все, чтобы жить, у меня были возможности жить достойно, а я валяюсь на земле, как раздавленный твоей ногой червяк!.. Мне так тяжело, Валерий, я едва кончаю письмо. Прощай же, мой дорогой, милый, единственный! Прощай, моя жизнь, моя душа, моя единая, вечная любовь. Я становлюсь перед тобой на колени и благодарю тебя за все доброе и жестокое равно. Благодарю тебя за жизнь и за смерть, за то, что ты был со мной, за то, что через тебя я познала настоящую любовь. Простись со мной и ты нежно. Я почувствую твою отдаленную нежность острее, чем самый страстный поцелуй. Прости меня! Прости все твоей бывшей Ренате…
Итак, с 1911 года Нина жила за границей. Там она, по меньшей мере дважды, неудачно пыталась покончить с собой: сначала выбросилась из окна гостиницы на бульваре Сен-Мишель (после чего осталась хромой), а после смерти горячо любимой сестры Надежды пробовала через укол булавкой заразиться трупным ядом.
Находясь в эмиграции, она жила в крайней нужде, зарабатывала какие-то гроши переводами. При этом она страдала тяжелым нервным расстройством, усугубляемым алкоголем и морфием.
30 апреля (13 мая) 1913 г. Мюнхен
Нина Петровская – Валерию Брюсову
Валерий,
мы не увидимся больше и не будем вместе никогда. Так решила судьба, и так сказали мы сами. Теперь, я думаю, и ты от чистого сердца повторишь мои слова: мы больше не существуем друг для друга… Ainsi soit-il![73]73
Да будет так! (фр.) (?)
[Закрыть]Не буду говорить тебе, почему, – это сложно и томительно, если рассказывать подробно, но я прошу: верни мне мои письма. Время, всевозможные события (роковые и счастливые, но пережитые без тебя) и, наконец, полная перемена моих чувств к тебе, – все это говорит за то, что моя просьба не мимолетный каприз, о котором забуду я завтра. Я так хочу, я чувствую за собой внутреннее право получить обратно мои письма, потому что в сущности они никогда не принадлежали тебе… Насколько я помню, твои письма хранятся у Сережи (!!) как литературное сокровище, завещанное будущему? Если говорить откровенно, я хотела бы уничтожить и их, ибо изменилась моя душа и то, в чем находила я великое и прекрасное прежде, кажется мне пустым и лживым теперь. Но, зная тебя, об этом я могу только смиренно просить.
Мне хочется верить, что ты вернешь мне с легкостью сотни этих исписанных листов, ни на что не нужных тебе больше. Зачем ты причинишь мне последнюю неприятность? Но если ты не ответишь вовсе или ответишь «нет», – что останется мне тогда кроме «варварской мести», – попросить Сережу, который, конечно, сделает как хочу я. Прислать твои письма и растопить ими печку в майский день на удивление немцам!.. Я жду ответа.
Н. Петровская
Первая мировая война застала Нину Петровскую в Риме, где она прожила до осени 1922 года в ужасающей нищете. В России тем временем произошла революция и шла к завершению Гражданская война. Валерий Брюсов не бежал, не замкнулся в узком декадентском мирке. Напротив, он оказался в самой гуще событий. В 1919 году он вступил в Коммунистическую партию, стал депутатом Моссовета, ректором Высшего литературно-художественного института…
Но в Советской России Брюсова не слишком жаловали: для победивших большевиков он все-таки оставался чужим. Однако к 50-летнему юбилею ему вручили грамоту от советского правительства, в которой отмечались его многочисленные заслуги перед страной и выражалась «горячая рабочее-крестьянская благодарность».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































