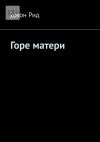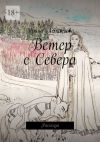Текст книги "Дитя севера"

Автор книги: Тамара Белякина
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Это был первый мой московский год
Два месяца жила у дяди Миши, а потом он мне нашёл квартиру.
На улице, параллельной Якиманке, кажется Димитровке, в Замоскворечье, напротив Литературного музея. Знакомые дамы оттуда и нашли мне эту квартиру. Там жила одинокая старушка. Я должна была спать на старом кожаном диване. Но в нём было столько клопов!
И я их ужасно боялась. Поэтому собрала какие-то тряпки, одеяла и стелила себе спальное местечко в углу. Но клопы и там меня находили!
Вскоре старушку увезла скорая помощь с астмой, и я осталась наедине с клопами.
Вдруг однажды приходит молодой человек кавказской наружности и говорит, что он – племянник моей старушки и будет жить здесь же.
Он спал на клопяном диване, а я в своём углу на полу.
Однажды он пригласил меня в ресторан. Тётя Люба сшила мне красивое платье из красного твида, у меня ещё была коса, и в таком виде я пошла в ресторан.
У меня не было страха перед ресторанами, потому что до этого я несколько раз бывала там с Папой. А тут меня вдруг стали приглашать танцевать разные мужики, и я всем отказывала.
Мой спутник мне говорит:
– А знаешь, почему все на тебя смотрят? Потому что ты здесь самая молоденькая!
Я стала проситься домой. Когда пришли в квартиру, то этот человек начал агрессию. Я дралась и оборонялась изо всех сил! Наконец он понял, что ничего от меня не добьётся, и ушёл.
Это был хороший урок – тогда я поняла, что если не захочу, то никто никогда от меня ничего не добьётся. Мне, правда, и в голову не приходило, что меня можно было просто оглушить ударом по голове.
Однако наступал новый год, и видеть мне не хотелось абсолютно никого.
Да и некого было видеть, я трудно сходилась с людьми.
И вот я встречаю Новый год одна, вернее, в компании клопов.
К ночи они повыползли изо всех щелей и, приподнявшись и вытянувшись на всех своих шести ногах, вытаращили свои гляделки и очень пристально смотрели на меня.
Я сидела всю ночь на одиноком стуле за пустым столом и училась принимать от жизни грустные подарки.
Фантазия-экспромт
Пианино привезли зимой в сорокаградусный мороз в большом деревянном ящике из шершавых досок, поставили посреди комнаты и не велели распаковывать двое суток, чтобы согрелось постепенно.
Мы ходили вокруг него и изнывали от нетерпения. Вот оно стоит у меня и сейчас – по левую руку! Красивый и прекрасный инструмент – «Красный Октябрь». Тогда такие инструменты делали из конфискованных немецких деталей. До сих пор он отлично звучит.
Серёженьке было четыре года, мне – десять, а Риточке – четырнадцать.
В музыкальную школу отправили меня. Первые шесть лет моей учительницей была Гутта Моисеевна – высланная литовка. Тогда в Якутске много было сосланных из Прибалтики.
Жила она от нас недалеко, и на уроки я ходила к ней домой. Боялась я её ужасно. Хотя она была добра ко мне. Она учила меня так, как учила её в детстве немецкая бонна. Самое главное – держать руку «яблочком».
И я на уроках глохла, все усилия были направлены на то, чтобы никакой палец не выпирал и не проваливался. Я очень любила Гутту Моисеевну, но руку она мне так и не поставила, зажатость в локте и плече осталась.
И всё-таки я любила ходить к ней – у неё были два хорошеньких сына – близнецы Иша и Миша. Их всё время кормили какими-то оладьями.
А на окнах – необыкновенные шторы с поющими птицами – клювики у них были раскрыты. Была ещё совсем старенькая бабушка, которая так и не дожила до возвращения на родину, и похоронили её в вечную якутскую мерзлоту. А муж её – врач – работал ветеринаром.
Так я и училась, как «барышня». Музыкальная школа была далеко, я часто болела, или были большие морозы, и поэтому на сольфеджио и гармонию я попадала редко, плохо понимала, хотя и получала пятёрки. Халтура какая-то была в школе.
Но музыку полюбила очень. Я её слушала по радиоприёмнику. Слушала подряд любую классическую музыку.
Однажды – мне было уже, наверное, лет 15—16 – в Якутск приехала гастрольная оперная труппа. Привезли «Травиату», «Риголетто», «Фауста», «Алеко» и «Сильву»! Исполнение, наверное, было слабенькое, но меня трясло от возбуждения, как в лихорадке. До сих пор в памяти некоторые мизансцены.
Кажется, в 1956 году сосланным прибалтам разрешили вернуться, и моя Гутта Моисеевна уехала, подарив мне на память сонаты Бетховена.
Следующей моей учительницей была очаровательная огненно-рыжая зеленоглазая молоденькая выпускница консерватории, приехавшая на год отрабатывать свой диплом. Кроме того, что она была рыжая и зеленоглазая, от неё не осталось никаких воспоминаний.
Я тем временем окончила школу и поступила в музучилище и заочно в только что открывшийся Якутский университет на филфак, потому что за сочинения часто получала пятёрки.
Надо сказать, что Мама наша очень хотела вырастить нас образованными и воспитанными людьми. В те годы Мама собрала большую библиотеку, в основном это были подписные издания, и я читала очень много. И Мама даже познакомилась с одной старой дамой, которая учила нас Правилам хорошего тона.
Вообще у нас в семье было тепло и уютно. Мама и Папа нас очень любили, каждое лето мы выезжали на дачу (и даже пианино возили туда), было то, что называется «счастливое детство». Это, оказывается, так важно! Как бы мне потом ни приходилось в жизни, что бы ни случалось, я всегда носила в себе это счастливое детство, я была родом из счастливого детства. Потом я встретила такое у Набокова.
А в музучилище у меня была учительница Маргарита Николаевна Алиева. Она закончила аспирантуру в Ленинградской консерватории и тоже по распределению приехала в Якутск вместе со своим мужем – дирижёром.
Это был чудесный год! Я занималась по восемь часов. Я была влюблена в свою учительницу, это была блондинка с карими глазами – талантливая, умная, обаятельная. Она с удовольствием учила нас – совсем бездарных провинциальных учениц. Я тогда за этот один год сделала всё, что я вообще сделала в музыке.
Я выучила первый концерт Бетховена и даже сыграла его с маленьким оркестриком, который собрал муж Маргариты Николаевны на Якутском радио. Я выучила Прелюдию и фугу Баха номер 6, сонату Хачатуряна, какие-то пьесы Кабалевского. И я выучила «Фантазию-экспромт» Шопена! Я не смогу описать процесс работы – а это была работа! Может быть, единственный раз в жизни я работала. Те, кто слушал «Фантазию-экспромт» Шопена, понимают, что это фигура высшего пилотажа. Это Фаберже в фортепианном варианте. Ведь автор был великий пианист!
Рассыпавшиеся бусы, струи фонтана, порывы ветра в листве и травах – в общем, турбулентное неописуемое движение. Техническая трудность в том, что в левой руке нужно было сыграть двенадцать шестнадцатых, а в правой в это время – шестнадцать шестнадцатых, и распределить их так, чтобы они попадали в какие-то неуловимые промежутки между звуками, то есть чтобы все шестнадцатые при всём несовпадении звучали ровно, как бы и не зная друг о друге. И вот эта несовпадаемость провоцирует неровное сердцебиение и романтическую потерю разума. А ещё этот Шопеновский темп «рубато», когда противопоказана вообще классическая ровность, а музыка изливается, как она сама хочет. И всё это в самом быстром, задыхающемся темпе, будто догоняешь поезд с уезжающей любовью. А средняя часть – адажио, и столько в нём неги, нежности, чувственности!
Да что словами описывать музыку! До сих пор каждая нота звучит во мне, каждый палец помнит свою клавишу, казалось бы, садись и играй. Сажусь и играю, но – «сумбур вместо музыки», грязь, мазня. О, горе моё! Вот он – инструмент, вот ноты, вот руки, но искусства нет. Но было, было! Правда – было!
Сейчас я подумала, что, может быть, я с такой горечью и вспоминаю это время, что ничего похожего у меня больше не было никогда. Ни в чём. Я с блеском сыграла Шопена на экзамене и концерте. А потом Маргарита Николаевна, отработав положенный год, уехала обратно в Ленинград. И учиться стало не у кого.
Я поехала в Новосибирск, где работала подруга Маргариты Николаевны – Софья Гиндис, которой и было передано рекомендательное письмо от неё. Но когда я приехала в Новосибирск в конце августа, меня прослушал известный и солирующий пианист Захарченко. Он сразу взял меня к себе в класс на второй курс и всем рассказывал, какая хорошая ученица у него появилась. Учиться у него было престижно. А дальше всё начало рушиться. Главное – у меня не было инструмента.
Я поселилась «в углу» у одной тётеньки. Утром я просыпалась в шесть часов от гимна (с тех пор я его ненавижу), ехала на трамвае в училище, разыскивала свободный класс и занималась до восьми часов. Потом начинались занятия, и снова я могла позаниматься только после шести вечера. Мои пробелы в сольфеджио и гармонии были ужасными. Как мне было плохо! Так плохо, что я вот только сейчас рассказываю об этом кое-как. Первую сессию я сдала. А потом просто наступило безнадёжное затмение.
Я не могу вспомнить целые месяцы той своей жизни.
У меня были подруги, но после занятий они уходили к себе домой и играли там на своих роялях. У меня был хороший приятель – Жора Каменец. Он тоже жил на квартире, но с инструментом. Он тоже не собирался быть музыкантом, учился до этого даже в каком-то институте, кажется, в Новокузнецке. Играл на скрипке, а потом попал к преподавательнице – ученице Татьяны Николаевой, нашей известной пианистки, и стал усердно заниматься на фортепиано, а потом поступил в это же Новосибирское училище, тоже на второй курс. Он был из сибирских немцев, поселившихся здесь ещё во времена Бирона, который развивал на Алтае горную промышленность.
Вот мы с Жоркой после занятий и ходили вместе, как иногородние, в столовку. А потом он уходил к себе на квартиру заниматься. Мне заниматься было негде.
Может возникнуть подозрение, что я тогда влюбилась и потому у меня всё полетело. Куда там! Даже намёка ни на какую любовь! Жорка был старше меня на семь лет – белёсый немец с красным носом любителя пива. Ему со мной интересно, наверное, было (а со мной всем мужчинам интересно было). Мы вместе ходили на все симфонические концерты и в оперный театр, благо студенты музучилища проходили по студенческим билетам. И я ему очень признательна за то, что он познакомил меня с «Весной священной» Стравинского, которая привела меня в пожизненный восторг.
Возможно, я как-то и входила в его жизненные планы, но я была так молода и невинна, так мне было не до того, я просто ничего не понимала.
Ну, и чтобы закончить о Каменце, – потом, когда я уже вышла замуж и опять в Новосибирске мы с мужем были на концерте, впереди нас оказался Жорка. Я было думала заговорить с ним, но не стала. Он женился уже в консерватории на пианистке Карине – армянке, у них был сын, которого они успешно продвигали в дирижёры. И теперь он живёт где-то в Германии.
Я вообще-то всегда была (и осталась) девочкой скромной и даже застенчивой, поэтому мне правда было нелегко.
На весенней сессии я должна была сыграть «Первую прелюдию» Рахманинова. Она построена на больших аккордах в обеих руках, которые должны изобразить колокольный звон. А руки у меня маленькие, октаву не берут. В общем, программу свою я не успела выучить, и меня отчислили. Может быть, каждый человек пережил что-нибудь похожее, как переживают первую любовь, и тогда, вспомнив свои чувства, поймёт и мои. Если нет – то и стараться передать их не стоит, невозможно.
Итак, триумфом и единственным достижением моим в музыке так и осталась «Фантазия-экспромт» Шопена.
Я до сих пор помню её и могу худо-бедно сыграть, особенно если позаниматься.
Ну, а потом… Что потом…
Я прилетела в Якутск и не сразу рассказала обо всём Маме с Папой. Только вечером, за чаем, вдруг хлынули такие горькие слёзы и так долго лились без слов! Собрались с Папой и полетели в Москву в МГПИ им. В. И. Ленина. Поступила, началась новая хорошая жизнь. Но боль и горечь оставались всю жизнь. Я больше играла на трёх роялях в трёх наших знаменитых больших аудиториях или в закутке с пианино, чем сидела на лекциях. По-прежнему много ходила на симфонические концерты – в Консерваторию, в Зал Чайковского, в Колонный зал. Уже будучи замужем, я 32 года покупала абонементы на симфонические концерты нашего знаменитого оркестра под управлением Каца. Помню, сижу беременная и говорю своему ребёночку: «Слушай, слушай!» Вот Петя и наслушался.
Так всю жизнь и прогоревала о музыке. Я не знаю, почему я так трагично это пережила, почему не успокоилась и не переключилась ни на что.
Петя сейчас музыкант, он один меня понимает. Мне всегда было невыносимо вспоминать этот период в моей жизни. Я никому о нём не рассказывала. Я замуровала его в бетонный склеп. Да и сейчас я рассказала только события, не трогая мук, а ведь главное – детали. Я всегда отмахивалась – нет, нет, не надо об этом! Но через полвека даже после Чернобыльской аварии опасности не будет. А тут прошло уже 45 лет. Ушло то прошлое, как ушла в прошлое даже смерть, которая стояла рядом у моего изголовья семь лет тому назад, всё стало просто частью судьбы.
Я поняла, что не надо закреплять в СЛОВЕ то плохое, что со мной происходит. И сейчас ещё как живые встают подробности того года, но зачем их вытаскивать на свет? Пусть остаются в склепе…
Но сегодня я рада, что написала об этом, значит, пережитое очистилось и проросло травой забвения.
Пока я писала, вдруг налетела ужасная гроза, град с горошину стучал в окна, во дворе завыли сигнализации на машинах, Дага прижалась к моим ногам, и компьютер сам собою выключился. Ну, всё, думаю, ничего не сохранится, значит, не судьба этой истории быть рассказанной. Но прошла гроза, умный ворд всё восстановил, и в памяти гремит мучительная и счастливая «Фантазия-экспромт»!
У меня в Москве
У меня в Москве купола горят,
У меня в Москве колокола звонят.
М. Цветаева
У меня в Москве есть Дом. Даже Дворец! Он – мой, не знаю, есть ли ещё какой человек, которому почти сорок лет снится этот Дом.
Всё очень просто – это Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина. Раньше это был институт благородных девиц.
Мне очень нравится его архитектура. Ничего лучшего мне не пришлось увидеть. Описать архитектуру трудно, хотя очень хочется. Юрий Михайлович Лотман описал, как были построены дворянские дома в деревенских имениях и в Петербурге, – их можно представить. Надо и мне попробовать описать мой Дом, хотя я уже многое забыла.
Дом угловой и в плане представляет четверть круга. Студенческий вход – со двора, из скверика, там по «дуге» было несколько дверей, но открыта всегда была одна.
Заходишь – так же дугой по обе стороны распахивается коридор – налево объятья и направо объятья. Но что странно? Потолок-то – наклонный! Пока что ничего непонятно. В низкой части – раздевалка и буфет, а в высокой – большие окна.
Теперь надо описать замысловатую сеть лестниц, их много. Две широкие лестницы в середине дуги ведут в вестибюль, а по двум – в концах дуги – можно подняться в аудитории, о которых речь впереди. Поднимаешься в вестибюль, а он высокий – в три этажа! и потолок – стеклянный! И он тоже полукруглый! И красивый каменный пол! И по радиусам этого сегмента – галереи второго и третьего этажа с красивыми перилами.
Широкая часть квадранта представляет собой три больших амфитеатра – 8, 9 и 10 аудитории. В нескольких фильмах советской поры их можно увидеть.
Ах, как приятно чувствовать себя студенткой, сидючи в этих аудиториях на лекциях! Там тогда, в 60-е, выступали поэты и барды. И в каждой из них стоял рояль! (Теперь вот и понятно, что пол «горки» образует наклон потолка в коридоре.)
Но это ещё не всё. В угловой части вестибюля две округлые лестницы ведут во второй этаж, а между ними проход на «собачью площадку», хотя это маленький круглый зал с колоннами, и на самом деле – главный вход с угла Дома, который открывался только тогда, когда нужно было выносить гробы с покойными профессорами после панихиды, когда всегда исполнялся «Реквием» Моцарта. А «собачьей площадкой» этот зальчик назывался потому, что там, между колонн, всегда курили.
И вот, когда поднимешься на второй и третий этаж, то коридоры по сторонам квадранта одной стороной выходят в этот замечательный вестибюль, а с другой стороны – двери в маленькие аудитории и библиотеку. И библиотека чудесная – высокие стеллажи до потолка, подставляй стремянку, доставай любую книгу и читай на длинных столах под зелёными лампами. А насытишь голову – и выходишь, опираешься о перила, смотришь вниз – в чудесный вестибюль и вверх – в чудесный стеклянный потолок. И куришь. «Стою, курю»…
И маленький круглый зал с колоннами повторяется на каждом этаже в угловой части, На втором этаже в этом зальчике всегда проходили занятия по истории партии.
А вот на третьем этаже был Михал Максимыч. Колченогий старый добрый художник, который получил должность доцента за альбом с рисунками птиц. Он научил меня любить ворон. У него на третьем этаже в угловой части коридора, выходящей всё в тот же вестибюль, была изостудия, где были гипсовые Венера и Давид и куда привели меня девочки после того, как увидели, что я на лекциях рисую затылки ниже сидящих, и по ним можно узнать – чьи они. Это был факультатив, но, к сожалению, я проучилась у М.М. всего два года, ещё бы год, и был бы диплом по художеству. Боже мой, как там было добро, любяще, уютно, тепло. Как мы любили М.М., а он нас. Как не стыдно было своих ошибок и как радостно от удач. Но пришёл конец «сладкой жизни».
Ещё две детали этого Дома: в вестибюле стояли две огромные статуи – Ленина и Сталина. Потом Сталина убрали, остался один Ленин.
И была ещё одна лестница – винтовая, а под одним из её изгибов образовалась крошечная треугольная комнатка, где помещалось только пианино и стул. Вот тут-то и проходила в основном моя жизнь.
Все на лекциях, а я брала ключ, запиралась и играла. Я тогда ещё была с открытой раной. Кто имел такие раны – понимает. Кто не имел их, но имеет воображение – может представить. А я бередить не хочу. Очень легко разбередить, и снова будет больно. Это касается только меня и музыки.
Так почему же всё-таки я считаю этот дом своим Домом?
И вот он время от времени снится мне, и я хочу вернуться туда и боюсь: там всё чужое – люди, вещи, стены. И нас никто не помнит – мы чужие. И вот когда горчайшее приходит. И что мне делать?
Окно открыто. Смотрю на ветки берёзы. Они растут вниз. И качаются потихоньку. Похожи на лёгкие волосы или негустой водопад. Сравненье не из новеньких. Но мне что за дело! Для меня нет проблемы – искать неистасканные эпитеты, я – не писатель, «не Спиноза какой-нибудь – ногами кренделя выделывать». Проблема будет у того, кто будет читать это. Да и то, зачем ему это читать? Скучно станет – бросит. Речь о том, что есть такой стиль жизни – быть свидетелем жизни, своей и других. Соглядатаем, смотрителем, слушателем. Быть со-причастным, со-чувствующим, со-переживающим. Всматривающимся, вслушивающимся и пытающимся понять. Не умом даже, скорее – интуицией, мелодией – тоже не своей и не новой, какой-нибудь всплывшей в памяти чужой строчкой.
Достоевский писал о таком переживании жизни и таких людей называл «созерцателями». А я бы сказала ещё – «читателями» жизни. Смотрит – и прочитывает то, что видит.
Наверное, я такая. Мне скучно быть «действующим лицом». Когда приходит нужда действовать, я сразу перестаю понимать. Мне скучно куда-то мчаться, крутиться в водовороте. А лучше идти потихоньку и знать про себя, что обязательно дойдёшь.
Воды. Броды. Реки. Годы и века.
Обязательно найдутся такие, что скажут: «О-о! Это холодный бесчувственный человек!» Но когда видишь, слышишь и понимаешь – невозможно не сопереживать. И мучиться от невозможности что-либо изменить. Просто как – сопереживать и мучиться!
Я не думаю, что люди очень сильно отличаются один от другого – руки, ноги, голова. У всех 46 хромосом. У всех один набор психологических комплексов. Разница только в акцентуации. И когда поймёшь, что генетика сильнее всего и из огуречного семечка не вырастишь розы, то остаётся только сопереживать и огурцу, и розе. И лучшее, что ты можешь сделать – это выслушивать людей. Нам всем так хочется, чтобы были хотя бы одни уши, согласные нас услышать. Не просто слушать, но и услышать, то есть – понять.
Интересно, хочет ли берёза, чтобы её поняли?
Ну, и теперь про Славку Кириллова. Он был весь такой «густой»: крутые чёрные негритянские завитки на большой голове, густые брови и ресницы, густая, не поддающаяся бритью, вечно лезущая растительность на лице и – главное в нём – густой низкий и громкий бас. Я и услышала его бас на одной из лестниц. Посещение лекций у нас было свободным, и вот я играла в своей каморке, а он рычал, кхмыкал и что-то пел из украинских песен. Я предложила – давай выучим «Сомнение» Глинки. Он не знал ни сомнения, ни Глинки. Он вообще был дико невежествен.
К тому времени ему было уже 26—27 лет. Приехал он откуда-то то ли с Кубани, то ли с Донбасса. Я вспомнила, что мама у него была русской или украинкой, а отец – что-то восточное. Работал в колхозе и на заводе, везде, наверное, был заметен, и кто-то, по-видимому, посоветовал ему получить хотя бы гуманитарное образование.
Так вот, был бас, сочный, красивый, оперный, но не было ни ритма, ни особенного слуха, ни музыкальности. Просто беда. Я по молодости думала, что это разовьётся, но было невероятно трудно заставить его петь хотя бы в лад с аккомпанементом. Орал он на весь холл, но толку не выходило. Ну а я, конечно, и не педагог.
Славка прослушивался где-то и неоднократно, но, видно, никто не взялся за него.
Учёба в институте для него не была важной, так же, как и для меня. И мы как-то быстро поняли друг друга и на многое смотрели одинаково. Я тоже была старше своих однокурсников. И действительно, происходит что-то – он посмотрит на меня, я на него – и понятно без слов, что мы поняли и как мы поняли и что поняли одинаково. Говорили мало, больше молчали, но понимали, о чём молчим. Тут-то и родилось это словечко – «взаимопонимаки» мы с ним. Было общее – то, о чём больно говорить.
А вот видеть и понимать он тоже умел. Когда восхищался чем-нибудь или удивлялся, то задирал голову, мотал ею и, оскаливая зубы, рычал: «О-йй-о!» Был он ленив, учился плохо, на занятиях вроде и слушал, но чувствовалось, что в нём параллельно идёт вторая жизнь, что всё переваривается через его густую натуру и мало остаётся.
Глаза у него были яркие, большие и ленивые. Ноздри вывороченные и какие-то тугие, и красные пухлые губы. Весь он был какой-то раскалённый, как электроплитка с красной спиралью, пышущая жаром. Но непонятно было, что делать с этой плиткой – не варить же на ней супчик или кашу. Да и греться не хотелось – лучше отстраниться от ненужного жара. Он и сам чувствовал свою раскалённость, ему было тяжело от неё, и он не понимал, что ему с этой раскалённостью делать.
Но его не любили девчонки, и он не любил никого. Казалось, что главное для него – понять, зачем он такой. Мы с ним были дружны, он мне мог говорить обо всём.
Даже о том, что у него ещё не было женщины, что он – девственник! И он очень озабоченно жаловался, что ведь нельзя так долго оставаться девственником – можно импотентом стать. Потом он мне рассказывал, что у него появилась женщина по имени Генриетта, что она много старше его, что он её не любит, но надо же жить. Он не пил, не курил и не имел вредных привычек.
Тогда я не знала Томаса Манна, но сейчас мне кажется, что он похож на мингера Пеперкорна из «Волшебной горы». Человек – масштаб. Просто – масштабный человек. Большой, много – но чего?
Ушёл он из института после второго или третьего курса – не помню. Пристроил его кто-то в Калининский драматический театр. Как-то парни – его приятели – поехали к нему в Калинин на спектакль и взяли меня. Долго ждали, когда он появится. И как в дурном романе – появился наконец – спиной к публике в бессловесной роли солдата, в строю с другими. После спектакля сходили на Волгу и уехали последней электричкой. Говорить было нечего. Всё было понятно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?