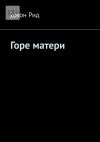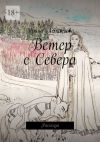Текст книги "Дитя севера"

Автор книги: Тамара Белякина
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Встреча на вокзале
На земле миллионы людей и бесконечное множество минут, и вот как могло случиться, что два единственно нужных друг другу человека сошлись в одном месте в нужный для них обоих момент?
Я приехала в Новосибирск поступать в музучилище.
Сходила туда, мне сказали, что сегодня никого уже из преподавателей нет и поэтому приходите завтра.
Что делать? В городе никого знакомых нет, а ночевать где-то надо.
Пошла на вокзал, думаю, переночую в зале ожидания.
Иду по залу, народу полно, все скамейки заняты, выискиваю себе местечко.
Полнейшее отчаянье, абсолютное одиночество!
Иду, кручу головой по сторонам.
И вдруг!
Не могу ещё даже осознать – с переполненной скамейки смотрят на меня два круглых и тоже ничего не осознающих Риточкиных глаза!
Всё! Мир перестал существовать – а мы стали одним целым прекрасным радостным миром!
Как, откуда и почему?
Риточка не знала, что я поехала в Новосибирск, и я не могла предполагать, что Риточка может там оказаться.
Рассказали друг другу, что с нами произошло.
Оказалось, что Риточку обокрали, и у неё не было ни билета, чтобы лететь в Якутск, ни денег, чтобы послать телеграмму.
И вот, возбуждённые таким подарком судьбы, радостные, пошли мы с ней искать ночлег. Кто-то подсказал нам, что можно попробовать спросить местечка в общежитии спортивного общества «Динамо». Мы пришли туда, нас, конечно, не взяли, но сидевшая при этом тётенька – кастелянша пригласила нас к себе переночевать.
Боже мой! Вот вам и подтверждение того, что Риточка послана на Землю, чтобы выручать из трудных ситуаций!
Назавтра мы, выспавшиеся, подкрепившиеся, направились в училище, подали мои документы, и меня прослушал Захарченко. А Риточка сидела за дверями и ждала.
Меня приняли.
Дня через два Риточка улетела в Якутск, а я осталась опять одна.
И вот я тысячу раз уверена, что если бы Риточка осталась со мной, то у меня всё было бы иначе, всё было бы хорошо. Потому что у Риточки никогда не опускаются руки, и чем хуже дела, тем больше у неё сил и энергии.
Потом однажды я сижу дома, и вдруг в комнату входит какой-то дядька!
Я бегу к Маме и говорю ей: «Там дядька чужой!» А оказывается, это вернулся Папа, которого я не знала, да и он не знал меня, и поэтому всегда больше любил Риточку. Папа привёз Риточке, которая уже ходила в школу, прехорошенький маленький красный портфельчик, Маме он привёз красивый светло-зелёный шёлковый халат с лебяжьей опушкой, красивый шелковистый ковёр, да ещё помню большую красивую жестяную коробку вкусного печенья с нарисованными маками. Помню, он сажал нас обеих на санки и катал. А я любила подбирать с дороги снежные такие звёздочки-вафельки от шин грузовиков и ела их.
После чего бывала ангина. Была и корь, тогда Мама занавешивала окна красной материей, и было всё красно.
Когда я болела и сидела дома, я открывала форточку и кричала что-то ребятам на улицу, отчего ещё больше простужалась.
От нечего делать играла самыми неподходящими вещами, например, тяжёлым мраморным чернильным прибором Папы. Там была большая плита, чернильница и вазочка для карандашей и ручек. И вот эту плиту я уронила себе на ногу, после чего долго болел ноготь на большом пальце, а однажды просто остался на повязке, после чего вырос какой-то новый роговой ноготь, который и до сих пор воспроизводится на моей ноге.
Вообще вкус еды появился в жизни только тогда, когда приехал Папа.
Как-то он ездил со мной и Риточкой в некое хозяйство Куркино, и там хозяева угостили нас вкуснейшими сдобными лепёшками. Они были такие непривычно сдобные, что я долго ещё не любила именно избыток сдобы.
Наконец, помню, нас с Риточкой устроили на кучу матрасов и перин в уголке товарной платформы, прикрытой сверху длинными досками, и мы неслись куда-то под стук и грохот колёс, и только звёзды мелькали сквозь щели.
Это мы переехали в Вологду.
И почти сразу же папа отвёз меня в Куйбышев к Маминым сёстрам.
У тёти Наташи был муж Степан и три дочери – студентки – Валя, Нина и Тамара.
А у тёти Дуси никого не было. Был когда-то взрослый уже сын-лётчик, но его убили в какой-то ссоре из пистолета.
И вот я жила у Тёти Дуси, сидела на русской печке, в ней была такая маленькая тёплая и вкусно пахнущая комнатка. Сижу я там и распеваю:
Мы пални блавые, блавые, блавые,
Чего ж вы носики повесили, кудлавые?
Потом посмотрела вниз, а там из-под печка высунулись три большие крысиные морды! И усами шевелят, и глазами вращают!
И мыла меня тётя Дуся прямо в печке – выгребала угли и золу, укладывала на поду доски, ставила туда таз с водой, а я туда залезала, и она закрывала вход заслонкой. Так я и сидела там в тепле, темноте и духоте.
Тётя Дуся умела пахтать масло. Была у неё такая высокая деревянная бочечка и деревянная лопата, похожая на весло. И она в воде отмывала, а потом лепила круглые куски масла и относила на базар, хотя это пресекалось – частное производство и торговля.
Но кормили меня там много.
Сначала тётя Дуся накормит, а потом поднимаюсь к Тёте Наташе, а они едят вкуснющую жареную картошку, так и у них поем.
Воспитывала меня тётя Дуся своеобразно, – так и не понимая, в чём моя вина, я бывала порота ремешком. Тётя Дуся укладывала меня на покрытую кисейным покрывалом свою кровать и мягко стегала меня своим пояском – это называлось «выгнать блошек». Что за система?
Тёте очень хотелось, чтобы Мама отдала меня ей навсегда, ведь у неё не было детей! Но в это время Мама отчаянно по мне скучала и даже видела во снах, как я иду ей навстречу, и Мама с криком: Томушка! – в слезах просыпалась. И Папа приехал за мной в Куйбышев.
Мы с ним ехали через Москву, и там помню, меня поразили вдруг вспыхнувшие в небе красные буквы, какая-то электрическая реклама, по-видимому. Там же мы ехали в метро и на эскалаторе. И был страшный случай, когда нужно было войти в вагон, а я, наверно, зазевалась, и Папа меня потянул к себе, и я упала прямо головой между вагоном и платформой, я хорошо помню этот момент. Но вытащили…
А тут вскоре Мама родила мальчика Серёженьку.
Мы стали жить в большом «сорокаквартирном» доме в квартире, в которой была даже маленькая комнатка возле кухни для прислуги, в которой жила Серёженькина старушка-няня.
Во дворе был организован городской пионерский лагерь.
Дети постарше ходили в походы и на экскурсии, а с младшими устраивали игры и концерты. И вот помню своё первое выступление на публике – я выучила басню Крылова «Мартышка в зеркале увидя образ свой» и, я ужасно боясь, всё-таки прочитала её.
У меня была подружка Зинка, гораздо боевее меня, и вспоминаю, как мы с ней бегали и писали на заборе какие-то три буквы. Я не знала, что они значат, но знала, что этого делать нельзя. Что значат эти три буквы я узнала очень поздно, лет через двадцать, не меньше.
А потом мы переехали в дом, в котором мне пришлось пережить одно из самых моих страшных преступлений, память о котором сопровождает меня всю жизнь. Там же жили две девочки-одногодки, мы вместе пошли в первый класс, и играли вместе. И вот тогда уже во мне проснулось ужасное чувство – ревность. Мне показалось, что девочки – Валя и Ира – как-то больше хотят играть друг с другом, а не со мной.
И я пришла домой и плачу, по своему обыкновению.
Риточка спрашивает, что случилось?
И я, – стыдно вспомнить! – сказала ей, будто девочки говорят, что я украла у них куклу! Риточка пошла и сказала Маме. Мама допросила меня, и я упорствовала. Мама такого потерпеть не могла, и собрали общее собрание всех трёх мам с дочками. И там я продолжала утверждать, что они такое говорили шёпотом. Стыд! Не помню уже, чем дело кончилось, но с тех пор я поняла, как стыдно и страшно врать, и даже, кажется, дала себе слово, что никогда не буду врать. Т.е. любое враньё, ложь вызывают у меня нравственную рвоту.
Но в том доме, на Добролюбова, жилось всё-таки очень хорошо.
Во дворе была большая делянка, засаженная маком.
Кто и зачем посадил этот мак, не знаю, но они были очень красивы. До сих пор мак – мой любимый цветок.
Там был сарайчик, в котором жил поросёнок Борька, и за ним ухаживала и любила его больше, чем подопечного, Серёженькина нянька девка Нинка, которую Папа привёз из деревеньки.
Там и кончилась первая семилетка моей маленькой, но, оказывается, уже полной драматизма жизни.
Семь лет маленькой глупой девочки, а они так много вместили! Ведь помнится только то, что выстраивает нас.
Вторая семилетка.
49—56
Школа библиотека Фауста Дмитриевна коза
перелёт Иду в школу смерть Сталина арифметика
пианино музыкалка физкультура
56—63
Провал в памяти первая любовь самодеятельность
Новосибирск Встреча на вокзале
выпускной бал Фантазия-экспромт Жорка
поступление в институт Квартиры Люся Сима Москва
Концерты Институт Славка Кириллов пионерские лагеря
Марат Несме-Беляк диплом
63—70
деревенька Как я чуть не…
Калининград Риточка женихи
Академгородок Шляпентох Пенза Прибалтика
беременность
70—77
Роды Петя ТН Жданов
77—84
Роды Стёпа библиотека
ФМШ преподавание
84—91
Операция трудные времена Ельцин
91—98
ТН переезды
98—2005
Петя Стёпа перитонит Прага Гозун Сима Люся
05—12
Люся аневризма опусы
Жизнь длиной в пять лет (про Михаила Павловича Еремина)
Смотрю на ветки берёзы. Они растут вниз. И качаются потихоньку.
Похожи на лёгкие волосы или негустой водопад и на воспоминания.
Сравненье не из новеньких. Но мне что за дело!
Для меня нет проблемы – искать неистасканные эпитеты, я – не писатель, «не Спиноза какой-нибудь – ногами кренделя выделывать».
Проблема будет у того, кто будет читать это. Да и то, зачем ему это читать? Скучно станет – бросит.
Речь о том, что есть такой стиль жизни – быть «свидетелем» жизни – своей – и других… «Соглядателем», «смотрителем», «слушателем».
Быть со-причастным, со-чувствующим, со-переживающим.
Всматривающимся, вслушивающимся и пытающимся ПОНЯТЬ.
Не умом даже, скорее, – интуицией, мелодией – тоже не своей и не новой, какой-нибудь всплывшей в памяти чужой строчкой.
Достоевский писал о таком переживании жизни, и таких людей называл «Созерцателями».
А я бы сказала ещё – «читателями» жизни. Смотрит —и прочитывает то, что видит.
Скучно куда-то мчаться, крутиться в водовороте. А лучше идти потихоньку и знать про себя, что обязательно дойдёшь.
…Воды. Броды. Реки.
Годы и Века.
Обязательно найдутся такие, что скажут: «О-о! Это холодный бесчувственный человек!»
Но когда видишь, слышишь и понимаешь, – невозможно не «сопереживать».
И мучиться от невозможности что-либо изменить.
Просто как – сопереживать и мучиться!
Всё началось с краха. После событий, описанных в «Моей Фантазии-экспромте»,
отправила меня Мама в Москву к дяде Мише. Он преподавал тогда в Библиотечном институте и жил на Левобережной.
Там я в первый раз увидела дубы. И очень они мне понравились.
Запах в дубовом лесу терпкий, крепкий. Листья «виолончельные»! Стволы толстые.
Под дубами всегда лежат желуди – тоже необычные существа.
Однажды я увидела дуб, покрытый потемневшими листьями уже зимой, под снегом! Мне тогда сказали, что и начинает зеленеть он позже всех.
Вспомнился толстовский дуб.
Между дядей Мишей и Мамой разница в возрасте два года, и он был очень похож на Маму. В его лобастой голове всё что-то кипело. Стыдно было помешать этому кипению.
Дядя Миша судьбу имел «своего» времени – раскулаченный Дед, война, институт, кандидатская. Это был очень яркий человек. И очень острый на язык.
К нему приходили его нежнейшие друзья, они пили водочку под хорошую закуску и пели «Воркуту» и другие зэковские песни. Но и слишком многих сослуживцев он открыто называл дураками. За что его побаивались и не любили.
Но зато Дядю Мишу обожали студенты и студентки.
Он читал курс русской литературы, особенно внимателен был к Пушкину и Чехову.
Когда его выжили из библиотечного института, до конца жизни он преподавал в Литературном институте. Мы с девчонками ходили тогда к нему на лекции.
Набивался полный зал со всех курсов, а он – как демиург! – на наших глазах (или ушах?:) создавал какие-то строения из своих знаний, от основания до крыши, не забывая тут же украшать их лит. анекдотами, далёкими ассоциациями, неизвестно откуда известными, – казалось только ему, – стихами. Голова немного кружилась, на перерыв никто никогда не выходил, было наслаждением следить за его прихотливой мыслью, но записывать не было никакой возможности. Расходились оглушённые.
Потом я встречалась с разными бывшими его студентами, и такое счастье было слушать дифирамбы Моему (!) Дяде. Очень долго (да во многом и сейчас) он был для меня нравственным ориентиром, когда я сомневалась в себе, я всегда думала – А что бы на это сказал Дядя Миша?
Мне запомнилось, что когда я поступила на первый курс, он мне сказал, что в каждой группе обязательно есть осведомитель и что надо их сразу же отличать, так же, как сразу видно дураков и проституток. (Меня особенно заинтересовало – как увидеть проститутку, я их никогда не видела).
Мне очень хотелось бы с ним много говорить, но я, после моего фиаско, несмотря на то что была начитанной девочкой, робела его. Обычно мы вместе с ним ехали в электричке из Левобережной, где я жила у него первые полгода, и он уже весь гудел от предстоящей ему лекции, поэтому я скромно глядела в окошко. Прожил он долгую жизнь, изредка я, отягощённая семейной жизнью, писала ему письма. Он каждый раз отвечал мне и всегда сильно подбадривал меня, говоря, что у меня хороший слог.
Жена его —красавица Люба – имела судьбу «своего» происхождения – глубокие дворянские корни, гонор, неудовлетворённость жизнью.
Дети – Павлик и Верочка – воспитывались в лучших традициях советского дворянства.
Они были детьми талантливых родителей, и от них ожидалось талантливое будущее.
Но ах, мне это не хочется вспоминать!
Верочка, знавшая в 13 лет множество стихов, учившаяся в английской престижной школе, окончила Институт тонкой химической технологии, потом изучала математику, философию, древнегреческий язык, мечтала работать в Английском посольстве, а вышла замуж за композитора, оказавшегося шизофреником, в конце концов стала сотрудником в канцелярии и издательстве Митрополита в Троице-Сергиевской Лавре.
А талантливый и любвеобильный в отца Павлик – успешный бизнесмен в области компьютеров.
Там, в Левобережной, был отличный лес! Мы ходили летом купаться в канале, зимой катались на лыжах.
В лесу даже находили грибы, но не менее часто там попадались парочки под кустами из близлежащего библиотечного.
Смотреть под эти кусты тянуло, но тянуло и холодком от страха – там явно было что-то «греховное».
Но настоящий среднерусский лес после якутской тайги был таким тёплым, приветливым, уютным, домашним.
Предполагалось, что я буду поступать в библиотечный институт, но дядя Миша отверг это, и я подала документы в Ленинский. Библиотека у дяди была огромная, но читать мне предписывалось только по программе. А там было даже редчайшее 90-томное собрание сочинений Толстого! А ещё наняли репетитора – старушку – по английскому языку, к которой я украдкой не ходила. Увы, я так и не выучила английский язык, более того, он мне даже не кажется языком, – так, какая-то система знаков.
Месяца через полтора приискали комнатку на Никитских воротах у старушенции, которая сдавала комнаты командированным богатеньким чиновникам из Якутского поспредства и от которых она, видимо, имела больше дохода. Поэтому меня выдворила без всяких причин, что мне было обидно.
И тогда приискали угол у больной старушки на улице, параллельной к Якиманке, забыла её название – напротив Литературного музея. На этой квартире я единственный раз в жизни встретила Новый год совсем одна. Это был 1962 год.
Помню, Папа как-то пошутил – «Иду, вижу знакомую щепочку, – значит, – моя улица!»
Вот и я так же «обживала» Москву.
Полюбила Левобережную с её дубовой рощей у станции, полюбила институт, который стал моим домом, полюбила Никитские Ворота и Арбат, Консерваторию, Цветной бульвар. Я всегда носила с собой свою боль, которой не могла ни с кем поделиться, поэтому я всегда была одна. Вернее, у меня были близкие подруги, но я была всегда
ВНЕ коллектива. Всегда – с детства и до старости.
Студенческая группа наша была хорошей, но ни с кем я не сблизилась.
На лекциях мне часто было скушновато. Ведь лекция – это растиражированное знание, в ней нет открытия.
А мне хотелось, чтобы было как в музыке – вот здесь и вот сейчас – и больше никогда.
И даже то, что казалось импровизацией, как на лекции у Ревякина, было повторяемо каждый год каждому первому курсу.
Бывали у нас бурно проходящие комсомольские собрания, где, как обычно это бывало, к концу каждый кричал своё. Предметов обсуждения было два – 1.критика комсомола и 2.как улучшить работу комсомола.
Я была постарше остальных девочек на два года, потом я была из семьи репрессированного Деда, и Папа сидел, и дядя сидел, и Мама очень презрительно называла красный галстук – «собачья радость», поэтому к комсомолу у меня было полное презрение. И когда наша комс. ячейка стала привлекать меня к общественной деятельности, ну, правда, используя моё некоторое муз. образование, а я из деликатности не смела отказаться, вдруг подвернулась возможность перейти в другую группу, которую надо было укрепить после отчисления после первой сессии пяти студентов.
Я и перешла в другую группу, а она уже за полгода тоже сформировалась, и я в неё тоже не вросла. Так я и оказалась в полном, вполне удовлетворяющем меня одиночестве.
Благо, в институте было много роялей, куда я и сбегала с лекций от всех.
Но мы охотно ходили на лекции Владимира Турбина в МГУ, собиравшего огромные аудитории на лекции по Гоголю, Лермонтову и Достоевскому.
Это была школа литературоведения.
Один из наших институтских лекторов – Геннадий Петрович Пирогов – очень любил возить курс по Подмосковным лит. Музеям. Мне очень нравилось в Абрамцеве, там была чудесно живописная природа, и казалось, что каждое деревце, каждый овражек и пригорок много раз написан маслом или акварелью. А в маленькую церковь вообще входили с благоговением оттого, что она расписана Врубелем!
И ещё мне очень запомнилось Ашукинское – имение сначала Баратынского, а потом Тютчева. Они по какой-то там линии были родственниками. Дом был выстроен по проекту самого Баратынского. Я очень хорошо запомнила внутреннюю архитектуру дома. Там сохранялись подлинные интерьеры, все эти диванчики, столы и кресла, картины, горки с посудой, даже воздух в комнатах был будто тот же, и иногда казалось, что вот из соседней комнаты выйдут хозяева.
Я в те годы много ходила на симфонические концерты – в Консерваторию, в Концертный зал Чайковского, в Колонный зал. Мне казалось, что вот там и было моё настоящее место.
После концертов бывало так, что мне казалось, ноги мои не касаются земли, меня продолжало нести на звуковых волнах.
На последних курсах я стала заниматься у Михал Максимыча в художественной студии.
Рисовали сначала с гипсов – носы и профили с греческих статуй, потом очень нравилось делать быстрые наброски-зарисовки – вставали сами же и позировали, и нужно было набросать мгновенный портрет, интересно было заниматься линогравюрой, вырезать рисунок на линолеуме, а потом печатать. А осенью и весной ездили на этюды всё в то же Подмосковье писать маслом. При всём моём безденежье я купила себе этюдник, кисти и краски.
Нет, надо, чтобы молодость была намного, намного длиннее!
Влюблённостей у меня никаких не было, душа была полна и без них.
Я любила бродить по Москве, и мы много гуляли, смотрели, впитывали её с чтением стихов, с музыкой «в башке». Однажды весенней тёплой ночью прошли почти всё Садовое кольцо. И нам в голову не приходило чего-нибудь бояться.
Институт был девчачий, мальчишек было немного, но почти с каждым из них я дружила на разной почве. Но это уже совсем другая тема.
Как я любила всё это!
И как мне не хотелось уезжать!
И как это всё резко прекратилось, и я оказалась учительницей в далёкой вологодской деревеньке.
Но это уже совсем другая история. И о ней у меня уже написано.
Сегодня Стёпа спросил у меня, как я представляю себе вектор времени?
И я, подумав, ответила, что я стою сбоку, в стороне, и смотрю, как оно протекает мимо меня слева направо. То есть – «созерцаю».
Дневники
21 февраля 2010 ПИШЕТ DITYASEVERA
Солнце, как известно, является источником света, тепла и отрицательной энтропии. А еще оно живет собственной интересной жизнью. Например, совсем недавно по астрономическим меркам наше светило вошло в фазу минимума активности. И весь прошлый год, пока на планете пересчитывали деньги, продолжались его попытки войти в новый цикл.
В начале года не подавалось никаких признаков. 8 апреля, правда, случился пожар. 7 мая появились первые мощные активные области. 23 мая отметили было формирование южного полюса активности. Но звезда дотянула только до 11 июля, после чего провалилась в один из самых глубоких минимумов за последние 160 лет. 20 сентября начался третий штурм, но в конце года озадаченные астрономы заговорили о том, что все могло быть тщетно.
Если в первой половине 2010 года активность Солнца вновь вернется к минимальной, можно будет говорить о глобальном сбое солнечного цикла. Кстати, понедельник 8 февраля стал одним из самых активных дней за последние несколько лет, а в пятницу 11 февраля произошла мощнейшая вспышка. Держим лопаты?
20 ноября 2010
Душа и Лирический герой
Мне подумалось сейчас, что мы и живём только своими лирическими персонажами. Более того, то, что мы называем словом Душа, и есть наш Лирический герой, и поэтому я и уверена, что душа наша распадается после смерти на составные элементы так же, как и тело, поэтому мы и стремимся запечатлеть её каждый в чём может, чтобы она осталась жить хоть немного после нас. Лирическая героиня совершает главные поступки в нашей жизни – влюбляется, ищет, находит, теряет, летает и падает, мучается и веселится, но даже и то, как мы варим суп, как мы одеваем своё тело, как ходим, разговариваем, – делает Лирическая героиня.
Мне неважно, если я открыла велосипед – важно, что я его открыла.
Недавно, разговаривая с Колей о том, как наследуются свойства личности, мы оба были не удовлетворены только генетической эстафетой.
И понятие «душа» – ну какое это понятие? Никто не имеет ни малейшего понятия об этом. Просто говорят «душа», да ещё – вечная. Скепсис и материализм никак не хотели смиряться с этим.
Да, а вот сегодня всё сложилось довольно внятно.
Часть личности, и довольно большую, мы действительно наследуем от родителей – в виде психологического типа, наблюдаемого эмпирически.
Часть личности исподволь незаметно для нас воспринимается из Кайзерсашерна – у каждого свой Кайзерсашерн. Это из «Доктора Фаустуса» Т. Манна, там его герой композитор Леверкюн был родом из Кайзерсашерна, и оттуда он впитал песни скотницы Ганны, герметические увлечения своего отца, вообще весь уклад родного дома, который мы носим с собой всю жизнь и по возможности воспроизводим его в своей жизни. Так у нас в семье и прижилось это – «Кайзерсашерн».
И главная, может быть, часть нашего Я складывается из того, что мы читаем, слышим, видим, что нас окружает – в пору юности. Нам кажется, что это уже «готовое Я» интересуется чем-то, а на самом деле – то, что меня окружает, и формирует мою Лирическую героиню. Об этом я и раньше читала у Лотмана, он говорил, что Лирическим героем молодых декабристов был римский патриций, Лирический герой разночинцев складывался из подражания Рахметовым, Лопуховым-Кирсановым, а уж об эпидемии декадентского Лирического героя Серебряного века и говорить нечего. То есть Лирический герой – это продукт воспринятой культуры. Только мы не хотим ТАК относиться к этому, гораздо более лестно думать, что не нас формирует культурное окружение, а МЫ – выбираем. И слава богу, этот формирующий фон у всех разный, как и генетика, и Кайзерсашерн.
И вот, по-моему, то, что сформировалось в юности, и есть то, что мы называем Душой, а я теперь – не иначе как Лирическим героем.
И он действительно не меняется, только возраст меняет. Но мы продолжаем жить всё с теми же идеалами, которые осели в нас когда-то. И узнаём коней ретивых по каким-то там таврам.
Лотман сказал, что «человек – это модель мира». А я говорю, что человек – это его Лирический герой. И вот, возвращаясь к нашему 40-летнему браку с Н.В. – ведь это роман, который мы пишем с ним, и в нём два Лирических героя, и иногда после утренних разговоров я констатирую: «А ведь роман-то наш с тобой продолжается! Хоть и старые мы совсем…»
Событие-то какое – я теперь могу обходиться без Души, прекрасно одним Лирическим героем.
Тут же стала думать о Лирическом герое Стёпы, Пети. Стёпа у меня ближе к Джеку Лондону, а Петя – к Гофману.
Ноябрь 2010
Сложные отношения с прошлым
Отстоял тихий прозрачный октябрь. Дворники не спеша сгребали граблями уроненный урожай потемневших листьев и собирали их в большие пластиковые мешки, а потом увозили куда-то.
И вот тут, под неохотный шум дождя я решилась, наконец, написать то, что давно просится. Собственно, ничего особенного.
Дело в том, что мне попалась в руки небольшая, величиной в ладонь, книжка кое-каких воспоминаний Фаины Раневской под названием «Судьба-шлюха».
(Сама она любила говорить «Фортуна – б…). Это, скорее, не воспоминания, а отрицание воспоминаний, Раневская в нескольких местах повторила, что она несколько раз пыталась написать книгу воспоминаний и каждый раз рвала исписанные тетради.
А то, что собрано в этой маленькой книжице, похоже на какие-то каракули то ли на квитанциях, то ли на трамвайных билетах, то есть на каких-то случайных клочках бумаги, на которых мы что-то наспех записываем, чтобы не забыть.
Я сейчас нарочно не стала заглядывать в книжку, чтобы написать о том, что само осталось. А остались в памяти большая усталость от жизни, множество неприятных людей и просто мерзавцев, иногда они называются своими именами, иногда угадываются, осталась неудовлетворённость своей творческой судьбой, осталось обвинение режиссёров в том, что мало давали ролей, а те, что были – маленькие и эпизодические, остались постоянные жалобы на своё одиночество. Да, так, наверно и конечно, и было.
Но! Раневская писала эти заметочки, будучи уже старушкой после семидесяти, и вот видно, что ей больше нечем жить, кроме воспоминаний, – а они все грустные или озлобленные.
И вот душа моя восстала. Если, допустим, жизнь сложилась не самым удачным образом, а так чаще всего и бывает, то и не надо помнить и вспоминать эту жизнь, отравляя небольшой уже кусок её отжившими, потемневшими, искажёнными временем отражениями.
20 ноября 2010
Cевер
Север – это всегда окраина, окраина любой империи.
Это так естественно – плодиться и размножаться в тёплом климате. Чем дальше на север, тем меньше людей.
Один француз решил пройти по побережью Северного Ледовитого океана от Норвегии до Берингова пролива – один, только с собаками. И прошёл. За два года.
Пусть читатель посидит и попредставляет долгую полярную ночь, летние разливы рек и общее для севера болото на льдине вечной мерзлоты. И вот он приходит к человеческому жилью. Люди для него и он для них – прекрасны! Это самое прекрасное, что он видел.
Мне скажут: «Ты призываешь уйти в ледовитое одиночество или, в крайнем случае, к почти первобытному существованию в якутском чуме».
Но всё-таки тут акцент другой – тут постоянный контроль природы: помнишь ли ты, где ты живёшь, помнишь ли ты, как нужно себя вести в мною (природой) предлагаемых условиях? Ты, человек, не один, я, природа, всегда с тобой, нас двое. Никакой нравственный закон не смог полностью заменить законы природы.
Может быть, и нет такой уж большой разницы между ними, но закон природы звучит громче и понятнее. Поэтому северяне в большой степени атеисты, христиане они только на поверхности, сколько-нибудь прижился скорее наиболее прагматический протестантизм, чем требовательный католицизм.
И поэтому так отчётливо заметна «инакость» северной культуры в общем существовании европейской культуры.
Поэтому так удивительно в рассказах Туве Янссон – современной писательницы ХХ века – то, что её неведомые зверюшки живут как будто не по взрослым законам.
Хомса Тофт маленькому брату, который не хотел играть в «войнушку»:
– Ты так скоро станешь взрослым. Станешь, как папа с мамой, – и так тебе и надо! Ты будешь видеть и слышать, как они, а значит, ничего не увидишь и не услышишь. Они как бы проводят черту и говорят: вот по эту сторону находится всё то, что правильно и хорошо, а по другую – одни глупости и выдумки.
Сегодня, проверяя очень постаревшие свои воспоминания о севере, мне показалось, что там что-то с небом не так, вернее, с солнцем.
Вспомнилось мне, что даже в самые горячие денёчки солнце там не светит прямо в макушку, а всё как-то сбоку. Ну, конечно, это же север. Даже летом оно походит вокруг горизонта, опишет дугу, вроде бы и долго на небе, но всё не в полную мощь.
И тогда мне пришла в голову понравившаяся мне мысль, что север – это родина Осени.
Осень – предзимье. А лето там короткое, за него надо много успеть. И вот даже весна похожа на осень – все растения цветут разом, за две недели надо отцвести и скорее приниматься за плоды и семена.
Известно, что люди, побывавшие на севере, прикипают к нему душой. Что за загадка? Я и подумала, что ведь людям так же свойственно любить осень, может быть, потому и любят, что вообще-то север – это, конечно, зима, мрак и холод, Но время тепла для них – это предчувствие зимы и интенсивное наслаждение каждым днём, который ещё не зима.
И у Ибсена и Бергмана есть люди Зимы и люди Лета, замороженные и буйно цветущие. Весь эффект в «размораживании» – обмороженные щёки при согревании сильно болят. Это так больно – переставать быть холодным!
С холодным человеком общаться неприятно, но и с оттаявшим страшно – замучает своей болью. Нет, нет – подальше от всех, так безопаснее и здоровее!
Слава богу, наступает зима, можно будет подольше сидеть в одиночестве.
Но ведь сидишь, а заснятое мозгом «кино» прокручивается, внешние сиюминутные впечатления не прерывают его, и тут многое может сложиться, умноженное на самого себя, и разделённое на самоё себя, и причудливо ответвившееся от самого себя. И человек ревниво таит себя – это МОЙ мир, созданный только мной, и никем не может быть понятым, и храню я его в холодильнике!
Что же достаётся другому? Рядом живущему? Может быть, уважение к ЕГО миру? Сохранение дистанции?
Приветливости и тепла ровно столько, чтобы «не разморозить»?
Что остаётся от северных людей, когда они размораживают себя водкой? Не одна ли слякоть, мутная лужица?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?