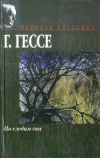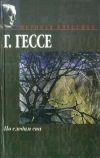Текст книги "Ангелоиды сумерек"

Автор книги: Татьяна Мудрая
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Воровато оглядев сад и посмеиваясь в душе, он перелезает через подоконник и ласточкой прыгает вниз с четвертого этажа викторианского замка. Приземляется в клумбу с асфоделями, оборачивается и машет рукой своему отражению в высоком окне холла: коротко стриженная светлая шевелюра, волевой подбородок, прямой нос, нежные темно-карие глаза, в каждом из которых – двойной зрачок.
Глаза вампира. Очи оборотня. Зеницы андрогина.
Ламия. Ларва. Гуль».
* * *
В тот вечер Мария снова пришла к нам ночевать, из чего я заключил, что испытания мои еще не кончились.
Правда, на сей раз Хельмут уговорил ее разделить с нами ужин – какой-то особо полезный морковно-тыквенный коктейль, над которым во время созревания играли сплошь классическую музыку. Именно так он выразился, а поскольку напиток обладал небольшим градусом, догадаться, что Хельм понимал под созреванием или вызреванием, было нелегко. Возможно, сам овощ, но может быть – переход сока в сусло, а сусла – сами понимаете куда.
Разумеется, мы трое мимолетно захмелели. И, естественно, я снова попытался быть галантным.
– Пабло, я чувствую себя так, будто уклоняюсь от прямой обязанности, – без обиняков объяснила мне моя девочка. – Это ведь просто – ну, скрещенья всякие. И сплетенья. Только я не хочу тебе помешать найти свою часть символа. Половинку монеты, если так понятней. Жена – это не та, с которой занимаешься сексом. Не та, что родит тебе хороших детей. И не та, которую понимаешь с полуслова.
Я хотел отчитать Мари за романтические бредни и уверить, что без ее горячего согласия и не подумаю к ней подрулить. Но потомственный лорд во мне сказал во всеуслышание:
– Кажется, я понял. Когда нас тысячи, а не миллиарды, почуять свою наречённую гораздо проще, особенно если твою ментальную силу не забивают никакие помехи. А как ты думаешь – она есть, моя женщина?
– Нет, так родится еще, – пробормотала она в полусне, утыкаясь носом в блузу Хельма. Я даже не представлял себе, чтобы сумра могло разобрать с такой пустяковины.
Потом мы разошлись по постелям – имею в виду, что Хельм уложил Марию к себе в кровать, а сам допил последнюю бутыль и устроился на пороге.
А моя жена, с которой меня так удачно познакомили лет десять назад, в ту ночь никому так и не приснилась.
Наутро Хельмута мы не застали – я так думаю, смылся от ответственности за содеянное. Травознатец он был известный, мог намешать в легальное пойло такого, что никакой вампир не догадается.
А жаль. Он так и не узнал, что между мной и Мари не произошло ничего толкового. Потерлись спинками, поцеловались хоботками, поприкасались носиком.
– Второй раз ведь не будет так хорошо, – сказала она. – А ты не жадный, ты легко сможешь вытерпеть и без женских ласк.
Как следовало из прочитанного, в этот день мне предстояло научиться читать камни.
– Ну да, горы и холмы тоже пишут историю и рассказывают сказки, – сказал я, узнав от Мари ее замысел. – Только где эти горы? Рядом одни лишь рукотворные, так сказать. Конечно, в них много чего записано – слова о гордыне и величии, думы о грехе и упадке. Но мне ведь нужно не это, верно?
Благодаря способности ловить наши собственные мысли, отражённые в партнере, наша с Марией беседа мало-помалу становилась явлением чисто эстетического порядка.
– Так что, сведёшь меня к какому-нибудь злосчастному камнерезу типа Данилы-мастера? Или мы по-русски не играем?
– Почему так сразу «злосчастному»? Ты думаешь, Георгий Валентинович не счастлив сейчас наедине с самим собой и своими мыслями, посреди своих любимиц?
– По крайней мере, это довольно странное счастье.
– На свете вообще немало странного.
– К примеру, то, что мы с тобой можем учиться только на грани жизни и смерти. Левитировать – если нас сбросят с аэростата, например.
– Если выпить всё от дряхлого летуна, можно потом в него обращаться. Такое не оставляет в твоей душе страха, если птица крупная.
– Орел, кондор? Они всё-таки поменьше нас будут.
– Пабло, старшие сумры могут как-то сгущать своё тело, не увеличивая массы. Творить алмаз из графита.
Мы двигались по прежним улицам – чистым от народа и от мусора.
– Вот еще одно чудо этого мира, – сказал я. – Не механизмы же здешние поддерживают порядок и не силовики. Зараза ведь их косит наравне с прочими. Кстати, человечество уже выделило из себя золотой миллиард и вроде как не собирается на этом останавливаться?
Ответа не было по причине сугубой риторичности утверждения.
– Нет, Мари, я в самом деле не знаю, куда делась энтропия.
– Великая Мать соблюдает равновесие и живого, и мертвого. То, что умеет расти, дряхлеет медленней застывшего.
– То есть эти стены, башенки и даже мостовая немного живые? Только что не увеличиваются в размере. Типа живых консервов.
– Ты говоришь правильно, только грубо немножко.
По улицам ветерком сквозили колесные машинки. Одна затормозила рядом с прохожим, водитель отворил дверцу, и тот сел – очень спокойно.
– В госпиталь, – кивнула Мария. – Хоть какой-то шанс, по их мнению.
– Приближенный к нулю, – отозвался я. – Послушай, а эти, кто больше других продержался, – у них и шанец в сумры попасть тоже покрупней?
– Если и да, то ненамного. Они ни в чем не лучше погибших и не хуже. Только оптимизма у них прибавилось.
– Натуральным путём выживут только такие, как мы?
– В потенции, – Мари кивнула. – Воплощённые Сумрачники еще до Мора узнали друг друга и объединились ради своей защиты. Им же хотя бы свою бессмертность надо было скрывать.
Я мельком отметил еще один вариант самоназвания.
– Хм. Так что – мы ждем, пока природа решит за нас, или занимаемся выборочным спасением смертных? Методом простого тыка?
– Пабло, я не Википедия и не Книга Вампира. Только если бы Народ зациклился на альтруизме, погибло и рухнуло бы всё.
– Интересно, с чего тогда в этих смертных дурнях так взыграл оптимизм, – пробормотал я себе под нос. – И до какой степени.
– До такой, что некоторые ювелирные лавки открылись заново, – улыбнулась Мари. – Правда, под лозунгом торговли амулетами, но ведь амулеты должны быть красивы?
– Чтобы выдать себя перед церковниками за простую безделушку, – угадал я. – Амбивалентно, черт его дери. Так мы как раз туда идем?
– Именно.
На этих словах она толкнула ржавую створку ворот, еще со времен благоденствия перекрывших ведущую во двор арку, и мы вошли.
Вывеска над заведением принадлежала и в самом деле лавчонке, а не бывшему магазину: нарочито заржавелая и облупленная. Внутри, у небрежно застекленных прилавков, было на удивление много народу – человек десять, считая охранника и продавца. От Марии я понял, что здешние талисманы, по распространенному мнению, оберегают себя сами. Вору лучше с их силой не связываться.
– Мы к мастеру вот с этим, – проговорила моя подружка, достав из сумочки массивную брошь той же варварской работы, что и прочие изделия: черный кабошон внутри толстой платиновой спирали. Охранник, тощий и подвижный молодой человек? немного напомнивший мне меня самого, отворил низкую дверь, и мы оказались в мастерской.
Не знаю, почему меня так удивило, что здешние побрякушки изготовляет женщина – и очень привлекательная. Загорелое лицо в мелких веснушках выглядывало из широко лежащего на плечах платка, будто из рамы, глаза поверх снятых очковых «консервов» сияли как два полированных агата, нос и рот, закрытые до того плотной повязкой, были изящной формы. «По малахиту только что работала, у него пыль ядовитая», – тотчас передала мне Мария.
– Рада видеть вас обоих, – женщина слегка привстала и поклонилась. – Джентльмен хотел посмотреть заказ? Или надумал в подмастерья наняться? Ремесло у меня уникальное и, надо сказать, востребованное.
Что-то слишком часто меня зазывают в ученики, подумал я.
– Рады и мы, дама Асия, – поклонилась Мари. – С заказом мы не торопим, но зайти лишний раз полюбоваться всегда приятно.
– Это карбункул для будущей матери, помню, как же. Самый чудесный пироп, какой мне последнее время попадался, и вороненое серебро. Золото не так хорошо ценится и выглядит вульгарно: работать легко, яркость может забить красоту камня вместо того, чтобы подчеркнуть. И вообще серебро куда сильнее. Вы хотели такой амулет, чтобы можно было носить не снимая, – кольцо или браслет. Был выбран браслет в виде цельного обруча, чтобы не теснил руку. Однако полностью готов лишь камень.
– Но вы его не гранили, надеюсь? – спросила Мария.
– Нет, конечно. Идеальный кабошон, такие были в обычае веков семь назад, а ныне эта мода вернулась. Уловляет солнце и с ним играет, а не дробит огранкой в клочки. Олицетворяет кровь и огонь.
«Для Бет, что ли?» – спросил я Марию.
«Вот именно. Любит она такое. Иоганн в свое время подарил ей гранатовый ювелирный набор, содержащий чуть ли не пятьсот крупных камней, подобранных по оттенкам цвета».
«Ей? Я думал, Ульрике, что была его на шестьдесят лет моложе».
«Прими как сказку. Она – все его женщины сразу».
– А еще мы решили окружить пироп гранатами всех прочих цветов, кроме зеленого, чтобы магия камней не погасилась взаимно, – продолжала мастерица.
– Вот как? Я слыхал, что гранат славится своим многоцветьем. Почти вся радуга.
– Вообще вся, – ответила дама Асия. – Вот послушайте. Красные камни – царственный пироп, знак романтиков альмандин, отдающие розовым и фиолетовым розалит и очень редкий родолит – наделяют силой, помогают добиться любви, победить в бою и достигнуть вершин власти, защищают в путешествии.
Золотисто-желтые и оранжевые – яркий и переливчатый спессартин, скромный, с легкой крыжовенной зеленцой гроссуляр и похожий на него тсаворит, а также гессонит и румянцевит, что издали кажутся почти красными, природа предназначила людям упорным и трудолюбивым; они дарят стремление к переменам и помогают эти перемены осуществить, оживляют разум и ставят заслон унынию и скорби.
Зеленые камни, крупные кристаллы демантоида и мелкие щетки уваровитов, притягивают к владельцу достаток и способствуют началу нового дела. Приносят в семью умиротворение и лад.
Родолит и спессартин могут изменять свой цвет в разное время суток. Это гранаты-оборотни.
Но самые мистические гранаты – редчайший серо-голубой шорломит и черный, почти непрозрачный меланит. Мрачные талисманы колдунов и провидцев, они развивают интуицию и проясняют будущее, связывая владельца с миром усопших. И хотя вы, Мари, отказались от такого камня, я рискнула приготовить маленький, не иссиня-серый, но бледно-голубой лейкогроссуляр. Этот гранат с трудным названием хорош для родильниц – само имя его напоминает о молоке.
– Так, значит, гранаты в самом деле бывают голубыми? – спросил я. – Классики не врали?
– Природные – это как на них посмотреть. Но не так давно люди выучились окрашивать искусственные гранаты оксидом кобальта. Получаются красивые небесно-голубые камни.
«Но в таких не может быть памяти, – сказал я Марии. – Прав я?»
Женщины со значением переглянулись. Неужели обе они умели читать мысли? От Асии не шло никаких сумеречных эманаций. Хотя разве люди и сумры – не от одного корня?
– Не нужно ни показывать нам заготовки, ни смотреть вещицу, что я взяла как оправдание визита, – сказала Мари. – Дама Асия, принесите ту коробку с самыми разными гранатами, в которой я копалась. Лишь бы среди них не было примеси иных камней. И пусть Пабло закроет глаза и выберет среди них свой.
Снова меня взялись натаскивать, подумал я так скрытно, что женщины вроде как ничего не заподозрили. – И обучать. С чего я так поддаюсь девочке, если сама она… А уж лекция была – прямо поэма в прозе. Остряки эти геологи – такие названия придумывать. Лейкозокуляр какой-то…
В этот самый миг явился ларчик – именно такой, как я представил себе из той повестушки. С высокой, шатром, крышкой и россыпью блестяшек внутри.
Потом мне завязали глаза (сразу вспомнился Хельмутов платок из фуляра) и сунули правую руку внутрь.
Самоцветы не излучали, как книги. Это было скорее как оплотненная музыка, ее теплый аромат, может быть, дурман. Или калейдоскоп образов, который я ощущал под рукой – клубки нитей, цепочки искр, что разматывались и уносились вдаль по своим сложным траекториям.
Ощущал – но не проникал внутрь. Они таились от меня, эти камни.
Однако я всё сильней чувствовал, что под моими пальцами нечто переливается, как опал или александрит – изнутри наружу. Переполняет свой сосуд через край и выплескивается. И что уже есть центр этих движений – то, что не излучает, а впитывает.
И когда я нащупал его, я это вынул. Зажал в пальцах – крошечное и жгучее.
Женщины удовлетворенно рассмеялись. Кто-то из них стащил повязку, и перед моими освобожденными глазами, в моей протянутой руке сверкал слиток чистейшей синевы – размером с горошину, но такой яркий, что заполнял собой всю комнату.
– Голубой карбункул, – произнесла Асия с благоговением. – Его цвет меняется и густеет в полутьме, когда его пустота вбирает в себя чужую наполненность. Однако на сей раз он превзошёл самого себя.
Пока отдайте его мне, риттер Пабло. Рисунок для оправы кольца я подберу легко. Белое золото, наверное? Для тёмного серебра или чёрного железа вы слишком молоды.
Я понял из ее слов, что чем более уважаем Сумрачник, тем более простой металл идёт на его ритуальные знаки.
– Так это самодельный камешек? – спросил я Марию, когда мы бодро поспешали домой. – Пересотворённый?
– Как и ты сам, – ответила она. – Потому-то мы с посестрой так и радовались. Ты выбрал достойный амулет и славную судьбу.
– Посестра?
– Названая сестра. Мы с ней подружки и ровесницы: обеим хорошо за сорок. Только я еще девчонка, а она уже вдова. Весьма уважаемая.
На это я так ничего и не смог ответить. Слишком удивителен был тот потайной мир, куда меня ненароком занесло из моей погибельной вселенной.
– Я совершал над тобой обряд раскрытия силы, только пожёстче обыкновенного, – сказал Хельмут, разглядывая моё кольцо. – Как над теми Древними, кто чувствовал себя жутким грешником. Сплошная импровизация, однако. – Только твоя Мари уж так импровизирует с ритуалом утверждения в этой самой силе… Хотя и ты необычный. И результаты неожиданные. И само колечко.
По ободу последнего были вырезаны объемные фигурки людей, зверей и птиц, которые, соединив руки, лапы и крылья, заплетались в причудливый хоровод. Зеленовато-голубой кабошон был высоко поднят на этой толпой и зажат как бы в клюве гигантской птицы, отчего находился в тени. Оправа позволяла угадать краешек глаза, но сам Симург пребывал лишь в воображении того, кто смотрел на перстень.
– Хельм, а кто такой Симург?
– Иоганн объяснял. Вроде такая птица, что состоит из тридцати разных. Крылатый царь мира, в общем, и соединённая разумность.
Да, теперь я понял или вспомнил. Знание этого стояло неподалёку от меня – родильный браслет Беттины также использовал похожую символику и был не менее красив. Я удивлялся, как быстро дама Асия с ее прислужниками задумали и выполнили такую тонкую работу. Цвета малых гранатов как бы непрерывно перетекали один в другой, отражаясь в центральном камне и принимая в себя его багрянец, чернь змеилась по тусклому, будто старинному серебру, широкий обруч изображал виноградную лозу, где еле проклюнувшиеся почки казались чешуями. Кисть Беттины с неким трудом проделась в оберег. Мне сказали, что когда она родит, браслет сломают и переплавят, а камни используют на украшение другой женщины.
– Жалко, – сказал я. – Это суеверие такое?
– Суеверия тоже возникают не на пустом месте, – ответила мне Делия, матушка Марии. – Опасные для плода эманации копятся внутри камней и меняют структуру металла, их приходится распылять. Ну ничего, за два года Беттине самой надоест красоваться в одном и том же.
– Два года? – я ужаснулся.
– Чем мы лучше слонов? Даже в среднем они живут куда меньше нас.
Также я узнал, что, поскольку время движется для них быстрее, урожденные сумры сохраняют детскую непосредственность чувств и жадность к новым знаниям куда дольше человека. Это отражается на внешности, но не на моральных и душевных качествах.
– Пабло, – спросила вскорости Мария, – какую из трёх книг, что тебе достались, ты считаешь главной?
– Во всяком случае, мы отыграли историю о камушках. А больше ничего не знаю.
– Хитришь.
– Верно, – я улыбнулся. – Мне так нравится, когда я слышу подтверждение своих мыслей от кого-то другого. В особенности от тебя.
Моя девочка покачала головой:
– Настанет день, когда я перестану тебя учить. Можно сказать, уже нечему. Ну да, я умею куда больше и знаю гораздо больше фактов, но такое любой разумный добывает сам и в одиночку. Тогда Волки и Беттина окончательно возьмут тебя. Хотя это получится не скоро, но они уже просили уступить им один день.
– Какой?
– Завтра. Им понадобится свежий ментал без предвзятого мнения о своем умении.
– Я пока не в их клане.
– Это все равно. Ведь и не в моём, правда?
– А какой у вас тотем? Хельм говорил – медведь.
– Панда. Сумры его называют «медведь-нянька», оттого что мать повсюду ходит с детенышем на сгибе одной руки… передней лапы, то есть.
– Очень мне лестно. Так как насчет смысла моей судьбоносной книжки?
– Понимаешь, детективные истории – это для нее лишь рамка. А главное – «Робинзон Крузо». Ты слыхал, что и прототип книги Дефо, история матроса-бунтовщика Селкирка, который был высажен на необитаемый островок, и она сама шли по разряду душеполезного чтения? Неудивительно, что дворецкий гадал по ней, как по Библии.
– Песнь торжествующего капитализма, – пробормотал я. – Учет и контроль, дорогие товарищи. И апология превосходства белой расы в придачу.
– Сразу видно, какие у тебя были учителя, – отпарировала Мария. – А что это была не первая, так сказать, робинзонада, ты слышал?
– Говорили мне, что вся ученая христианская Европа в Средние века и особенно в семнадцатом веке читала книгу одного философствующего врача из мусульманской Гренады. Того самого, что воспитал великого еретика и властителя мыслей Аверроэса. Абубацер, – произнес я почти что былинным тоном.
Ибн-Рушд и Абу-Бекр Ибн-Туфайль, – поправила она.
– Говорили мне также, что это книга о постижении своей самости, а также смысла жизни и Бога, что и есть этот смысл, – предпринимаемом в одиночку.
– Селкирк же лишился дара устной речи, – кивнула Мари. – Робинзона от этого спасли попугай и Пятница. Но такая речь, по сути дела, ничего не значит.
На этой фразе я уже начал смекать, что к чему, хоть она от меня закрывалась.
– Приключение, – ответил я ей. – Похожее.
– Наверное. Оттого Волки, все пятеро, и просятся с тобой побеседовать.
Они явились рано утром и вызвали меня в коридор. Трое мужчин и мать моего сына: бытие последнего было видно невооруженным глазом.
– Пабло, с чего нам начать – с горького или со сладкого? – сказал Амадей.
– Я ко всему привычен, судари, – шутовски поклонился я.
– Тогда начнем с горького. Мы сей же час отправимся на здешние братские могилы, – ответил он. – Если их позволено будет так назвать. Гигантские морги. Склады. Места, откуда централизованно (он прогнусавил этот канцеляризм) поступает сырьё. А ты снова должен будешь учиться.
– Кто я, чтобы отказывать, – ответил я. – Пойду, разумеется. И колечко своё не забуду – оно так плотно село на левый средний палец, что уж и не снимешь так просто. Да, а что там на сладкое?
И тут вперед выступил Иоганн, протягивая мне перекинутый через руку дафлкот.
– Вот. Должен сидеть как влитой. Знак принадлежности к аристократии.
– Друзья, Мари ведь считает, что на улице жарко и вообще демаскирует.
– Там, куда мы двинемся, жарко не будет никому, – ответил Амадей.
– А Беттине?
«Черт, она же мать, – хотел я крикнуть. – Куда уж ей такое».
– Это затевается ради ее самой, – сказал он.
…Пятеро в бежевых верблюжьих куртках с капюшоном вышли из подвальной двери Политехнического Музея и деловито зашагали по улице вверх.
– Сегодня в самом деле надо, наконец, разобраться с этими… источниками даровой электроэнергии, – сказал Амадей. – И с кулинарными фабриками. Раньше стоило бы, только остатних человечков жалко было питания лишать. Двух ментальщиков, я думаю, будет довольно. А ты как считаешь, Пабло? Меня и тебя. Остальные будут на подхвате.
III
Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьёт, печален и суров.
В его больших листах я дам приют уму,
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли
И ты причастен был к сознанью моему.
Н. А. Заболоцкий. Завещание
Мы направились в другую сторону от нашего общего дома, чем обыкновенно, и развернулись шеренгой, заняв всю ширину тротуара. На опустевших улицах это выглядело странно, чтоб не сказать большего.
– А где полиция? – спросил я.
– Где прошлогодние снега, – наполовину скандировал, наполовину пропел Волк Гарри. – И все остальные человечки. Не все, однако, вымерли, просто многие переселились. Это ведь только поначалу кажется, что в городе выживать легче. В селе и воздух чище, и воды хватает, и подножный корм сугубо вегетарианский.
– А этот… высокобелковый. Он есть? Незаменимые аминокислоты, – спросил я.
– Есть. Они сами, – коротко ответил Амадей. – Но если не наступать в явное дерьмо и не уклоняться куда не следует, жить там практически безопасно. Диким собакам и медведям двуногие пока безразличны.
– Более того, – прибавил Иоганн. – Первопроходцы с изумлением обнаружили, что те из них, кто ещё не заболел, не подвержены общей заразе. И младенцы у них рождаются хоть редко, да метко: здоровыми. Расселяются человеки, между прочим, широко, опасаясь нового поветрия. Это нравится окружающей среде.
Мы двигались теперь по одному из широких и, так сказать, авантажных проспектов города – тому, где в прежние годы находились самые главные больницы страны. Многоколонные фасады в стиле ампир, разросшиеся парки за коваными решетками, гранитные глыбы с фигурами основателей – и ни единой живой души. Окраска осыпа́лась без единого звука, сухая листва прошлого года лежала влажным неподвижным слоем, ржавчина под сурдинку грызла железо и чугун, деревья казались вычеканены из старой бронзы. Только ветер жил здесь по-настоящему. Он упруго ударял в колокола монастырской звонницы, чьи мелкие луковки поблёскивали в перекрывающей улицу тёмной массе.
– Нам сюда, – произнёс Иоганн, поворачивая в переулок. Очередной монумент стерёг небольшое зданьице с колоннами, вполне приличного вида, что стояло в стороне от общей парадной шеренги.
– Морг, – сказали мне коротко. – Брошен без персонала.
Из узкого старомодного вестибюля лестница сразу поворачивала вниз и останавливалась перед окованной цинком дверью.
– Погреб и, натурально, холодит, как в погребе, – объяснил Амадей, возясь с тугой щеколдой. – Температуру держат реостаты, а энергия, естественно, поступает от своей тепловой электростанции. Благодаря автоматике – бесперебойно. Это пока без перебоев.
В полутёмном зале стояли каталки и лежаки, на моё счастье, порожние. Морозильник находился за другой дверью, что вообще не была заперта. Как говорили раньше, уж эти не сбегут.
– Стратегическое сырьё, – подмигнул Амадей. – Уж как монахи протестовали первое время! Похищать пробовали, это уж потом заразы испугались.
– А ее не было вовсе, – кивнул я. – Люди ведь не книги.
– Книги – и то были обвинены облыжно, сам знаешь, – кивнул Иоганн. – О том, что вирус действует по своей личной прихоти, догадались позже. Сначала пытались жечь тела или проваривать в уксусе, потом поняли, что мёртвые вообще безвредны. Мор идёт от живого к живому.
– И оттого было решено рационализировать утилизацию, – подхватил Амадей. – Уж коли технология заготовки маринадов всё равно отработана.
И он, нарочно фальшивя, запел:
– «У людей-то для штей с солонинкою чан, а у нас-то во штях удалой таракан».
– Не изображай гаёра, – оборвал его Иоганн. – Бет…
– Что – Бет? – ответила она спокойно. – Не забудь, что я присутствовала не при одном случае самовозгорания двуногой армейской тушёнки. И наблюдала конечный результат процесса. Ты лучше воскликни «Пабло».
– Ладно-ладно, – махнул он рукой. – Всё равно тебе оставаться здесь с Гарри. Я же удалюсь наружу. Так будет спокойней для всех.
И мы разошлись.
За обитой цинком тяжелой дверью были ряды закрытых прямоугольных ячеек, похожих на личные хранилища в банке – разве что без замков, даже висячих, и покрупнее. Пустые петли кое-где были закручены проволокой.
– Первое время покойников сразу же сбрасывали в ров и засыпа́ли негашеной известью, как братскую могилу моего…гм… прототипа, – пояснил Амадей. – Позже обходились без лопаты и экскаватора. Сглаживали таким манером естественные впадины между холмами, на которых возведена столица. А еще позже было замечено, что процесс их сгорания имеет очень высокий КПД и почти не нуждается в затравке.
Эти горько-циничные излияния он направлял не мне, но аккуратным рядам дверец. Я молчал. Нет, я прекрасно понимал, что теперь последует, да и зрелище было для меня привычным, только здесь была не обочина жизни, как в больнице. А самое что ни на есть средоточие.
– Кое-кто судачил, что здешних обитателей ставят стоймя, укладывают в штабеля или запихивают по двое-трое в одну ячейку, – продолжал Амадей в том же духе, из-за которого мне хотелось как следует заехать ему в физиономию. – Есть такие большие, с комнату, холодильники с нарами. Чушь: они бы смерзлись намертво, как пельмени в пакете, тут уж не до конвейера. Когда трупам нашли промышленное применение, их стали беречь.
– Волк, – не выдержал я, наконец. – Есть смысл с том, чтобы меня так дрочить? Если есть, я выдержу и не стану к тебе прикладываться.
Он расхохотался.
– На всё есть причина. Весь вопрос – какая. Вот тебе наводящий вопрос: кто в самом начале шёл в здешние мортусы, не боясь заразиться?
– Мортусы. Те, кто возил чумные трупы во времена Екатерины. Пойманные воры и бродяги. Всякая отпетая шваль.
– Становится тепло, однако, – усмехнулся он. – Кто в твоё человеческое время подходил под эту категорию?
– Неужели… Да. Такие, как ты?
– Конечно. Иногда рекрутированные из политических психушек. Чаще добровольцы, принадлежность которых к нелюдям никого не волновала. По той причине, что уж не до того было. Позже и смертные перестали бояться – зря, кстати. Профаны ведь о нас не догадывались, думали – просто везёт, что не болеем.
– А зачем?
– Задав такой вопрос, ты уже знаешь на него ответ.
– Не ради таких, как я. Ради того, чтобы читать. И – не одних умирающих?
– Именно. Это по-простому называется «некромантия».
Тогда я понял, что все наши словопрения были нацелены на одно: привлечь внимание. Что жизнь из этих ледышек не ушла совсем, а была лишь остановлена. И теперь тянется к нам, как мотылёк к жа́ру и свету – возможно, чтобы сгореть в них.
Нет: так они тянулись к одному мне, и из одного меня сделали приманку.
Дряхлые лоскутки самого разного цвета отделялись от невидимых тел и тянулись вереницей, падая на дно моего камня. Истории жизни, почти ничем не отличимые одна от другой – не ду́ши, нет, а только воспоминания о том, что случалось с ними, те мелкие беды, заботы и радости, подвижки к воображаемой цели, победы и поражения, симпатии и неприязнь. Это было их достояние, их знание мира: оно жаждало собеседника, хотело высказать, отдать себя – вернее, ту фальшивку, которую считало собой. Оно выглядело как зыбь на поверхности виртуального моря; оно струилось, завивалось в пёстрый поток, перехлёстывало через грань и могло бы погрести Андрея с головой, но я уже им не был.
Я чувствовал, как Амадей рядом со мной и Гарри с Беттиной совсем неподалёку перехватывают поток, снова расплетают на пряди и вбирают в себя его часть.
А потом в этой мути сверкнула острая золотая искорка – и скользнула в утробу нашей Бет.
– Они были здесь все, – сказал я, переведя дух. – Со всего города, я так думаю, всех моргов и кладбищ. Они всё время общаются, пока душе есть к чему прицепиться – эти псевдолюди.
– Псевдодуши, – поправил он. – Где ты увидел людей? Алчные и эгоистичные пираньи. Все на новенького, ха!
– Не все. Та искорка была совсем другая. И она не использовала меня для транзита на тот свет, а осталась на этом. Я правильно почувствовал?
– Да, это результат промывки грунта, можно сказать.
– Душа для моего ребенка?
Амадей отрицательно покачал головой.
– Ты не понял или побоялся понять. Души, которые даёт Он, – огромные и касаются здешнего бытия лишь самым краем. Приходят сюда, чтобы играть и учиться. Видеть результат своих действий, умных и нелепых, хороших и дурных. Наряжаться в свои выдумки и в свой телесный опыт.
– Это тело, что подарило себя, – можно хоть его увидеть?
– Что же. Как говорится, по счастливой случайности оно здесь. Не испугаешься?
– Чего?
– Сами не знаем. Сюда пришли, руководствуясь интуицией, тебя привели по той же зыбкой причине, теперь и остерегаем по тому же самому.
Он рывком оборвал свинцовое грузило, которым были запечатана продетая через петли проволочка, распахнул одну из дверец второго ряда и вынул из дымного холода нагое женское тело.
Нет, голым оно не казалось – лёгкая изморозь делала его похожим на снежную статую в зимнем парке, а такие фигуры почти всегда целомудренны. Вытянутые пальцы ног с округлыми ногтями, худощавые бёдра с кустиком белых волос между ними, аккуратный прямой шов от паха до грудины, чуть расплывшиеся от долгого лежания на спине сосцы, шея и лицо, почти закрытые всклокоченными седыми кудрями…
Тёмное пятнышко на правом виске и глубокий провал в затылочной кости.
В объятиях у Амадея пластом лежала моя Эли.
– Нет, не думаю, – ответил он на мой безмолвный вопль. – Успокойся, по крайней мере. Ты же, когда отключался, видел иную траекторию пули. Бог мой, да разве мало людей кончает с собой, узнав смертельный диагноз?
И разве мало таких, кто седеет до времени во время допросов или врачебных экспериментов (для блага человечества, исключительно для блага), хотел добавить я. Но понял, что в этом нет необходимости. Что лишь Андрея могла целиком захватить беда одного существа, пусть даже самого близкого, Пабло же скорбит обо всех напрасных смертях. А Снежная Дева… она и в самом деле похожа на мою жену лишь мимолётно.
Снежная Дева, и верно. Когда мы вышли из здания, с хмурого неба сыпалась мелкая манная крупа, и было очень холодно.
– Господа, поторопимся, – сказал Иоганн. – Мы с Гарри семь файеров успели заложить, пока вы предавались чувствам.
Когда мы пятеро подошли почти к самой монастырской стене, Иоганн обернулся и протянул назад открытую ладонь. В ту же секунду над покинутым моргом взвилось бледное и почти беззвучное пламя, обращая в прах его стены, его подвалы и его мертвых.
Пустота и окончательное безмолвие.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.