Текст книги "Свеча на ветру"
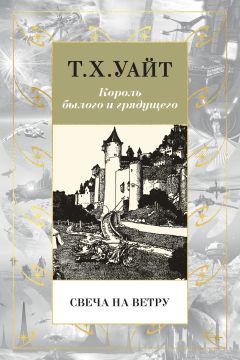
Автор книги: Теренс Уайт
Жанр: Героическая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
9
Через шесть месяцев, ярким зимним днем, началась осада Замка Веселой Стражи. Солнце сияло, посылая лучи под острым углом к северному ветру, обливая белизной заиндевелые восточные скаты борозд на пашне. Снаружи замка шныряли в жесткой траве чибисы и скворцы. Лишенные листьев деревья стояли подобно скелетам, подобно схемам кровотока или нервной системы. Коровьи лепешки, попадаясь под ногу, гудели, как деревянные. Зима окрасила все в блеклую лишайниковую зелень, какую видишь на подушке зеленого бархата, много лет пролежавшей под солнцем. Стволы оголенных деревьев, совсем как подушку, устилал белесый пушок. А похоронные одеяния елей были покрыты им сверху донизу. В лужах потрескивал лед, и сам Замок Веселой Стражи возвышался над промерзлым рвом, как на картинке, освещенный бессильным солнцем.
Замок Ланселота не производил грозного впечатления. Старомодные твердыни Артуровых пращуров сменились сооружениями настолько нарядными, что ныне их и воображаешь с трудом. Не следует представлять их себе подобными тем разрушенным крепостям с крошащейся между камней известкой, какие мы видим сегодня. На самом деле стены их покрывала штукатурка. В нее подмешивали желтую краску, отчего она слегка отливала золотом. Крытые черепицей, остроконечные, во французском вкусе, башенки замка теснились, возносясь над зубчатыми стенами во множестве самых неожиданных мест. Там были фантастические мостики, крытые наподобие Моста Вздохов, шедшие от часовни к какой-нибудь башне. Там были наружные лестницы, ведшие бог весть куда – может быть, в небеса. Каминные трубы неожиданно воспаряли над навесными стрельницами. Стекленные настоящим витражным стеклом окна, вознесенные повыше, туда, где им не грозила опасность, мерцали в сплошных некогда стенах. Флажки, распятия, горгульи, водостоки, флюгеры, шпили и звонницы усеивали покатые крыши, спадавшие то в одну, то в другую сторону, крытые где красной черепицей, где замшелой каменной плиткой. Это был не замок, а город. Легкое печенье вместо тяжелого пресного хлеба древнего Дунлоутеана.
Вокруг веселого замка раскинулся лагерь осаждающих. В те дни Короли, снаряжаясь в очередную кампанию, брали с собой гобелены, украшавшие их дома, что служило мерой основательности их становища. Шатры были красные, зеленые, клетчатые, полосатые. Некоторые – из шелка. Здесь, среди мешанины веревок и красок, шатровых столбов и высоких копий, шахматистов и маркитантов, гобеленовых интерьеров и золотой посуды, и обосновался Артур Английский, намереваясь взять своего друга измором.
Ланселот с Гвиневерой стояли в замковой зале у пылающего очага. Теперь огонь уж не разводили в середине покоя, предоставляя дыму самостоятельно выбираться сквозь верхние окна. В зале имелся настоящий камин, богато изукрашенный вырезанными по камню гербами и геральдическими щитодержателями Бенвика, на решетке его тлела половина бревна. Мороз сделал землю слишком скользкой для коней, и потому в тот день стояло хоть и необъявленное, но перемирие.
Гвиневера говорила:
– Я не в состоянии представить себе, как ты мог это сделать.
– Да и я не в состоянии, Дженни. Я даже не помню, чтобы я это сделал, но только все говорят, что так оно и было.
– Ты совсем ничего вспомнить не можешь?
– Видимо, я распалился, да и за тебя испытывал страх. Вокруг была толчея, все махали оружием, рыцари пытались меня задержать. Пришлось прорубаться.
– Это так на тебя не похоже.
– Ведь не думаешь же ты, что я это сделал намеренно? – с горечью спросил он. – Гарет любил меня больше, чем родных братьев. Я был ему едва ли не крестным отцом. Ох, давай оставим это, ради всего святого.
– Не мучай себя, – сказала она. – По крайней мере, бедному мальчику не приходится участвовать в том, что у нас происходит.
Ланселот задумчиво пнул тлеющий ствол. Он стоял, положив руку на каминную полку, и смотрел на мерцающие уголья.
– У него были голубые глаза. – Он помолчал, уставясь в огонь. – Когда он явился к Артуру, он не сказал, чей он сын, потому что ему пришлось убежать из дому, чтобы вообще попасть ко двору. Мать Гарета враждовала с Артуром и даже думать не могла о том, чтобы его отпустить. Но и он не мог держаться в стороне. Он мечтал о рыцарстве, жаждал почестей, романтических приключений. Вот он и сбежал к нам и не назвал своего имени. Он даже не просил, чтобы его посвятили в рыцари. Ему достаточно было находиться в центре великих событий, пока не представится случай показать свою силу.
Ланселот подпихнул на место отвалившуюся ветку.
– Кэй отправил его работать на кухню и дал ему прозвище: Прекрасные Руки. Кэй всегда был грубияном. А потом… как давно это было.
В тишине – оба стояли, опершись локтем о полку и выдвинув одну ногу поближе к огню, – сквозь решетку спадал невесомый пепел.
– Я время от времени давал ему разную мелочь, чтобы он себе купил что-нибудь. Кухонный паж Бомейн. Он по какой-то причине привязался ко мне. Я своею рукой посвятил его в рыцари.
Он с удивлением посмотрел на свои пальцы, двигая ими, словно никогда не видел их прежде.
– Потом он сражался во время приключения с Зеленым Рыцарем, и мы узнали, какой он великолепный воин… Добрый Гарет, – сказал он почти с изумлением, – и этой же самой рукой я убил его, потому что он не пожелал выйти против меня в доспехах. До чего все-таки жуткие создания – люди! Стоит нам, гуляя в полях, увидеть цветок, как мы палкой сшибаем ему головку. Именно так и погиб Гарет.
Гвиневера в расстройстве коснулась виноватой руки:
– Ты не мог этого предотвратить.
– Я мог это предотвратить. – Ланселота охватили его всегдашние религиозные терзания. – То была моя вина. Ты права, это было на меня не похоже. Да, то была моя вина, моя вина, моя горестная вина. Все потому, что я в этой давке рубил направо и налево.
– Но ты же должен был спасти меня.
– Да, но я мог рубиться только с рыцарями в доспехах. А я вместо того разил полубезоружных пеших ратников, и защититься-то не способных. Я был укрыт с головы до ног, а у них – всего-то-навсего кожаные латы да пики. Но я разил их, и Бог наказал нас за это. Именно из-за того, что я забыл рыцарские обеты, Бог заставил меня убить бедного Гарета, да и Гахериса тоже.
– Ланс! – резко сказала она.
– А теперь над нами обоими разразились адские бедствия, – продолжал он, отказываясь слушать. – Теперь я вынужден биться с моим Королем, который посвятил меня в рыцари и научил всему, что я знаю. Как мне биться с ним? Как мне биться даже с Гавейном? Я убил трех его братьев. Разве могу я добавить к ним еще одного? А Гавейн теперь вцепится в меня мертвой хваткой. Он уже никогда меня не простит. И я его не виню. Артур простил бы нас, но Гавейн ему не позволит. И мне приходится сидеть, словно трусу, осажденным в этой норе, – никто, кроме Гавейна, не хочет сражаться, но они то и дело выходят под стены с фанфарами и поют:
Рыцарь, чье имя Измена,
Выйди сражаться за стены.
Гей! Гей! Гей!
– Так ли уж важно, что они там поют. От этого пения ты не становишься трусом.
– А вот мои же собственные воины начинают так думать. Борс, Бламур, Блеоберис, Лионель – они постоянно упрашивают меня выйти из замка на бой. Но если я выйду, что тогда будет?
– Насколько я в состоянии судить, – сказала она, – будет то, что ты разобьешь их, а после отпустишь, попросив вернуться домой. Все только уважают тебя за твою доброту.
Он спрятал лицо за изгибом локтя.
– Ты знаешь, что случилось во время последнего боя? Борс схватился на копьях с самим Королем и выбил его из седла. Он спешился и стоял над Артуром с обнаженным мечом. Я увидел, что происходит, и поскакал туда как безумный. Борс сказал: «Не положить ли мне конец этой войне?» – «Не смей, – закричал я, – под страхом смерти, не смей». И после я подсадил Артура обратно в седло и умолял его, на коленях умолял отправиться восвояси. Артур заплакал. Глаза его наполнились слезами, он смотрел на меня и молчал. Он постарел. Он не хочет воевать с нами, но не может противиться Гавейну. Гавейн был прежде на нашей стороне, но я в моей греховности перебил его братьев.
– Забудь ты свою греховность. Всему виной ярость Гавейна и коварство Мордреда.
– Если бы дело было только в Гавейне, – пожаловался он, – еще оставалась бы надежда на мир. Он человек внутренне благородный. Достойный человек. Но рядом с ним все время стоит Мордред, растравляет его намеками и не дает ему забыть о своем несчастье. А тут еще вечная ненависть между галлами и гаэлами и Мордредов Новый Порядок. И конца этому я не вижу.
В сотый раз Королева предложила:
– Может быть, мне стоит вернуться к Артуру и отдаться ему на милость?
– Мы же предлагали им это, и они ответили отказом. И какой в этом смысл? Скорее всего, они в конце концов просто сожгут тебя на костре.
Оставив камин, она отошла к амбразуре большого окна. Внизу за окном лежал погруженный в свои заботы лагерь осаждающих. Какие-то крошечные солдаты играли на льду пруда в «Лису и гусей». Их ясный смех долетал сюда, отделенный расстоянием от кувырков, которые его вызывали.
– А война все идет и идет, – сказала она, – и убивают на ней пеших солдат, а не рыцарей, и никто на это не обращает внимания.
– А война все идет.
Не поворачиваясь, она заметила:
– Пожалуй, я все же рискну и вернусь, мой милый. Пусть даже меня сожгут, это все-таки лучше, чем смута.
Он перешел за нею к окну:
– Дженни, я бы отправился с тобой, если бы в этом был хоть какой-то смысл. Мы могли бы поехать вместе, позволить им отрубить нам головы, если бы это давало хоть крошечную надежду остановить войну. Но все уже обезумели. Пусть мы с тобою сдадимся, все равно Борс, Эктор и остальные продолжат раздор, – даже если мы будем убиты. Ныне все поднялось на поверхность, сотни поводов для вражды – вспомни тех, кто погиб на рыночной площади, и тогда, на лестнице, вспомни полвека правления Артура. Скоро я уже не смогу их удерживать, даже при нынешнем положении. Эб Достославный, Вилар Доблестный, Уррий Венгерский – они станут мстить за нас, и будет только хуже. Уррий страх как мне благодарен.
– Похоже, вся наша цивилизация сошла с ума, – сказала она.
– Да, и похоже, мы сами ее до этого довели. Борс, Лионель и Гавейн ранены, и все вокруг жаждут крови. Мне приходится совершать с моими рыцарями вылазки и носиться по полю, делая вид, что я наношу удары, и в конце концов на меня либо выталкивают Артура, либо налетает Гавейн, и тогда приходится прикрываться щитом и обороняться, ведь разить их в ответ мне невозможно. А мои люди видят это и говорят, что, не утруждая себя, я лишь затягиваю войну, отчего они терпят урон.
– То, что они говорят, – правда.
– Разумеется, правда. Но если не это, остается только убить и Артура, и Гавейна, а как я могу это сделать? Если б Артур позволил тебе вернуться и сам отошел бы отсюда, все было бы лучше, чем теперь.
Лет двадцать назад Гвиневера вспылила бы, услышав столь бестактное предположение. Ныне же, в их осеннюю пору, она лишь улыбнулась.
– Дженни, то, что я говорю, ужасно, но это правда.
– Конечно правда.
– И выходит, что мы обращаемся с тобой, будто с марионеткой.
– Все мы марионетки.
Он прислонил голову к холодному камню амбразуры и стоял так, пока она не взяла его за руку.
– Не думай об этом. Просто оставайся в замке и будь терпелив. Может быть, Бог о нас позаботится.
– Ты уже говорила это однажды.
– Да, за неделю до того, как они нас поймали.
– А не захочет Бог, – с горечью сказал он, – так останется уповать на папу.
– На папу!
Он поднял взгляд:
– Что это ты?
– Послушай, Ланс, то, что ты сказал… А ну как папа вынужден будет прислать обеим сторонам буллы, угрожая нам отлучением, если мы не придем к соглашению? Что, если мы попросим о папском решении? Борсу и прочим придется его принять. И тогда, конечно…
Он не отрывал от нее глаз, пока она подыскивала слова.
– Он может назначить епископа Рочестерского, чтобы тот выработал условия мира…
– Да, но какие условия?
Однако идея уже захватила Гвиневеру и воодушевила ее.
– Ланс, какими бы они ни были, нам с тобой их придется принять. Пусть даже низкие… пусть даже позорные для нас, для народа они будут означать мир. И у наших рыцарей не найдется извинений для продолжения раздора, потому что они обязаны будут подчиниться Церкви.
Ланселот не мог найти нужных слов.
– Ну и?..
Она обратила к нему лицо, исполненное покоя и облегчения, – деятельное, лишенное всего показного, лицо, какое видишь у женщины, когда она нянчит ребенка или занимается чем-то еще, требующим умения и сноровки. Он не знал, что можно возразить такому лицу.
– Мы можем завтра же отправить гонца.
– Дженни!
Ему казалась невыносимой мысль о том, что она, уже далеко не девочка, позволяет им передавать себя из рук в руки, мысль о том, что он должен ее потерять, как и о том, что терять ее он не должен. От всего, что наполняет людские жизни, от их любви, от всех его прежних верований у него не осталось ничего, кроме позора. Она поняла и это и в этом тоже ему помогла. С нежностью она поцеловала его. Снаружи ежедневный хор затянул свое:
Рыцарь, чье имя Измена,
Выйди сражаться за стены.
Гей! Гей! Гей!
– Ну их, – сказала она, гладя его белые волосы. – Не слушай. Мой Ланселот должен остаться в замке, и все закончится хорошо.
10
– Итак, Его Святейшество заключил между ними мир без всякого их участия, – со злостью сказал Мордред.
– Угу.
Они сидели в Судебной зале, Гавейн и Мордред, ожидая начала последней стадии переговоров. Оба были в черном, но с тем странным различием, что Мордред выглядел в нем великолепно, напоминая Гамлета, тогда как Гавейн больше походил на могильщика. С подобной театральной простотой Мордред начал одеваться, когда возглавил популярную ныне партию. Целью ее было установление некоего подобия национального правления плюс гаэльская автономия и избиение евреев – в виде отмщения за смерть мифического святого по имени Хью Линкольнский. В партии, распространившей свое влияние по всей стране, состояли уже тысячи членов, носивших партийный значок с изображением алого кулака с зажатой в нем розгой и называвших себя Хлыстунами. Старшего же брата, надевшего партийную форму лишь для того, чтобы сделать приятное младшему, облекало домотканое черное сукно – беспросветный мрак искреннего траура.
– Смешно сказать, – продолжил Мордред, – но если б не папа, мы бы тут никогда не увидели такого красивого шествия – у всех по оливковой ветви в руке, а целомудренные влюбленные сплошь в белых одеждах.
– Да, хорошее было шествие.
Гавейн, чей разум на извилистых путях иронии чувствовал себя неуверенно, принял насмешку за честное описание события.
– Это верно, спектакль удался на славу.
Старший брат шевельнулся, словно испытывая неловкость и пытаясь расположиться поудобнее, но вместо того просто вернулся к началу разговора.
Он произнес неуверенно, как бы задавая вопрос или излагая просьбу:
– Ланселот говорит в письме, будто убил нашего Гарета по ошибке. Говорит, что не видел его.
– Это вполне в духе Ланселота – рубить безоружных направо-налево, не вглядываясь, кто они и что они. Он всегда этим славился.
На сей раз ирония была настолько увесистой, что даже Гавейн ее ощутил.
– Вот и я мыслю, что это на него не похоже.
– Не похоже? Разумеется, не похоже. Он же вечно изображал preux chevalier, щадившего людей, – ни разу не убившего человека, который не устоял против него. Тем и прославился. И ты полагаешь, что он вдруг ни с того ни с сего отбросил притворство и принялся крушить безоружных?
С трогательной потугой на беспристрастность Гавейн произнес:
– Вроде не было ему причины их убивать.
– Причины? А разве Гарет не брат нам? Он убил его из мести, чтобы отплатить нам, всей нашей семье, потому что это мы застукали его с Королевой. – И, с особым тщанием выбирая слова, Мордред добавил: – Все потому, что Артур любит тебя, и Ланселот завидует твоему влиянию. Ему хотелось ослабить Оркнейский клан, он все отлично продумал.
– Он ослабил и свое положение тоже.
– А кроме того, он завидовал Гарету. Боялся, что наш брат начнет наступать ему на пятки. Наш Гарет ему подражал, а это не устраивало preux chevalier. Нельзя же позволить, чтобы существовало целых два безупречных рыцаря.
Судебную залу уже подготовили к пышной заключительной церемонии. Сейчас в ней находились лишь двое мужчин, и зала казалась голой. Братья сидели немного странно – один позади другого – на ступеньках, ведущих к трону, то есть не видя лиц друг друга. Мордред смотрел Гавейну в затылок, Гавейн смотрел в пол. Сдавленным голосом он произнес:
– Гарет был лучшим из нас.
Если бы он сейчас резко обернулся, его удивила бы напряженная пристальность, с какой Мордред вглядывался в него. Выражение Мордредова лица вовсе не сочеталось с музыкой, звучавшей в его голосе. Человек, внимательно приглядевшийся к Мордреду, мог бы заметить, что в повадках его появилась в последние шесть месяцев некая странность.
– Гарет был славный малый, – произнес Мордред, – и угораздило же его пасть от руки именно того человека, которому он так верил.
– Это научит меня никогда не верить южанам.
Мордред повторил, почти неуловимо подчеркнув замену местоимения:
– Да, это нас научит.
Старый деспот обернулся. Он схватил белую руку брата, стиснул ее и, запинаясь, заговорил:
– Я все время думал, что весь вред от Агравейна – от Агравейна и от тебя. Я думал, что вы предубеждены против сэра Ланселота. Мне стыдно за эти мысли.
– Кровь – не водица.
– Это так, Мордред. Можно болтать про идеалы, про правое и неправое и про все такое, – а под конец все сводится к тому, кто чей сородич. Я ругал Гарета, когда он забирался в огородик святого отца, там, у обрыва…
Голос его задрожал и прервался, братья молчали, пока худосочный Мордред не сказал, возвращая Гавейна на прежний путь:
– В детстве волосы у него были такие светлые, что казались белыми.
– Кэй прозвал его Прекрасные Руки.
– Кэй хотел обидеть его.
– Хотел, а все же сказал правду. Руки у Гарета были красивые.
– А теперь он лежит в могиле.
Лицо Гавейна вспыхнуло так, что брови стали на нем незаметны. На висках его вздулись вены.
– Да проклянет их Господь! Я не приму этого мира. Я их не прощу. Почему Король Артур норовит загладить содеянное? И зачем в это лезет папа? Не их братьев убили – моих, и клянусь всемогуществом Божиим, я отомщу!
– Ланселот проскользнет у нас между пальцев. Он человек изворотливый, его не ухватишь.
– Не проскользнет. На этот раз он у нас в руках. Корнуоллы слишком долго и много прощали.
Мордред поерзал на ступеньках.
– Ты когда-нибудь размышлял о том, что принес Стол Оркнею и Корнуоллу? Отец Артура убил нашего деда. Сам Артур совратил нашу мать. Ланселот убил трех наших братьев, не считая Флоренса и Ловеля. А мы с тобой торчим здесь, торгуя нашей честью, чтобы примирить двух англичан. Тебе это не кажется трусостью?
– Нет, это не трусость. Папа может заставить Короля принять Королеву обратно, но о сэре Ланселоте в его буллах нету ни слова. Мы обещали ему неприкосновенность, чтобы он мог привезти сюда женщину, и мы также позволим ему уйти отсюда. Но после…
– А зачем же сейчас-то его отпускать?
– Затем, что ему обещана охранная грамота. Господь запрещает трогать его, Мордред, мы все-таки рыцари!
– Да, и мы не должны прибегать к нечистому оружию, даже если наши враги прибегают к нему.
– Вот, правильно. Пусть кабан побегает, дадим ему это право, а сами будем гнать его и загоним до смерти. Артур слабеет: он исполнит нашу волю.
– Печально видеть, – вымолвил сэр Мордред, – до чего ослабла хватка несчастного Короля с тех нор, как началась вся эта история.
– Да, это печально. Но он понимает различие между правым и неправым.
– Это для него что-то новое.
– Ты говоришь о слабости?
– Как быстро ты все схватываешь.
Быть саркастичным с Гавейном не составляло ему труда – все равно что передразнивать слепого.
– Нельзя сидеть на всех стульях сразу. Ему вообще не стоило водиться с этим предателем.
– Как и брать в жены Гвен.
– Да уж, тут оба они виноваты. Не мы искали ссоры.
– Что верно, то верно.
– Король обязан отстаивать правосудие. Даже если Его Святейшество заставит Короля снова принять эту женщину на свое ложе, у нас остаются наши права на сэра Ланселота. Он совершил великое предательство, когда увез Королеву, так же как и когда убил наших братьев.
– Любые права.
Грузный рыцарь снова схватил своего брата за руку, казавшуюся еще бледнее в заскорузлой лапе могильщика, и сказал, с трудом подбирая слова:
– Это так горько и больно, когда остаешься совсем один.
– Мы дети одной матери, Гавейн.
– Да!
– И Гарету она тоже была матерью…
– А вот и Король.
Торжественная церемония примирения достигла завершающей стадии. В замковом дворе запели трубы, и по лестнице дворца потекли вверх сановники Государства и Церкви. Придворные, епископы, герольды, пажи, судьи и просто зрители, беседуя, вливались в залу. С их появлением гобеленовый куб наполнился красками, словно пустая ваза цветами. Его украсили дамы, чьи казавшиеся голыми лица венчались уборами в виде полумесяцев или длинных конусов или куафюрами, столь же удивительными, как у Герцогини из «Алисы в Стране чудес». В ярких корсажах с талиями где-то под мышками, с руками, укрытыми в спадающие складками рукава, в достающих до полу юбках, в одеяниях из триполитанской верблюжьей шерсти, тафты или домодельного красного сукна, нежные существа проплывали к своим местам, вея ароматами мирры и меда (которым они полоскали рты). Их кавалеры, молодые оруженосцы, одетые по последней моде (многие из них уже состояли в Хлыстунах и носили значок Мордреда), меленько перебирали ногами в долгоносых туфлях, в коих совершенно невозможно было взойти по ступеням. У подножия лестницы туфли приходилось снимать, и дальше наверх их уже подносили пажи. Первое, что в этих молодых людях бросалось в глаза, – это их ноги в высоких чулках: пришлось даже принять особый закон, регулирующий покрой их кафтанов, каковым предписано было иметь длину, достаточную для сокрытия ягодиц. За ними последовали более респектабельные члены Королевского совета в удивительных шляпах, из коих иные походили на стеганые колпаки, под которыми настаивается завариваемый чай, иные на тюрбаны, иные на птичьи крылья, а иные и на муфты. Советников облекали складчатые стеганые мантии с высокими плоеными воротниками, с оплечьями и поясами в драгоценных камнях. Тут были и клирики в аккуратных шапочках, согревавших тонзуры, в простых одеяниях, столь непохожих на наряды мирян. Тут был и заезжий кардинал в замечательной шляпе с кисточкой, и по сию пору украшающей писчую бумагу Вулзи-колледжа в Оксфорде. Тут были меха и опушки всех сортов, включая красивый ромбовидный узор, составленный из кусочков меха белых и черных ягнят. Шум от разговоров стоял такой, как от стаи скворцов.
Но то была лишь первая часть торжественного шествия. О начале второй предупредили все те же трубы, на сей раз пропевшие ближе. Затем в залу вошло некоторое число цистерцианских монахов, секретарей, дьяконов и прочих служителей церкви, сплошь обремененных чернилами, кои получали посредством вываривания терновой коры, пергаментами, тонким песком, буллами, перьями и перочинными ножиками, каковые всякий писец, работая, обыкновенно держит в левой руке. Также имелись у них счетные палочки и протоколы последних переговоров.
Следом в залу вступил епископ Рочестерский, облеченный званием папского нунция. Он явился во всем подобающем нунцию великолепии, хоть и оставил внизу свой паланкин. Это был пожилой господин в шелковистых власах, в ризах, с епископским посохом, в стихаре и с перстнем епископа, – учтивый, сознающий свою духовную власть священнослужитель.
И вот наконец трубы прозвучали у самых дверей и в залу вступила Англия. В тяжелой горностаевой накидке, покрывавшей его плечи и левую руку и спускавшейся узкой полоской вдоль правой, в бархатном синем плаще и ошеломительного вида короне, обремененный величием и поддерживаемый – буквально поддерживаемый – под руки особо назначенными для того чиновными лицами, Король прошествовал к расположенному на возвышении, накрытому золотым балдахином с вышитыми по нему вставшими красными драконами трону, на ступенях которого завиделись сквозь расступившуюся толпу встречающие его Гавейн и Мордред. Доставленный к трону, Король тяжело осел на него. Стоявший до этого времени нунций также уселся на белый с золотом трон, что стоял насупротив королевского. Гул затих.
– Можем ли мы начать?
Благозвучный, словно в храме, голос Рочестера разрядил напряжение:
– Церковь готова.
– Государство тоже.
Это громыхнул Гавейн – несколько вызывающим тоном.
– Осталось ли что-либо, что надлежит уладить, прежде чем они войдут?
– Все улажено по-честному.
Рочестер обратил взгляд к Властителю Оркнея:
– Этим мы обязаны сэру Гавейну.
– К вашим услугам.
– В таком случае, – произнес Король, – я полагаю, мы можем известить сэра Ланселота, что Двор ожидает его.
– Бедивер, будьте любезны послать за подсудимыми.
Все уже заметили, что у Гавейна появилось обыкновение говорить от имени трона и что Артур ему не препятствует. Однако папский посланник подобной смиренности не питал.
– Одну минуту, сэр Гавейн. Я обязан указать, что Церковь не считает этих людей подсудимыми. Миссия Его Святейшества, каковую я представляю, это миссия мира, но не мщения.
– Церковь может рассматривать этих людей, как ей представляется верным. Мы здесь для того, чтобы исполнить повеление Церкви, но исполняем мы оное так, как умеем. Приведите сюда подсудимых.
– Сэр Гавейн…
– Протрубите сигнал ко входу Ее Величества. Заседание Суда начинается.
Зазвучала музыка, ей, словно в дурном спектакле, ответила музыка снаружи, и все головы повернулись к дверям.
С шелестом шелков и колыханием мехов в середине залы образовался проход. За открывшейся аркой дверей стояли, ожидая своего выхода, Ланселот с Гвиневерой.
Было что-то трогательное в пышности их одеяний – словно они нарядились для участия в шараде, не вполне для нее подходя. Облачения их были белыми с золотым шитьем, и Королева, уже больше не юная и прекрасная, держала оливковую ветвь без всякой грациозности. Они неловко шли по проходу, словно старательные актеры, старательные, но лишенные актерских способностей. Дойдя до трона, они преклонили колени.
– Мой достославный Король.
Едва ощутимый проблеск взаимного расположения был мгновенно уловлен Мордредом.
– Очаровательно!
Ланселот взглянул на старшего брата:
– Сэр Гавейн.
Оркнеец показал ему спину. Ланселот повернулся к Церкви:
– Господин мой Рочестер.
– Добро пожаловать, сын мой!
– По королевскому повелению и по повелению папы я привез Королеву Гвиневеру.
Наступила опасная тишина, которую никто не решался нарушить своими речами.
– И стало быть, долг мой, раз никто не желает мне отвечать, состоит в том, чтобы подтвердить невиновность Королевы Английской.
– Лжец!
– Я явился сюда сам, дабы заявить, что Королева блага и нелжива, верна Королю Артуру и чиста перед ним, и это я готов доказать всякому, кто оспорит меня, исключая только Короля или сэра Гавейна. И это мой долг перед Королевой – сделать подобное предложение.
– Святой отец повелел нам принять ваше предложение, сэр Ланселот.
И во второй раз воодушевление, нараставшее в зале, было разрушено Оркнейской партией.
– Тьфу на твои хвастливые речи! – крикнул Гавейн. – Что до Королевы, то пусть она получит прощение и живет здесь. Но ты, коварный и трусливый рыцарь, за что было тебе убивать моего брата, который любил тебя сильнее, нежели весь род наш?
Оба великих воина, не заметив того, перешли на высокий язык, отвечающий и этому месту, и страстям, которые ими владели.
– Бог видит, сэр Гавейн, что извинения мне не помогут. Я предпочел бы скорее убить моего племянника, сэра Борса. Но я не видел их, Гавейн, и заплатил за это!
– Ты совершил это из ненависти ко мне и к Оркнею!
– Сердце мое, – ответил Ланселот, – скорбит о том, что вас заставили думать так, господин мой сэр Гавейн, ибо я знаю, что, пока вы против меня, между мною и Королем согласию не бывать.
– Истинно сказано, Ланселот. Ты явился сюда с охранным ручательством, дабы привезти назад Королеву, но отсюда уйдешь как убийца, каков ты и есть.
– Если я убийца, господин мой, тогда да простит меня Бог. Но я никогда не убивал коварными ухищрениями.
Ланселот прибегнул к этому доводу без какой-либо задней мысли, но Гавейн усмотрел в нем больше того, нежели он содержал. Стиснув кинжал, Гавейн воскликнул:
– Я понял твой намек! Ты разумеешь сэра Ламорака…
Епископ Рочестерский поднял руку в перчатке:
– Гавейн, не могли бы мы отложить эти пререкания до другого раза? Наша прямая задача – восстановить Королеву в ее правах. Не сомневаюсь, что сэр Ланселот желал бы объяснить причины возникновения раздора, так чтобы Церковь могла скрепить ее возвращение на престол.
– Благодарю вас, господин мой.
Гавейн свирепо взирал на Ланселота, пока усталый голос Короля не побудил разбирательство двигаться дальше. Как-то неуклюже оно продвигалось, рывками.
– Вас застали у Королевы.
– Сэр, я был зван к госпоже моей, Королеве, а для чего, я не знал; но едва только я закрыл за собой дверь Королевиных покоев, как тотчас же сэр Агравейн и сэр Мордред стали бить в нее, называя меня рыцарем-изменником и трусом.
– Они правильно называли тебя.
– Господин мой сэр Гавейн, в той схватке им не удалось выказать себя правыми. Я же ныне говорю в защиту Королевы, но не моей чести.
– Хорошо, сэр Ланселот, хорошо.
Рыцарь, Совершивший Проступок, со спокойной грацией повернулся к своему старейшему другу, к первому человеку, которого он полюбил. Он оставил язык рыцарства, перейдя на простую речь:
– Разве нельзя нас простить? Разве не можем мы вновь стать друзьями? Мы вернулись сюда в раскаянии, Артур, хотя и не имели нужды возвращаться. Неужели ты не помнишь прежних дней, когда мы сражались бок о бок и были друзьями? Если ты явишь нам милосердие, все содеянное зло удастся исправить, буде сэр Гавейн покажет к тому добрую волю.
– Король являет нам правосудие, – ответил рыжий рыцарь. – И разве ты явил милосердие моим братьям?
– Я являл милосердие всем вам, сэр Гавейн. И смело скажу, что я ничуть не хвастаюсь, говоря, что многие в этой зале обязаны мне свободой, если не жизнью. Я и прежде, из-за иных наветов, сражался за Королеву, как же было мне не сразиться, когда беда грозила ей из-за меня? И за вас я также сражался, сэр Гавейн, и спас вас от постыдной смерти.
– И при всем при том, – промолвил Мордред, – ныне из всех Оркнейцев уцелели лишь двое.
Гавейн резко вскинул голову:
– Король пусть решает, как ему угодно. Я же принял решение шесть месяцев назад, когда нашел сэра Гарета, залитого кровью – и безоружного.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































