Текст книги "Campo santo"
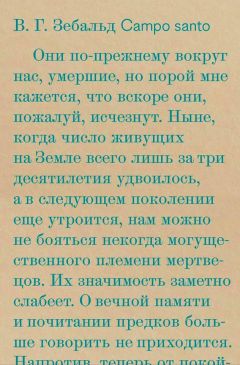
Автор книги: В. Зебальд
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Scomber scombrus, или Макрель обыкновенная
По поводу картин Яна Петера Триппа
Западный ветер раздувает паруса, и курс проложен так, чтобы наша лодка прошла наперерез через приливно-отливное течение, куда охотно заплывает макрель, относящаяся, как известно, к числу самых прожорливых рыб. На рассвете мы закинули самоловы. Скоро в сумеречной дали проступил барьер меловых скал, поверху окаймленный узкой кромкой темных лугов и леса, но затем понадобилось еще довольно много времени, чтобы косые лучи солнца пронизали легкие волны и пришла макрель.
Плотным косяком и словно бы во все большем количестве они мчались прямо под поверхностью воды. Тугое, торпедообразное тело, чей главный признак – гипертрофированная мускулатура, сильно ограничивающая поворотливость, безостановочно несет их вперед по прямой. Отдых для них почти невозможен, а добраться до какой-либо цели они могут лишь по широкой дуге. Где они кочуют, не в пример более оседлым рыбам, – давняя загадка, не разгаданная по сей день. В океанах, пишет Эренбаум, у побережий Америки и Европы, имеются огромные, площадью во много квадратных миль и уходящие на много саженей в глубину акватории, где в определенное время года макрель держится тысячами миллионов особей, а затем исчезает, так же внезапно, как и появляется. Сейчас эти рыбы сверкали-взблескивали вокруг нас. Синева спин, отмеченных неровными буро-черными полосками на фоне более светлой сквозной ленты, искрилась пурпурными и зелено-золотыми чешуйками – переливчатая игра красок, которая, как мы часто замечали у уже пойманных рыб, в смертный час, как только их касался чуждый, сухой воздух, быстро бледнела и гасла, оборачиваясь свинцовым налетом.

«Неписаная заповедь», 1996
О чудесно переливчатом при жизни облике макрелей напоминает их странный эпитет, который, как замечает Эренбаум в другом месте, восходит к латинскому прилагательному varius или же к его уменьшительным вариантам variolus, variellus, varellus., примерно означающим пестрый или пятнистый, потому-то от них произведено также grande vérole[82]82
Сифилис (фр.).
[Закрыть], болезнь, какой прежде заражались в домах, где, по крайней мере во французском словоупотреблении, хозяйничала maquerelle, сиречь сводница. Вероятно, взаимосвязь между жизнью и смертью людей и макрелей куда сложнее, чем мы полагаем. Существует ведь, думал я, вытягивая первый самолов, гравюра Гранвиля, где полдюжины особенно хладнокровных рыбин, облаченных в крахмальные манишки, галстуки и фраки, сидят за накрытым столом, намереваясь съесть одного из своих собратьев или, что едва ли менее ужасно, одного из нас? Может, недаром существует примета, что увидеть во сне рыбу предвещает смерть.
С другой стороны, у многих народов эта рыба считается символом плодородия. Шефтеловиц, например, утверждает, что у тунисских евреев есть обычай на свадьбу или накануне Шаббата обсыпать подушку чешуей макрели, тогда как эмигрировавший в Калифорнию венский психиатр и антрополог Айзенбрук в одной из своих незаслуженно забытых работ указывает, что многие тирольцы на Рождество прибивают к потолку горницы рыбий хвост.

«Эндшпиль», 1999
Как все обстоит на самом деле – это другой вопрос. В конечном счете ни один из нас понятия не имеет, как попадает на тарелку другому или какие секреты прячутся в кулаке его визави. Даже если мы, увлекаясь ихтиомантией, схватим столовый прибор, осторожно расчленим макрель и спросим читающего по внутренностям оракула, мы вряд ли получим ответ, ибо все вещи – текстура струганого дерева, серебряный браслет, стареющая кожа, угасший глаз – лишь слепо и безмолвно смотрят на нас и ничего не говорят нам о судьбе нашего вида. Эти мысли занимали меня до самого вечера. Мы давно вернулись с рыбалки и уже с берега смотрели на серое море, когда мне вдруг почудилось, будто там, лишь изредка мелькая среди волн, скользит что-то треугольное. Perhaps it's someone still out sailing, сказала моя спутница, or else the fin of that great fish we will never net passing us far out at sea[83]83
Возможно, кто-нибудь еще идет под парусом… или это плавник той огромной рыбы, которую мы никогда не поймаем и которая проплывает мимо нас далеко в море (англ.).
[Закрыть].
Тайна рыжей шкурки
На подступах к Брюсу Чатвину
В современной немецкой литературе вряд ли найдешь писателя, который изначально пошел бы на такой риск, как Брюс Чатвин, этот неутомимый странник, в пяти книгах которого, по всем масштабам необычных, действие разыгрывается в разных частях света. Точно так же не найдешь в нашей стране, где тон задают добрые середнячки и искусство жизнеописания ценится невысоко, никого, кто бы после смерти подобного автора десять лет кряду, как Николас Шейкспир, шел по его следам в предместьях Бирмингема, в Лондоне, в валлийском пограничье, на острове Крит и на горе Афон, в Праге, в Патагонии, в Афганистане, Австралии и Черной Африке, разыскивая свидетелей, которые могли рассказать об этом человеке, кометой мелькнувшем подле них.
Как сам Чатвин в конечном счете остался загадкой, так и о его книгах невозможно сказать, куда их отнести. Очевидно только, что по своему характеру и замыслу они не вписываются ни в один из известных жанров. Вдохновленные своего рода жаждой неоткрытого, они находятся на грани, обозначенной теми странными явлениями и вещами, о которых невозможно сказать, относятся ли они к реальности или к числу фантазмов, в незапамятные времена возникших у нас в голове. Антрополого-мифологические штудии как бы в продолжение «Tristes tropiques»[84]84
«Печальные тропики» (фр.), книга Клода Леви-Строса (1955).
[Закрыть], приключенческие истории, примыкающие к первым книгам детства, коллекции реалий, сонники, почвенные романы и образчики тоскующего экзотизма, пуританские покаяния и безудержно-барочные видения, самоотверженность и исповедь – они всё это в одном. Пожалуй, наиболее справедливо будет трактовать их во всем взрывающем концепцию современности промискуитете как яркие поздние проявления давних, восходящих к Марко Поло путевых заметок, где реальность постоянно сгущается в метафизическое и чудесное, а путешествие по свету начинается с сознанием, что можно погибнуть.
Одной из любимых книг Чатвина были «Trois contes»[85]85
«Три повести» (фр).
[Закрыть] Гюстава Флобера, а особенно повесть о святом Юлиане, которому пришлось искупать свою кровавую страсть к охоте в долгом странствии по самым жарким и самым холодным областям Земли: руки-ноги у него едва не отмерзают, когда он пересекает ледяные поля, а под палящим солнцем пустынь волосы на голове вспыхивают. Читая эту жуткую историю, возникшую из глубоко истерического состояния автора, я на каждой странице невольно вижу Чатвина таким, каким он был, – гонимым панической жаждой знания и любви ingénu[86]86
Наивный, простосердечный (фр).
[Закрыть] и в тридцать лет еще напоминавшим подростка.
Чатвин происходил из клана строителей, архитекторов, адвокатов и пуговичных фабрикантов, обеспечивших себе в викторианской Англии солидные позиции в верхах бирмингемского среднего сословия, однако ж среди них – в условиях расцвета капитализма иначе и быть не могло – попадались и авантюристы, и неудачники, и даже преступившие закон. Чарлз, отец Брюса, в 1940 году призванный в военно-морской флот и направленный на острова Чатем, всю войну командовал эсминцем и дома гостил крайне редко, поэтому первые годы жизни ребенок провел вместе с матерью главным образом у дедов и бабушек, а равно у прочей родни, свободно переезжая туда-сюда внутри широко разветвленного, квазиматриархального сообщества, которое внушило ему не столько конкретную любовь к семье, сколько ощущение некой принадлежности к роду, и здесь примером ему служили в особенности братья матери и бабушек. Один из этих дядьев, очень благоволивший к голубоглазому сестрину сынишке, сообщил биографу под протокол, что Брюс с малолетства на все смотрел пытливым взглядом исследователя. And I thought it important, добавил он, that he should become articulate[87]87
И я полагал важным, чтобы он умел себя выразить (англ.).
[Закрыть].
По словам опрошенных Шейкспиром людей, Чатвин действительно отличался поразительным красноречием и силой воображения. Как всякий настоящий рассказчик, еще не утративший связи с устным преданием, он мог в одиночку, только голосом, разыграть целый спектакль и показать отчасти реальных, отчасти выдуманных персонажей, среди которых расхаживал, будто коллекционер фарфора Утц среди своих мейсенских фигурок. И разве сам Чатвин не носит – даже странствуя через пустыню, – словно незримый импресарио всего экстравагантного, театральный костюм наподобие утреннего халата, висящего в ванной у Утца, шедевр от-кутюр из стеганого шелка персикового цвета, с аппликациями роз на плечах и страусовыми перьями вокруг бархатного воротника?
В Мальборо-колледже, одном из лучших учебных заведений в Англии, где он не снискал слишком доброй славы, Чатвин, по собственному его свидетельству, отличился только как актер, особенно блистал в женских ролях в пьесах, например, Ноэла Кауарда. Прирожденное искусство преображения, сознание, что он постоянно на сцене, чутье к впечатляющему публику жесту, к броскому и скандальному, к пугающему и чудесному безусловно стали предпосылками писательской одаренности Чатвина. Не менее важными были, пожалуй, и годы ученичества в лондонском аукционном доме «Сотбис», когда он имел доступ к сокровищницам былых времен и получил представление об уникальности артефактов, о рыночной цене искусства, о значении ремесленных умений и необходимости точных, быстро проведенных разысканий.
Но решающую роль в становлении Чатвина-писателя, бесспорно, сыграли ранние мгновения чистой зачарованности, когда мальчик, прокравшись в столовую бабушки Изабеллы, сквозь собственное неясное отражение в стеклах горки красного дерева с восторгом разглядывал расставленные на полках всевозможные вещицы, привезенные сюда из чужедальних краев. Об одних даже не знали, откуда они или для чего служили, с другими были связаны апокрифические истории.
Был там, например, клочок рыжего меха; завернутый в шелковую бумагу, он хранился в таблетнице. Николас Шейкспир отмечает, что сей сюрреалистичный объект был свадебным подарком, полученным бабушкой на рубеже веков от ее кузена Чарлза Милуар– да, сына приходского священника; не стерпев слишком частых наказаний, он ушел из дома и плавал по океанам, пока не потерпел кораблекрушение у берегов Патагонии. Наряду с другими неслыханными затеями, он там, в Пуэрто-Наталесе, сообща с немцем-старателем взорвал пещеру, чтобы достать из нее останки доисторической твари, так называемого гигантского ленивца, или милодона. Затем он бойко торговал различными частями тела вымершего животного, и бирмингемская шкурка была в известном смысле безвозмездным даром любимой кузине.
Запертая стеклянная горка с ее загадочным содержимым стала, по словам Шейкспира, центральной метафорой как для содержания, так и для формы работ Чатвина, а реликт уже не существующего животного – его любимым объектом. «Ничего и никогда в жизни, – писал Чатвин Сунилу Сети, – я не жаждал получить так, как этот клочок кожи».
Ключевое слово здесь, по-моему, «кожа». Она – цель страстного желания, которое во время первой большой экспедиции гонит его через Атлантику и весь американский континент к Огненной Земле, на самый край света, где он затем действительно якобы нашел в той самой пещере пучок шерсти ленивца. Во всяком случае, по словам его жены, он привез с собой из путешествия нечто подобное. Нельзя не заметить, что останки ленивца были своего рода фетишем. Именно они, сами по себе совершенно никчемные, зажигают противозаконную фантазию любителя, ими она удовлетворяется.
Что-то от фетишистской жадности определяет и манию подбирания и собирательства, а равно трансформацию найденных фрагментов в таинственно значимые памятки, напоминающие нам о том, от чего мы, живые, отлучены. Из всех слоев писательского процесса это, пожалуй, самый глубинный. Чатвин в первую очередь метил именно туда, и в этом причина притягательности его творчества, выходящей далеко за пределы английского региона. Универсальность его видения в том, что его описания далекого неведомого края, где община валлийских поселенцев, перебравшаяся туда сто с лишним лет назад, по сей день поет свои кальвинистские гимны, а ветер, вечно бегущий в скудной траве под холодным, пасмурным небом, искривляет деревья, наклоняя их к востоку, – эти описания сливаются с вечно возвращающимися ландшафтами нашей фантазии.
Мне, например, история потерпевшего кораблекрушение Чарлза Милуарда непосредственно напомнила пронизанный жуткими болями и фантомными страхами автобиографический этюд Жоржа Перека «W ou le souvenir d'enfance»[88]88
«В., или Память детства» (фр.).
[Закрыть], где на первых страницах речь идет о судьбе душевнобольного мальчика по имени Гаспар Винклер, которого его мать, знаменитая певица-сопрано, берет с собой в кругосветное плавание, надеясь, что это поможет ему выздороветь, и который в конце концов пропадает без вести где-то у мыса Одиннадцати Тысяч Дев или в проливе Всех Святых. История Гаспара Винклера – опять-таки парадигма разрушенного детства. Недаром имя тотчас вызывает в памяти бедного Каспара Хаузера. И для Чатвина пути на край света тоже были экспедициями ради поисков пропавшего мальчика, которого он затем, подобно отражению в зеркале, как будто бы находил, скажем, в застенчивом пианисте из Гаймана Энрике Фернандесе, который в сорок лет умер от СПИДа, как и сам Чатвин.
Но так или иначе путеводным мифом всегда был тот клочок чужой кожи, реликвия, которой, как и всем благонамеренно собранным и выставленным напоказ смертным останкам, присуще что-то извращенное и одновременно указующее далеко за пределы профанного. Именно она, как мы знаем из романа Бальзака «Шагреневая кожа», исполняет самые сокровенные и ненасытные желания, но с каждым исполнением желанного становится на дюйм меньше, так что удовлетворение нашей любовной тоски теснейшим образом связывается с влечением к смерти. В записи одного из телеинтервью, которое Чатвин дал незадолго до кончины, он, исхудавший, буквально кожа да кости, с широко, до ужаса широко распахнутыми глазами, с невинным увлечением рассказывает о своем последнем вымышленном герое, пражском коллекционере фарфора Утце. Более потрясающего торжества писательской личности я не знаю.
Если начнешь читать роман Бальзака об ослиной коже, каковая, пожалуй, в первую очередь есть кожа несчастья и страдания, вскоре натолкнешься на пассаж, где Рафаэль, который покуда зовется молодым незнакомцем, входит в многоэтажный магазин, где приобретает роковой талисман. На этом десятке страниц, в описании теснящегося в залах хлама, Бальзак без стеснения раскидывает перед нами всю свою одержимость реальностью и словесную манию, фактически совершая своего рода акт писательской проституции, а попутно позволяет также заглянуть в сновидческие омуты воображения. В фантастическом, задуманном как этакая всемирная шкатулка магазине, где обитает сухонький старичок, которому наверняка больше ста лет, Рафаэлю как истинную поэзию предлагают сочинения геолога Кювье. Читая их, говорит приказчик, сопровождающий его на верхних этажах, вы, уносимые его гением, парите над бездонной пропастью минувшего и, когда, раскрывая слой за слоем, обнаруживаете в каменоломнях Монмартра и в сланцах Урала окаменевшие останки животных, что жили до потопа, ваша душа ужасается при мысли о миллиардах лет и миллионах народов, забытых короткой памятью человечества.
Moments musicaux[89]89
Музыкальные моменты (фр).
[Закрыть]
В сентябре 1996 года, в одном из походов по острову Корсика, я однажды сделал первый дневной привал на лугу у опушки высокоствольного леса Аитоне. Над темно-синими, почти черными в глубине котловинами и долинами передо мной полукружьем вставали гранитные утесы и вершины, иные высотой до двух с половиной тысяч метров и более. На западе замер наливающийся тьмой облачный фронт, но воздух был еще тих – ни одна былинка не шелохнется. Часом позже, когда перед самым началом ненастья я добрался до Эвизы и укрылся в кафе «Спорт», я долго смотрел в открытую дверь на улицу, на косые струи шумного дождя. Кроме меня, единственным посетителем был старик в шерстяной кофте и старой армейской куртке с капюшоном, уже, так сказать, готовый к зиме.
Помутневшие от катаракты глаза, устремленные, как у слепого, чуть вверх на свет, были того же льдисто-серого цвета, что и пастис в его бокале. Мне показалось, старик не заметил ни особу странно театрального вида, которая некоторое время спустя прошла мимо под раскрытым зонтиком, ни подсвинка, бежавшего за нею по пятам. Он неотрывно смотрел вверх и при этом вращал между пальцами шестигранную ножку бокала, размеренно, словно в груди у него вместо сердца был часовой механизм. Из кассетника за стойкой доносилось что-то вроде турецкого траурного марша, а порой высокий, гортанный мужской голос, напомнивший мне первые музыкальные звуки, какие я слышал в детстве.
Ведь сразу после войны в деревне В. в северных предгорьях Альп, кроме эпизодических концертов изрядно поредевшего ансамбля йодлеров да торжественного выступления духового оркестра – он опять же состоял всего-навсего из нескольких пожилых подмастерьев – во время шествия вокруг поля и процессии на праздник Тела Христова, и правда не было вообще никакой музыки. Ни мы, ни соседи в ту пору не имели патефона, и новый «Грундиг», который в пятидесятом году, незадолго до того как я пошел в школу, купила нам нью-йоркская тетушка Тереза за баснословную сумму в пятьсот марок, на неделе почти не включали, вероятно, потому, что стоял он в гостиной, а в гостиную по будням не заходили. Зато в воскресенье я с раннего утра слушал роттахтальцев или других местных музыкантов с их цимбалами и гитарами, ведь отец, который бывал дома только по выходным, особенно любил эту старобаварскую народную музыку, которая задним числом приобрела для меня жутковатый характер и, я знаю, будет преследовать меня до могилы. Например, несколько лет назад в гостинице «Императрица Елизавета» в Штарнберге, едва я под утро забылся сном после скверной ночи, меня поднял с постели радиобудильник, в трескучем нутре которого двое роттахтальцев – по издаваемым ими звукам я мог представить их себе только скрюченными и дряхлыми – распевали одну из своих веселых песен, где упоминались куницы, лисицы и прочее зверье, а каждый из несчетных куплетов заканчивался на «холладриу-у-у, холладрио-о-о!».
Жутковатое, потустороннее впечатление, какое произвели на меня заключенные в радиобудильнике роттахтальцы в то завешенное густым озерным туманом воскресное утро, через день-другой, по возвращении в Англию, неприятнейшим образом усилилось, когда в торгующем всяким старьем магазинчике возле станции метро Бетнал-Грин в лондонском Ист-Энде я, копаясь в картонке со старыми фотографиями, чуть ли не с ужасом обнаружил открытку, выпущенную на рубеже веков Всемирным почтовым союзом и изображавшую на фоне снежных Альгойских гор оберстдорфских плясунов в национальных костюмах, изукрашенных вышитыми веточками эдельвейса, кисточками из шерсти серны, серебряными талерами, оленьими клыками и прочими племенными эмблемами. Находка – кстати, открытка была без письма и явно успела изрядно поскитаться по свету – вправду произвела на меня такое впечатление, будто эти десятеро оберстдорфских парней и девчонок нарочно караулили меня в своем пыльном английском прибежище, чтобы напомнить: мне никогда не избавиться от своей отечественной предыстории, где народная костюмность играла такую значительную роль.
После того как в декабре 1952-го мы на мебельном фургоне экспедитора Альпенфогеля переехали из родного В. в расположенный в девятнадцати километрах городок З., мой музыкальный горизонт начал мало-помалу расширяться. Я слушал учителя Берайтера, который, совершая вместе с нами школьные экскурсии, точь-в-точь как философ Витгенштейн, всегда брал с собой завернутый в старый носок-гольф кларнет и замечательно играл на нем чудесные пьесы и мелодии, хотя понятия не имел, что это мелодии Моцарта, или Брамса, или же из какой-то оперы Винченцо Беллини. Спустя много лет, когда по чистой случайности, каких вообще-то не бывает, я однажды вечером по дороге домой включил в машине радио, услышал ту мелодию, которую так часто играл Берайтер, тему из второй части кларнетного квинтета Брамса, и после стольких лет узнал ее, в этот миг узнавания меня охватило ощущение почти полной невесомости, которое так редко встречается в нашей эмоциональной жизни.
Тем летом 1953-го я так восхищался учителем Берайтером, что и сам бы с радостью выучился играть на кларнете. Но кларнета у нас дома не было, только цитра, вот мне и пришлось дважды в неделю топать вдоль бесконечной стены егерской казармы на Острахштрассе, где под черепичной крышей секционного домишка жил учитель музыки Кернер, а за этим домишком, метрах в пяти-шести, не больше, протекал от лесопилки бурный темный ручей, откуда, как я, глядя на него, всякий раз невольно вспоминал, неоднократно вытаскивали утопленников, последним был шестилетний мальчик, брат которого учился со мной в одной школе.
Учитель музыки Кернер был человек довольно угрюмый, неповоротливый, а вот дочка его, Кати, моя ровесница, вундеркинд, снискала известность даже за рубежом, выступала в Мюнхене, Вене, Милане и бог весть где еще и, когда я приходил на урок, всегда незримо сидела за закрытой дверью на своем месте у занимавшего всю гостиную рояля, под надзором мамаши. Наплывающие волнами мощные каскады сонат и концертов, которые она разучивала, проникали и в похожий на шкаф кабинет, где я маялся со своей цитрой, меж тем как Кернер сидел рядом и нетерпеливо стучал линейкой по углу стола, если я ошибался. Игра на цитре была для меня сущим мучением, сама же цитра – этаким пыточным инструментом, над которым тщетно кособочишься и терзаешь себе пальцы, а уж о смехотворности написанных для цитры пьесок и вовсе говорить нечего.
Лишь единственный раз, как выяснится в конце моего трехгодичного обучения, я добровольно достал из футляра совершенно опостылевший инструмент: во время первой фёновой бури после сибирской зимы пятьдесят шестого года, когда мой горячо любимый дедушка лежал при смерти, я сыграл ему, уже впавшему в глубокое забытье, несколько пьесок, не вызывавших у меня органического отвращения, – напоследок, помнится, медленный лендлер в до мажоре, который еще во время игры, так мне представляется сейчас, показался мне до ужаса растянутым, словно ему никогда не будет конца.
Не думаю, чтобы я, двенадцатилетний мальчишка, догадывался тогда о том, что много лет спустя прочитал, если не ошибаюсь, в одной из работ Зигмунда Фрейда и тотчас воспринял как прозрение, а именно: сокровеннейшая тайна музыки в том, что она – способ защиты от паранойи, мы занимаемся музыкой, чтобы обороняться от напора кошмаров реальности. Словом, с того апрельского дня я отказался брать уроки цитры и вообще к ней прикасаться.
Примечательно, что к сопровождаемым первым смущением чувств музыкальным моментам, какие я по сей день не смог забыть, относится и одна немая сцена. В одноэтажной пристройке полуразрушенного и заброшенного после войны старого вокзала в З. регент хора Цобель дважды в неделю давал под вечер уроки музыки. По дороге домой, особенно в зимние месяцы, когда все вокруг уже тонуло во мраке, я часто останавливался перед давним зальчиком ожидания и смотрел, как внутри в ярком свете ламп регент, худой и слегка кривобокий мужчина, дирижировал почти неслышной сквозь двойные стекла музыкой или наклонялся над плечом того или иного ученика. Среди этих учеников двое особенно меня притягивали: Регина Тоблер, которая за игрой так красиво склоняла голову к своей виолончели, что у меня аж сердце замирало, и Петер Бухнер, который с выражением полнейшего блаженства на лице водил смычком по струнам своего контрабаса. Петер – по причине сильной дальнозоркости он носил очки, из-за чего его мшистого цвета глаза казались по меньшей мере вдвое больше, чем на самом деле, – весь год ходил в одних и тех же штанах из оленьей кожи и в одной и той же зеленой куртке. Настоящего футляра для изрядно залатанного лейкопластырем инструмента у него не было, да он бы и не дотащил этакую бандуру из поселка Таннах, где проживал, до центра городка, поэтому он веревкой привязывал контрабас, обычно укрытый цветастой клеенкой, к тележке, а дышло тележки прицеплял к багажнику велосипеда, так что по нескольку раз на неделе все видели, как Петер до или после музыкального урока катит из Таннаха к старому вокзалу или от старого вокзала в Таннах: он сидел на седле, гордо выпрямив спину, сдвинув набекрень тирольскую шляпу, за спиной рюкзак, из которого торчал смычок, тележка тарахтела следом, либо вверх по Грюнтенштрассе, либо вниз.
Учитель музыки и регент хора Цобель, кстати, был органистом приходской церкви Святого Михаила и едва успел унести ноги, когда в воскресенье 29 апреля 1945 года во время мессы в колокольню прямым попаданием угодила бомба. Целый час, как мне рассказывали, регент блуждал потом под бомбежкой среди рушащихся домов, пока, с ног до головы в гипсовой пыли, как раз когда сирены завыли отбой, этаким жутким призраком нагрянувшей в З. катастрофы не добрался до палаты жены, которая уже много месяцев лежала в больнице.
Добрых десять лет спустя – колокола давным-давно вернулись на отстроенную колокольню – я во время воскресной мессы всегда забирался на верхние хоры, смотрел, как регент играет на органе. Помнится, он, регент, как-то обронил при мне, что в пении собравшейся в нефе паствы сквозит что-то неприятно заторможенное и всегда слышно, что хоть кто-нибудь да фальшивит. Самый громогласный из этих фальшивящих был некий Адам Херц, по слухам беглый монах, трудившийся скотником в хозяйстве своего дядюшки Ансельма.
Каждое воскресенье Адам Херц стоял справа в последнем ряду скамей, аккурат у лестницы на хоры, где раньше находился чулан для прокаженных – их веками запирали там на время богослужения. С исступлением, будто от ужасной душевной боли лишился рассудка, Херц голосил католические песнопения, которые все знал наизусть. Лицо его с мученическим выражением было обращено вверх, подбородок выпячен, глаза закрыты. Летом и зимой он ходил в грубых, подбитых гвоздями башмаках на босу ногу и в перепачканных коровьим навозом рабочих штанах, едва достигавших до щиколоток, но помимо этого, даже в мороз, не носил ни рубахи, ни жилетки, только старое летнее пальто, из-под лацканов которого выглядывала костистая, поросшая седыми волосами грудь, точь-в-точь, думаю я сейчас, как в романе «Замок» у бедолаги Варнавы из-под куртки посыльного.
Регент, который более-менее во сне аккомпанировал двум десяткам вечно одних и тех же песнопений завывающей паствы, каждый раз лишь в конце мессы снова просыпался и бурей рожденных фантазией органных пассажей буквально выметал орду верующих из церкви. Церковь вскоре пустела, становилась вдвое более гулкой, и он смело, прямо-таки бесшабашно играл вариации на тему из Гайдна, или из симфонии Брукнера, или из иного любимого опуса, его хилое тело, словно метроном, раскачивалось из стороны в сторону, а сверкающие лакированные ботинки, как мне казалось, независимо от остальной его персоны выделывали на педалях истинное па-де-де. Регистры включались один за другим, пока волны звуков из органных труб, в своем нарастании грозившие, как я порой опасался, разрушить само мирозданье, не достигали кульминации, и регент, которого в этот миг невольно охватывало странное оцепенение, резко обрывал игру, чтобы с выражением счастья на лице еще некоторое время вслушиваться в тишину, наплывающую во все еще дрожащем воздухе.
Если идти от приходской церкви вверх по бывшей Риттер-фон-Эпп-штрассе к центру З., то непременно пройдешь мимо трактира «Бык», где в пустующем по будням банкетном зале каждый субботний вечер собирались за столом участники хорового общества. Помню, однажды, когда городок утопал в снегу, я, привлеченный незнакомыми звуками, в зимнем безмолвии доносящимися из «Быка», зашел в этот зал и там, один-одинешенек в полумраке, стал свидетелем тому, как на сцене – она казалась мне удаленной на многие мили, а построили ее еще до Первой мировой – репетировали финальную сцену оперы, которая вскоре, как я уже слыхал, будет представлена публике.
Что такое опера, я тогда не знал и не представлял себе, что означают три костюмированные фигуры и блестящий кинжал, который сперва держал в руке винокур Цвенг, потом мебельщик Гшвендтнер, а под конец табачница Белла Унзинн, но что у меня на глазах, возможно, разыгрывается катастрофа, я услышал по отчаянно переплетенным голосам еще до того, как Франц Гшвендтнер лишил себя жизни, а Белла рухнула без чувств.
И как же я удивился тридцать лет спустя, когда снова увидел эту трагическую сцену, до тех пор совершенно забытую, в одном из лондонских кинотеатров, невероятным образом даже в почти таких же костюмах. Клаус Кински, чьи соломенно-желтые, будто наэлектризованные волосы стоят торчком, смотрит из задних рядов партера Амазонского театра в Манаусе на сцену, где происходящая в XVI веке среди испанских грандов и горных разбойников история пересекается с последней из их многочисленных революций. Закутанный в черный плащ Сильва протягивает кинжал одетому в просторную блузу Эрнани, которого играет Карузо, Эрнани вонзает кинжал себе в грудь, еще раз героически взбирается на самую вершину певческих регионов, после чего падает к ногам безутешной Эльвиры, сиречь Сары Бернар, которая незадолго до того с беспримерной ловкостью лунатика спустилась на своей деревянной ноге по каменной крепостной лестнице.
Набеленная, одетая в слегка заношенное серо-голубое гипюровое платье, она выглядела точь-в-точь как Белла Унзинн на подмостках «Быка», да и Карузо (Фицкарральдо думает, что в последнюю минуту жизни тот указал именно на него) в своей разбойничьей шляпе, с закрученными усами и в пурпурных колготках здорово походил на мебельщика Гшвендтнера, каким я его запомнил.
Заключительные сцены фильма «Фицкарральдо» тоже имеют для меня особое значение, так как связаны с особыми моментами жизни. Неимоверными усилиями в девственном лесу пробили просеку и с помощью примитивных лебедок перетащили пароход через горный кряж, разделяющий две реки, и теперь, когда безрассудный план почти что осуществлен, пароход снова спокойно покачивается на воде. Однако в ночь праздника индейцы хиваро, задумавшие другое путешествие, рубят канаты, и вот уж пароход плывет вниз по течению, без руля и без ветрил, на скальные обрывы Понго-де-Муэртас. Фицкарральдо и его голландец-капитан ждут неминуемого крушения, тогда как хиваро, собравшиеся на палубе, молча глядят вперед, уверенные, что теперь уж недалеко до желанного счастливого края.
В самом деле, корабль чудом проходит через смертельные пороги. Слегка побитый и завалившийся на один борт, но с элегантностью примадонны, он по большой дуге выплывает из мрачных джунглей на залитую слепящим светом широкую реку. Час спасения, как вдруг – новое чудо! – приходит весть, что итальянская труппа поставила в Манаусе оперу Беллини, и вот уже актеры на нескольких лодках плывут по реке, поднимаются на борт, принимаются играть и петь. За островерхими пуританскими шляпами высится картонная кулиса гор, о которых либретто утверждает, будто они находятся в районе Саутгемптона. Толстощекие индейцы трубят в охотничий рог – ангелы лучше не сумеют! – а Родольфо и безумная Эльвира (благодаря счастливому повороту событий она вновь в здравом уме) объединяют свои голоса в дуэте, который в чистом блаженстве упраздняет разделенность тел и завершается словами benedici a tanto amore[90]90
Благословенна любовь (ит).
[Закрыть]. Корабль дураков меж тем скользит по серебряной реке. Вот так, стало быть, мечта Фицкарральдо об опере средь девственного леса все же сбылась. Сам он стоит, прислонясь к красному театральному креслу, курит огромную сигару, слушает чудесную музыку и чувствует на лбу легкий попутный ветер.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































