Текст книги "Campo santo"
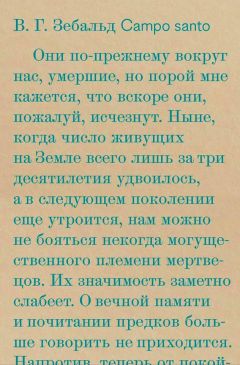
Автор книги: В. Зебальд
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Хроника кампании 1969 года отмечена восторженным чувством победы социал-демократов на выборах, одержанной с небольшим преимуществом; в ней подлинная линия демократии в Федеративной Республике неоднократно идентифицируется с долгим походом социал-демократов и не в последнюю очередь с той ролью, какую на последнем этапе этой тяжелой дистанции сыграли литературные пионеры. К итогам такого опыта относится и крепнущее понимание, что демократия – нечто большее, нежели просто здоровая экономика. Грасс подчеркивает это в «Дневнике», включив в свой текст как цитату ходовые лозунги, в которых заявляет о себе новое сознание нации, опирающееся на экономический успех: «„.и вот спустя двадцать пять лет. Из развалин и пепла. Из ничего. И снова мы есть. Без ложной скромности. Что бы ни творилось в мире. Никто не ожидал. Не стыдно показать.“
Да и еще раз да. Стоит, многоэтажная, и кое-чего стоила. Вложили столько-то и еще столько. Все крутится, течет, катится и автоматически смазывается. Не только вчерашние победители, сам Бог обращается к нам за кредитами. Мы снова есть, снова что-то собой представляем, мы снова, мы…»16
Вопрос, звучащий в этой синоптической насмешке, касается внутренней идентичности нации и, как на первых же страницах показывает коллаж «Дневника», ответить на него можно только в комбинаторной репрезентации переживаний успехов настоящего и еще толком не расшифрованных обвинений нашего прошлого.
Вот так литературно-политические путевые заметки о предвыборной кампании в Германии одновременно становятся репортажем об исходе данцигских евреев и описанием места, которое – что весьма характерно – в атласе посвященной Данцигу работы до тех пор оставалось большим белым пятном. Без этих пассажей, повествующих о судьбе гонимого меньшинства, книга «Из дневника улитки» наверняка осталась бы скорее однослойной. Ведь только конкретная память наполняет содержанием и центральное повествование о жизни школьного учителя Скептика, и происходящие на другом уровне раздумья о меланхолии. Не в пример большинству текстов, посвященных геноциду, локально-историческая конкретизация ведет речь не о «евреях» в ужасающе абстрактном смысле; здесь автор, а вместе с ним и читатель осознают, что данцигские, аугсбургские и бамбергские евреи некогда действительно существовали как сограждане и соседи, а не только как этакий расплывчатый коллектив.
Судьба данцигских евреев
Историей данцигских евреев, которую нам излагает Грасс, мы в первую очередь обязаны не самому автору, в общем весьма сведущему в данцигских делах, но труду еврейского историка Эрвина Лихтенштайна. Поэтому даже слегка любопытствуешь, не досталась ли эта история Грассу – если мы правильно расшифровываем его собственный текст – в известном смысле даром. «Когда мы 5–18 ноября 1971 года были в Израиле, – в скобках замечает Грасс в «Дневнике», – <…> Эрвин Лихтенштайн сказал, что вскоре в издательстве Мора в Тюбингене выйдет его документальная книга „Исход евреев из Вольного города Данцига“»17. И в самом деле, впечатляющие реальные подробности, придающие аутентичный характер путешествию данцигских евреев с родины в эмиграцию и из эмиграции на родину, восходят почти исключительно к разысканиям Лихтенштайна.
Вопрос о том, на каком этапе замысла Грасс включил в свой текст историю исхода данцигской еврейской общины, остается открытым. Однако не подлежит сомнению, что эта глава «темной и запутанной истории», о которой в повести «Кошки-мышки» рассказчик говорит, что она «должна быть написана, но не мною и, конечно, не в связи с Мальке»18, в конечном итоге действительно никак ни могла быть написана самим Грассом. Ведь о реальной судьбе гонимых евреев сами немецкие литераторы по-прежнему знают очень мало. Но поскольку порок нюха, если обратиться к метафоре Канетти, ведет их, как всех писателей, через бездны времени19, они, по словам самого Грасса, вернулись домой, учуяв, что «везде – не только в нарядных особнячках, то открыто глядящих на улицу, то кокетливо прячущихся в зарослях лаванды, тут подчеркнуто холодноватых, там уютно утопающих в зелени, но и рядом с ними и вообще повсюду стоит вонь, потому что и здесь, и там, и по соседству в подвалах лежат трупы»20.
Поиски правды тем самым показаны как занятие собаки, которую Беньямин описывает как гербовое животное меланхолии и которая, как было известно и Кафке, «служила символом неутомимого исследователя и человека, склонного к углубленным размышлениям»21.
«Писатель, дети мои, – пишет Грасс, меланхолически размышляя о собственной профессии, – это тот, кто ищет трупный запах, чтобы дать ему название, для кого вся жизнь в этом названии; это условие его существования, от которого в носу появляются трудовые мозоли»22. Однако, невзирая на этот как бы конституциональный исследовательский энтузиазм литератора, как отмечали Митчерлихи, «реальные люди, которых мы тогда были готовы принести в жертву нашей расе господ, все еще не возникли перед нашим духовным взором»23. Если Грассу позднее удалось в своем «Дневнике» несколько возместить дефицит, то обязан он этим прежде всего стараниям живущего в Тель-Авиве историка, а это в свою очередь проясняет, что нынешняя литература, предоставленная самой себе, уже не способна измыслить правду.
Образ Германа Отта
По этой причине и образующая стержень «Дневника» история Германа Отта, посредством которой автор обеспечивает восприимчивому воображению читателя много утешительного, по большому счету не выдерживает критического рассмотрения. Не в пример документальным пассажам об исходе евреев и о предвыборной борьбе, рассказам о семейной жизни автора дневника и эссеистическим экскурсам, она, хотя все прочее соотносится с нею, попросту выдумана. Правда, поначалу это маскируется неоднократными ссылками, что речь здесь идет более-менее об услышанном от Марселя Райх-Раницкого.
Герман Отт, он же Скептик, по профессии штудиенасессор и действительно маловер, который – с тех пор как еврейским детям в Данциге закрыли доступ в государственные школы – преподает в розенбаумской частной школе и по-прежнему покупает салат у зеленщиков-евреев, даже когда рыночные торговки из-за этого уже кричат ему вслед «черт окаянный», – Герман Отт ретроспективно представляет собой идеальный образ автора; структурно он, при меньшей фатальности, мало отличается от Риккардо Фонтаны, напоминающего архангела молодого патера, который в хоххутовском «Наместнике» служит доказательством, что добро существует и перед лицом массового уничтожения.
Чтобы не возникло сомнений в немецкой идентичности Германа Отта, Грасс прослеживает арийское генеалогическое древо своего литературного альтер эго вспять аж до голландского Гронингена XVI столетия. Здесь, как и во всем, что мы узнаем о Германе Отте, подразумевается, что хороший немец существовал на самом деле, – тезис, который благодаря соединению вымысла с документальным материалом, так сказать, заемно притязает на высокую степень вероятности. Вправду ли хорошие, невиновные немцы, ведущие скромную героическую жизнь в нашей послевоенной литературе, существовали в том виде, какой внушается читателю, объективно, пожалуй, куда менее важно, нежели общеизвестный факт, что свою деятельность они, как можно прочитать у Бёлля, ограничивали тем, что в Страстную пятницу молились еще и за «неверных лембергских евреев»24.
В этих вымышленных персонажах, среди которых Скептик Гюнтера Грасса безусловно один из самых достойных, послевоенная немецкая литература искала свое нравственное спасение и за этим занятием упустила научиться пониманию тяжелых, затяжных деформаций в эмоциональной жизни тех, кто без вопросов дал включить себя в систему.
Искусственная фигура школьного учителя по прозвищу Скептик, позволяющая Грассу развить улиточную меланхолию, выглядит поэтому как противостоящее программной интенции, то есть скорби, оправдание, которое, несмотря на помощь Лихтенштайна, опять-таки умаляет реальные аспекты истории данцигских евреев. Один из пассажей «Дневника», когда в результате конфронтации исторической действительности и ретроспективной фикции виден отсвет правды, это фрагмент, где речь идет о транспортах еврейских детей, которым вплоть до августа 1939 года еще удавалось покинуть Данциг в направлении Англии. На вопросы собственных детей:
– А там им тоже надо было ходить в школу?
– И они все скоро выучили английский?
– А их родители?
– Что с ними сталось?25 —
Грасс отвечает ссылкой на родившегося в Данциге английского журналиста, который некоторое время сопровождал его в предвыборной поездке. У этого журналиста, покинувшего Данциг двенадцатилетним мальчиком с одним из детских транспортов, картины родного города – «остроконечные крыши, церкви, улицы, террасы вдоль фасадов, колокольный перезвон, чайки на льдинах и на стоячей воде» – остались в памяти «давно заброшенной игрушкой». «Штудиенасессора Отта (по кличке Скептик) он не помнил»26. Из набросанной таким образом ситуации вытекает вопрос, не вредит ли доминирование вымысла над реально случившимся описанию правды и попытке создать себе память.
Предвыборная борьба за социал-демократию
К идеальным образам, какие Грасс рисует в «Из дневника улитки», относится, кстати, и его представление о немецкой социал-демократии, ради которой он берет на себя тяготы предвыборной поездки протяженностью в 31 000 километров.
В этом контексте прежде всего бросается в глаза, что Грасс охотно рассуждает о предыстории и происхождении социал-демократии, но не говорит ни слова о политическом развале, который эта партия учинила в Германии в годы после Первой мировой войны. Так, на страницах «Дневника» появляются Август Бебель в зеленом халате токаря и «Эде» Бернштейн, и мы узнаем, что по-прежнему точными карманными часами первого партийного лидера владеет теперь Вилли Брандт, что создает приятное впечатление чуть ли не семейной солидарности с представителями честного прошлого; а вот об Эберте и Носке – назовем лишь два менее славных имени – мы не слышим ничего.
Не объясняется молодому поколению читателей и как вышло, что страна, создавшая в конце XIX века самое сильное и самое отлаженное социалистическое движение, двадцатью-тридцатью годами позже угодила в лапы фашизма. Грассов экскурс в историю социал-демократии весьма похож на недодержанный снимок, слишком засвеченный и мутный, и только для оживляжа снабжен кой-какими живописными деталями и славными фигурами вроде старого доброго Бебеля, который ко времени Закона о социалистах, подавая пример товарищам, нелегально разъезжает по Германии, ввиду чего, разумеется, и кампания новых глашатаев социал-демократии предстает в слегка героическом свете.
Чувство братства и единства распространяется порой и среди надеющегося на новый политический день поколения «сорокалетних», которое, как считает Грасс, будто стремится «компенсировать повышенной продуктивностью спад производительности у нескольких сильно побитых войной поколений»27. У читателя чуть ли не создается впечатление, что в конкретных выступлениях за перемены к лучшему в политике Германии автор находит оправдание тому, что́ (хотя он сознает свою невиновность) по-прежнему мучает его в немецком прошлом и что лишь в активизме политической возни и в лихорадочных разъездах – Бёлль во «Франкфуртских лекциях» назвал их особой формой немецкого отчаяния – он может чуточку опередить в стыде и вине упорных, молчаливых улиток28.
Дюреровская «Меланхолия»
Если в политической работе, в которой Грасс, как он не раз подчеркивает, видит нечто более реальное, нежели в утопических прожектах, удается отвлечься от временами шевелящейся безутешности, то дюреровская «Меланхолия» как fellow traveller[49]49
Попутчица (англ.).
[Закрыть] и ангел нечистой совести все-таки прокралась в его багаж.
Эта невероятная дама, в которой зарыта собака и складки одежды которой прячут вонь всей страны, «негнущимися пальцами <…> держит циркуль и не может дочертить круг до конца»29 – вероятно, потому, что она (как и сам автор), помимо актуальной задачи, занята неразрешимой проблемой квадратуры морали, заключенной в вопросе, нельзя ли писательством, заместительно за всех других, кто этого не делает, внести вклад в излечение нации, примерно таким манером, как Скептик излечивает свою холодную Лизбет, используя неклассифицируемую улитку. Черная желчь, которую этот курьез природы в магическом процессе высасывает из замученной депрессиями Лизбет, как вспоминает Грасс, еще в XVI веке была синонимом чернил, какими оставляет свой след писатель. Впрочем, использующий черную желчь как средство творческой работы рискует унаследовать непонятое уныние тех, кому адресовано его утешение.
Дальнейший ход истории Скептика иллюстрирует это весьма доходчиво. После того как он получил доказательство, «что меланхолия» – посредством улиточной терапии – «излечима»30, автор назначает ему двенадцать лет в закрытой лечебнице, где он «что-то бормотал, сидя над своими вкривь и вкось исписанными бумажками» и жил в задумчивости, прежде чем неведомо как выздоровел и нашел в Федеративной Республике, в Касселе, новый приют как референт по культуре.
Если оставить без внимания этот не в меру счастливый поворот истории, то, пожалуй, она сообщает, что в системе общественного разделения труда именно писатель, которому поручена квадратура морали, принимает на себя коллективную совесть и, как Дюрер на (упомянутом в тексте Грасса) автопортрете, приставляет правый указательный палец к обведенному на рисунке пером очагу болезни: «Do der gelb fleck ist vnd mit dem finger drwaff dewt so ist mir we»31[50]50
«Там, где желтое пятно и куда указывает палец, у меня болит» (нем.).
[Закрыть].
Выбирая дюреровскую демонстрацию страдания эмблемой собственной философии скорби, Грасс приходит к в конечном счете клинически неразрешимому вопросу, есть ли меланхолия конституциональное или реактивное состояние. И если поэтому правда, что без контрапунктового экскурса в скорбь хроника Грассовой поездки по Германии стала бы куда менее разумной книгой, то не менее верно, что как раз этому экскурсу свойственно нечто вымученно сконструированное, нечто вроде обязательного исторического упражнения.
III. Вольфганг Хильдесхаймер: «Тюнсет»В противоположность этому роман Вольфганга Хильдесхаймера «Тюнсет», который отнюдь не снискал уважения и признания, подобающих ему в силу его внутренних качеств, возник словно из средоточия самой скорби.
Безымянный голос совести
История мучимого бессонницей и меланхолией человека, произносящего этот длинный монолог, начинается во времена (датируемые послевоенными годами), когда рассказчик – он никогда не имеет облика, но всегда проявляется только через голос – еще пытался жить в Германии, где «в кругу зятьев, невесток и внуков» ведут свое, по видимости, непоколебимое житье-бытье «за давностью лет неподсудные и вышедшие на пенсию преступники»32. Встревоженный и смятенный тем, в чем он, подобно Гамлету, видит состояние вопиющего беззакония, безымянный рассказчик, листающий по ночам телефонные справочники, не может устоять перед соблазном разыскивать повсюду в стране затаенное чувство соучастия и сообщничества. Поначалу совершенно выборочно, затем все более систематично следуя случайно обнаруженным следам, он сообщает целому ряду благоприличных сограждан, что теперь все раскрылось, и вслед за тем получившие столь убедительное известие поспешно, иной раз прихватив только скрипичный футляр, покидают свой дом, чтобы сбежать куда подальше, как некогда судья Адам, когда выяснилось, кто разбил кувшин[51]51
Имеется в виду комедия Генриха фон Клейста «Разбитый кувшин» (1808).
[Закрыть].
Продолжая это свое занятие, рассказчик ненароком становится анонимным правителем совести своих отягощенных виной современников и как бы шутя и не без удовольствия исполняет означенную роль в развязанной им гротескной комедии, пока он, от гиперчуткого уха которого не ускользает ни малейший шорох, однажды не слышит в собственном телефоне пресловутый щелчок и не осознает, что его экспериментальная система преследования сменила полюса.
Гамлетовские ночи
Засим в нем опять резко оживает «страх перед тишиной ночей, когда действуют те, кто не испытывает страха»33, и он решает уйти от своего страха, переехав «в другую страну». Эта другая страна, из которой он теперь ведет рассказ, хотя и может быть идентифицирована как некие заальпийские земли, остается для читателя так же безымянна и неоткрыта, как и сам рассказчик, и в дальнейшем ходе истории оказывается краем, откуда, как известно Гамлету, не возвращается ни один странник, а стало быть, метафорой эмиграции и смерти.
Там протагонист в своем осознанном бедственном положении живет и говорит с нами из прочного дома меланхолии, где бродит ночами, в плену безвыходных ассоциаций ужасающего прошлого, которое в образе отца Гамлета караулит его на лестнице. Однако жажду мести, исходящую от призрака, он теперь, постигнув на основе собственного эксперимента диалектику жертвы и преследования, отметает, чтобы сохранить для себя ясность свободы от вины. Телефон, звонками которого в Германии он любил будить виновных, теперь он использует только, «чтобы слушать – порой лишь звенящую тишину, единственный звук проходящего времени»34.
Бродя по дому под взглядом отца Гамлета, который только и ждет, чтоб ему подали палец, а уж тогда он всю руку ухватит, рассказчик вспоминает собственного отца, «убитого христианскими отцами семейств из Вены или из Вестервальда»35, тот не стоит на лестнице и не высматривает «возможностей отомстить». Что сам, по примеру этого отсутствующего образца, не нуждается в мести, не предполагает избавления бездельничающих рядом бедных душ, вот почему он усиленно и с тоской вслушивается в крики петухов, как датский караул в начале шекспировской пьесы, ведь только с криком петухов духи, как известно, уходят.
Кстати, рассказчику в «Тюнсете» остается заказана высказанная в «Гамлете» благочестивая христианская надежда, «что каждый год близ той поры, когда родился на земле Спаситель, певец зари не молкнет до утра»36, а тем самым перспектива на окончательное освобождение от кошмара прошлого через прогресс истории спасения. Скорее христианская надежда в тексте окончательно дискредитируется в насыщенной алкоголем безутешности экономки Селестины, которая в одной из многих ночных сцен пытается выпросить у рассказчика отпущение грехов; в образе чикагского евангелиста Уэсли Б. Просничера, который также без приглашения наведывается к нему, чтобы позднее насмерть замерзнуть в снежном сугробе, и в газетной вырезке 1961 года, где министр обороны нацеливается поцеловать перстень на протянутой ему руке кардинала.
Крик петухов сулит здесь, стало быть, не начало нового дня в некоем высоком смысле, но лишь краткий срок до начала следующей ночи, одной из многих, какие еще надо пережить, а они, как писал Кафка, разделены на фазы бодрствования и бессонницы37.
Ритуалы меланхолии
Осознанию, что избавления быть не может, сопутствует постоянная меланхолия; развивая собственные ритуалы, она сулит себе смягчение, но не освобождение от страдания и от «feral deseases»38[52]52
«Жестокие болезни» (англ.).
[Закрыть], о которых так много говорится в «Анатомии меланхолии» Роберта Бёртона. Для самого рассказчика к этим ритуалам относятся ночное чтение телефонных справочников и расписаний поездов, разворачивание географических карт и проекция воображаемых путешествий в дальние страны, те, что и на дюреровской «Melencolia», вероятно, находятся за морем, изображенным на заднем плане. Как Роберт Бёртон, уютно проведший в меланхолии всю жизнь, так и рассказчик – человек, «who delights in cosmography <…> but has never travelled except by map and card»39[53]53
«Который находил удовольствие в космографии <…> но всегда путешествовал только на карте» (англ).
[Закрыть]. И его летняя кровать, где хватает места семи соням и где он отдается разным историям, к примеру про пути и общности черной смерти, происходит из того же столетия, что и компендиум Бёртона, из тревожной эпохи, когда впервые громко звучит опасение, «that the great mutations of the world are acted, or time may be too short for our designes»40[54]54
«Что позади уже перевороты в мире, сиречь на замыслы у нас лишь краткий срок» (англ.).
[Закрыть]. Экскурсии, которые исходя из этого понимания предпринимает рассказчик, открывают – и это тоже реминисценция из «Гамлета» – вид на раскинувшийся далеко внизу, под меланхолией, мир, «мертвый шар, где копошатся паразиты»41, а его притягательная сила пропала, растраченная впустую. Ледяная даль, куда рассказчик уходит от всей земной жизни, означает одну из точек схода в диалектике проблемы меланхолии.
Другое измерение ответственной за меланхолию сатурновской констелляции, напротив, как разъяснил Беньямин, в ассоциации с тяжелой, землистой, сухой природой этой планеты указывает на тип людей, предназначенный к тяжкому и бесплодному сельскому труду42. Поэтому рассказчик, пожалуй, не случайно находит себе в разведении трав как будто бы единственно полезное занятие. Эти травы, высушенные и в тонко дозированных смесях, он рассылает разным гастрономическим магазинам в Милане и Амстердаме, но и в Германии, в Гамбурге и Ганновере, вероятно снабдив их надписями «Rosemary, that's for remembrance»[55]55
«Вот розмарин, это для воспоминания» (англ.; пер. М.Л. Лозинского).
[Закрыть] почерком Офелии43.
Идеал отсутствия света
В этой последней, незначительной связи с живущим вовне обществом выражается еще и стремление к последовательному и постепенному отрешению от человеческого социума. Дополнительно сюда относится и тенденция к дематериализации, находящая в тексте символическое выражение в некой – по оценке рассказчика, занимающей очень высокое место – картине, которая настолько потемнела и почернела, «что совершенно невозможно предположить, что́ некогда было на ней изображено»44. «Идеал черноты» – эта картина (подписанная неким Жаном Гаспаром Мюллером) ярко его воплощает, – как отмечал Адорно в «Эстетической теории», есть «один из глубочайших импульсов абстракции»45. Следовать этому импульсу, идти туда, «где более не видно ни звезды, ни лучика света, где ничего нет, где ничто не забывается, ибо ничто не вспоминается, где ночь, где только ничто, ничто, Ничто»46, – вот глубочайшая эмоция, движущая рассказчиком, когда он во мраке изучает в телескоп межзвездные пространства.
Поиски идеала абсолютного отсутствия света остаются, как прекрасно понимает рассказчик, безнадежной затеей, ведь чем больше он сокращает угол своего объектива, чтобы исключить еще оставшиеся в поле зрения звезды, тем дальше он заглядывает в глубины пространства, откуда начинают тогда светиться до сих пор затемненные расстоянием небесные тела. Занятие, о котором здесь идет речь, не имеет таким образом ничего общего с нигилизмом в общепринятом смысле; скорее приближение к смерти, к этой черной точке, которая в воображении рассказчика постоянно становится «все чернее и толще, все толще и длиннее47 и за которую его меланхолия цепляется как «тучный плевел, растущий мирно у летейских вод»48, есть жест провокации, имеющий в виду не что иное, как покорность.
Именно меланхолия не вступает в соглашения со смертью, ибо знает ее как «самого сумрачного представителя сумрачной реальности»49, а потому, подобно приезжему, который в начале романа «Замок» добровольно переходит по мосту в неоткрытую страну, предается размышлениям о том, нельзя ли подступиться к смерти, проникнув на ее собственную территорию.
Местность, которую меланхолия намеревается исследовать, в «Замке» простирается перед нами как заснеженный, замерзший ландшафт, и Тюнсет, расположенный на севере Норвегии городок, который думает посетить рассказчик, в точности ей подобен. Тюнсет – предпоследняя остановка. Затем идет Рёрус, «этакий последний лагерь по пути на край света, ведь дальше этот путь теряется в необжитых регионах, местах столь непредсказуемых, столь опасных, что люди год за годом медлят отправиться туда, и в конце концов лагерь превратился в вечную осеннюю стоянку, где обитают стареющие исследователи, потерявшие из виду свою цель; они забыли ее и теперь лишь неуверенно ищут географические истоки меланхолии <…> которую выслеживают с давних пор, но никак не поймают»50.
Буфетчица
Неприютный край, который склонность к меланхолии принимает в этих размышлениях как свою родину, согласно его природе есть не только преддверие смерти, но и место, где все мы постоянно в гостях у мрачной дамы, которая, как в недавно опубликованном письме Хильдесхаймер писал своему другу Максу, регулярно обслуживает гостей после полуночи. Это буфетчица, по-немецки «холодная мамзель», весьма точное определение, каким, кстати, наделяет меланхолию и Грасс, и ее обязанность, в частности, – как с некоторым ехидством сообщает Хильдесхаймер – делать трубочки из ломтиков салями, обертывать холодную спаржу ленточками ветчины, накалывать оливки на соленую соломку, резать сыр на кубики, веером раскладывать огурцы, резать помидоры на осьмушки, редиску – на зубчики, лук – на колечки, рассыпать по тарелке кубики заливного и подкладывать под нарезку листья салата. А чтобы и Макс в точности знал, с кем он тут имеет дело, Хильдесхаймер добавляет: «Как видишь, родом она из Германии. Судя по наименованию, довольно холодная, особенно руки»51.
Если требуется дополнительная информация касательно этой буфетчицы, то можно добавить, что одна из ее товарок уже известна по цитированному роману Кафки, где она управляет «Господским двором», а «при дворах по обыкновению хлад и вечная зима, ибо солнце справедливости далеко от них. оттого и дрожат придворные от бесконечной стужи и уныния»52. Товарка, заправляющая в этом ветреном месте, владеет несколькими шкафами затейливых ношеных платьев, и когда она, эта мадам Смерть, посылает за кем-нибудь, ей шьют новое платье, которое потом отправляется в шкаф, к остальным, потому-то она и предлагает землемеру поступить к ней на службу портным – компрометирующее предложение, каковое он, учитывая свою миссию, отклоняет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































