Текст книги "Campo santo"
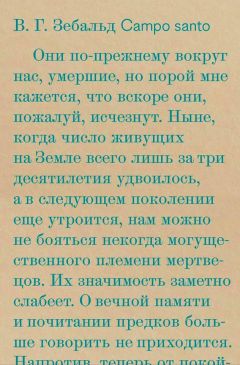
Автор книги: В. Зебальд
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Кафка в кино
Фильмы, куда больше чем книги, имеют обыкновение исчезать навсегда, не просто с рынка, а из памяти. Но об иных помнишь и спустя десятки лет, и к этим редким исключениям относится для меня баллада в черно-белых тонах о двух мужчинах, которые толком не знают, куда податься. Я видел ее в одном из мюнхенских кинотеатров в мае 1976 года и затем, взволнованный, как легко случается после подобных переживаний, прохладной ночью шел пешком в свою однокомнатную квартиру в Олимпия-Парке.
Бруно Винтер, так, по-моему, звали мужчину в полукомбинезоне, который в рассказанной Вимом Вендерсом истории странствовал в бесконечно унылых местах за линией фронта тогдашнего западного мира. Из одного обезображенного гераклитовыми плитами места он едет в другое. Его остановки – кинотеатры, куда почти никто уже не ходит. Жизнь Бруно на окраине общества, ослепшего в суете, мыслилась как дань уважения ранней киноэпохе, когда публика завороженно смотрела на дрожащие кадры, как некролог исчезнувшей форме развлечения и как взгляд назад, на послевоенные годы, когда такие разъездные киномеханики устраивали сеансы во многих отдаленных местах немецкой провинции. Вот и у нас в В. на северном краю Альп можно было раз в неделю посмотреть в зале трактира «Ангел» звуковой киножурнал и фильмы вроде «Шпионки», «Человека в сером», «Гильды» или «Джеронимо», где на экране мелькали Лорен Баколл, Рита Хейуорт, Стюарт Грейнджер, Чиф Тандерклауд и другие погасшие с тех пор звезды.
Но здесь речь не об этом, а о втором мужчине, который в начале «С течением времени», когда Бруно как раз бреется на воздухе, намеренно – это сразу видно – на полной скорости вылетает на «фольксвагене» в реку в том самом месте, где Бруно ночевал. Бруно глазам своим не верит. Бесконечный миг машина парит в воздухе, будто вправду обрела способность летать. Я и сейчас воочию вижу, как она летит. Человек за рулем, отрывающийся от земли столь же картинным манером, как и его унесенный зонтиком тезка, зовется Роберт Ландер, помнится, он то ли детский врач, то ли психолог, и после неслыханного события, представленного Вендерсом без всякой шумихи, они с Бруно путешествуют вдвоем по задворкам отечества, переживая разные приключения, из которых мне в первую очередь вспоминается поездка на мотоцикле по пустынной проселочной дороге, очень красивая, почти невесомая сцена. Если мне не изменяет память, управляет мотоциклом Бруно; Роберт сидит в коляске, в темных очках, какие раньше непременно надевали при облучении ультрафиолетом. Но ближе к делу: этот Роберт, который в фильме радуется быстрой езде и чередованию света и тени, на самом деле – актер Ханнс Цишлер, недавно выпустивший книгу, где речь идет о Франце Кафке и его подтвержденных и предполагаемых связях с совсем юной тогда кинематографией.
Ни об одном авторе не писали больше, чем о Кафке. Тысячи работ о его личности и творчестве накопились за сравнительно короткий срок, всего за полстолетия. Тому, кто хотя бы приблизительно представляет себе масштабы и паразитическую природу этого разрастания, вполне простительно усомниться в необходимости продолжать новой работой и без того слишком длинный перечень названий. Правда, «Кафка идет в кино» попадает в особую категорию. Не в пример цеховым германистам, чьи твердолобые исследования регулярно оборачиваются лишь пародией на науку, и не в пример литературоведам, испытывающим на сложности Кафки остроту своей проницательности, Ханнс Цишлер ограничивается сдержанным комментарием, нигде не выходящим за рамки интересующего его предмета. Именно эта сдержанность, ориентированная исключительно на конкретику и не позволяющая себе никаких попыток объяснения, и отличает – как видно теперь, задним числом, – наиболее заслуженных исследователей Кафки. Если сейчас взять наугад какую-нибудь из работ о Кафке, вышедших начиная с пятидесятых годов, то просто не верится, сколько пыли и плесени уже скопилось на этих экзистенциалистских, теологических, психоаналитических, структуралистских, постструктуралистских, рецептивно-эстетических или системно-критических вторичных произведениях, сколь пустая трескотня повторов звучит на каждой их странице. Конечно, нет-нет да и встретится что-нибудь другое, ведь прямую противоположность этому перемолотому на мельницах академий сору являет собой добросовестная и терпеливая работа ответственных редакторов и исследователей реалий. Во всяком случае, я, тоже не безгрешный по части фатальной склонности к домыслам, все больше убеждаюсь, что Малколм Пейсли, Клаус Вагенбах, Хартмут Биндер, Вальтер Мюллер Зайдель, Кристоф Штёльцль, Энтони Норти и Ричи Робертсон, которые первыми помогали реконструировать портрет автора в его эпоху, внесли много больший вклад в прояснение текстов, чем комментаторы, копающиеся в них без зазрения совести и зачастую просто с неприличной наглостью. И вот теперь к числу верных хранителей добавился Цишлер, который в 1978 году, работая над телефильмом о Кафке, впервые заметил разбросанные в его дневниках и книгах, частично, как он пишет, очень краткие и зашифрованные заметки по поводу кино, и с удивлением обнаружил, как мало могло сказать об этом литературоведение. Это странное отсутствие интереса дало Цишлеру толчок к поистине детективным, растянувшимся на годы разысканиям в Берлине и Мюнхене, в Праге и Париже, в Копенгагене и Вероне, итоги которых собраны теперь в полном удивительнейших находок, написанном без малейших претензий, во всех отношениях образцовом томе.
Нам, живущим в потопе визуальных раздражителей, трудно понять завораживающее впечатление, какое кино во времена Кафки вызывало у тех, кто готов был целиком и полностью предаться иллюзионизму этого искусства, во многом еще примитивного, слывшего у ценителей хорошего вкуса низкокачественным. Однако Цишлер, вероятно, потому, что сам стоял перед камерой, прекрасно знаком с возбуждением, странно смешанным из боли идентификации и отчуждения и состоящим в том, что в экстремальной, но часто повторяющейся в кино ситуации видишь собственную смерть. Почти не ощущая порога, войти в эфемерные, подобно самой жизни безостановочно тающие перед тобой картины, – для Кафки, который постоянно стремился стереть свою реальную личность, это было, наверно, чем-то вроде искушения святого Антония в пустыне. По его собственному свидетельству и по свидетельству других, в кинотеатре у него поэтому не раз набегали на глаза слезы. При виде каких сцен, мы не знаем, но, вероятно, дело обстояло примерно так же, как с во многом близким ему Петером Альтенбергом, который защищал презираемое «психологическими клоунами от литературы» кино вот такой процитированной Цишлером реминисценцией: «Моя чувствительная пятнадцатилетняя спутница и я, пятидесятидвухлетний, горько плакали во время снятого на природе короткого игрового фильма „Под звездным небом“, где бедный французский бурлак тяжко и медленно тянет свою мертвую невесту вверх по реке, меж цветущих берегов». Французский бурлак и его умершая невеста – над ними и Кафка определенно мог бы пролить слезы, ведь и для него в этой картине было все сразу: тяжесть бесконечного, похожего на мифологическую кару труда, чуждость людей в природе, история злосчастной помолвки, безвременная смерть. «Любимая, – так писал он сам Фелиции о фотографии, с которой она меланхолично смотрела на него, – портреты прекрасны, без них не обойтись, но они еще и мука».
В фотографических образах особенно трогает странная потусторонность, которую они порой нам навевают. Кафка, как показывают многие дневниковые записи, умел подмечать такие образы в реальности и фиксировать их в моментальных снимках, сделанных его столь чувствительным, сколь и холодным как лед взглядом. В госпоже Чиссик, еврейке-актрисе, он однажды особо отметил «разделенные на две волны, освещенные газовым светом волосы», а чуть дальше в этом портретном описании он говорит о ее лице: «Я ненавижу, когда пудрятся, но если этот белый цвет, этот низко над кожей витающий налет мутноватого молочно-белого цвета нанесен пудрой, то пускай все пудрятся»[80]80
Здесь и далее дневники Кафки цитируются в переводе Е.А. Кацевой.
[Закрыть]. К пассажам вроде упомянутого и к многим другим местам, где бесконечно неприступный и все же изнывающий от вожделения наблюдатель форменным образом погружается в отдельные, крайне изолированные аспекты недостижимой для него телесности, например в «болезненную белизну выреза блузки», – к такого рода, так сказать, незаконным снимкам можно присовокупить догадку, что своим эротическим излучением они обязаны близости к смерти. Как раз оттого, что смотреть на людей таким беспощадным взглядом воспрещено, человек поневоле смотрит снова и снова. Всеразоблачающий, всепроникающий взгляд принужден к повтору. Постоянно хочет удостовериться, вправду ли видел то или это. И остается лишь чистое смотрение, одержимость, где реальное время упразднено и, как иной раз во сне, на одном уровне являются умершие, живые и еще не рожденные. Когда зимой 1911 года Кафка в деловой поездке посещает «Кайзеровскую панораму» во Фридланде и через окуляр заглядывает в глубь искусственного пространства, он видит город Верону с людьми, которые «как восковые куклы, подошвами закреплены на мостовой». Два года спустя, гуляя по тем же переулкам, он будет чувствовать себя, пожалуй, столь же далеким от всего живого, как те куклы, каких он видел во Фридланде. Это странное ощущение физического отсутствия, вызванное, если можно так выразиться, гипертрофированным взглядом, есть глубочайшая тайна профанной метафизики. Характерно, что и клиенты, выходящие на улицу из сумерек пип-шоу, всегда вынуждены делать над собой небольшое усилие, чтобы обуздать тело, отказавшее в подчинении из-за долгого смотрения.
Замечания, какие Кафка делал о фотографии, позволяют заключить, что в глубине души ему было не по себе от этого способа отображения жизни. Например, Фридрих Тибергер вспоминает, как однажды он, с неуклюжим фотоувеличителем под мышкой, встретил на улице Кафку. «Вы фотографируете? – с удивлением спросил Кафка и добавил: – Вообще это несколько жутковато». А затем, после короткой паузы, обронил: «А вы еще и увеличиваете!» В произведениях Кафки повсюду опять-таки обнаруживаются знаки того, что он испытывал безотчетный страх перед мутациями человечества, которые грядут с началом эпохи технического воспроизводства и, как он предвидел, положат конец созданному буржуазной культурой автономному индивиду. Ведь по ходу действия право изначально слабых героев его новелл и романов на свободное передвижение все больше ограничивается, меж тем как, с другой стороны, там со всеми удобствами располагаются уже вызванные к жизни непостижимым законом серийности персонажи вроде эмиссаров суда, двух идиотских помощников и троих квартирантов из «Превращения», исполнительные органы и чины, чья чисто функциональная, аморальная сущность, очевидно, лучше подходит к новым условиям. Если в эпоху романтизма, когда впервые зашевелился страх перед механизмами, двойник еще был призрачным исключительным явлением, то сейчас он везде и всюду. В конечном счете техника фотографического изображения целиком зиждется на принципе совершенно точного удвоения или же потенциально бесконечного умножения. Достаточно было взять в руки одну из стереоскопических карточек, и все представало взгляду уже дважды. А поскольку изображение сохранялось и когда изображенное давным-давно исчезло, то напрашивалось недоброе предчувствие, что изображенному – людям и природе – свойственна меньшая аутентичность, нежели копии, что копия выхолащивает оригинал, точно так же как, по рассказам, встретивший своего двойника чувствует себя уничтоженным.
Поэтому мне всегда хотелось узнать, видел ли Кафка фильм «Пражский студент», снятый в 1913 году большей частью в его родном городе и наверняка там демонстрировавшийся. Ни в письмах Кафки, ни в его заметках нет никаких зацепок, Цишлер тоже об этом не сообщает, однако можно предположить, что сей достохвальный образец нового киноискусства с его яркими натурными кадрами не прошел мимо пражан. Итак, допустим, Кафка действительно видел тогда этот фильм, а значит, почти наверняка узнал в истории преследуемого двойником студента Балдуина свою собственную, ведь в точности, как в случае с Балдуином, в том же году наблюдения по поводу одного кадра из фильма «Другой» с Бассерманом (Цишлер подробно на них останавливается) обернулись мгновенным снимком его самого. Фотография, о которой Кафка пишет Фелиции, напоминает ему о берлинской постановке «Гамлета», об уже завершенной части его жизни, своего рода наследии, в котором он, как часто бывает при рассматривании старых фотографий, с испугом замечает постепенную дереализацию собственной персоны и приближение смерти. «Призрачный» – пожалуй, именно это слово лучше всего описывает здесь облик Бассермана. Ранние фильмы вообще призрачны, не только потому, что речь в них зачастую идет о раздвоении личности, двойниках и оживших мертвецах, о сверхчувственном восприятии и прочих парапсихологических феноменах, но и по причине техники: актеры входят в кадр и выходят через еще совершенно неподвижную рамку, словно духи через стену. Однако ж наиболее призрачное впечатление оставлял в фильмах широко культивировавшийся тогдашними актерами-мужчинами чуть ли не насквозь пронизывающий взгляд, как бы направленный на жизнь, к которой трагический герой уже не причастен. Кафка, среди людей нередко чувствовавший себя призраком, знал, с какой неутолимой алчностью мертвые кружат вокруг тех, что еще не умерли. Все его писательство можно трактовать как форму ноктамбулизма или, по крайней мере, его предварительную ступень. «Невесомый, бескостный, бестелесный два часа бродил по улицам и обдумывал, что я выдержал после обеда, когда писал», – записывает он однажды. Его письма, словно летучие мыши, летят ночью в Берлин, и сам он просто фантом из тех, о которых пишет Милене, что они выпивают написанные поцелуи еще прежде, чем те доходят по адресу. Цишлер цитирует также отрывок из письма, где Кафка сообщает, как по дороге домой в трамвае «на ходу, обрывками, упорно [читал] плакаты», мимо которых проезжал. Благодаря любопытству, комментирует Цишлер, Кафка до отказа наполнялся образами. По всей вероятности, они служили ему заменителем жизни, что была для него невозможна, бесплотной пищей, из которой он постоянно, во сне и наяву, создавал фантастичнейшие сценарии, где раз за разом сам становился странным киноперсонажем. Разве не странный эпизод, когда его, как он сообщает почтовой открыткой Максу Броду, из-за легкого обморока у врача кладут на кушетку и он вдруг настолько явственно чувствует себя девушкой, что старается одернуть свою девичью юбку! И разве подобные вереницы видений не суть разыгрывающиеся в камере-обскуре его души фильмы, где он бродит как собственный призрак? Тонкое, деликатное чутье позволяет Цишлеру прозондировать токи меж реальностью и фантазией. При этом фильмы, о которых он пишет, для него всего лишь пленка, сквозь которую по-новому высвечивается интенсивность почти беспрерывного сновидческого и скорбного труда на грани меж реальностью и вымыслом. Дневники Кафки полны рассказов о переживаниях, где повседневное, точь-в-точь как в кино, тает у нас на глазах, превращаясь в невесомые образы. Вот он стоит, например, на перроне, прощается с актрисой Клюг. «Мы <…> пожали друг другу руки, я поднял шляпу и держал ее потом у груди, мы отступили назад, как это делают при отходе поезда, желая показать, что все кончилось и с этим примирились. Но поезд еще не тронулся, мы опять подошли поближе, я был очень этому рад, она спросила о моих сестрах. Неожиданно поезд медленно тронулся. Госпожа Клюг приготовила платочек, чтобы нам помахать. „Пишите“, – крикнула она мне и добавила, знаю ли я ее адрес. Но она была уже далеко и ответ бы не услышала, я показал на Лёви, у которого смогу узнать ее адрес. „Хорошо“, – быстро кивнула она и замахала платочком, я поднял шляпу, сперва неловко, потом, чем дальше она удалялась, тем свободней. Позднее я вспомнил, что у меня было впечатление, будто поезд, собственно, не уходит, а минует лишь короткий вокзальный участок, чтобы показать нам спектакль, и потом исчезнет. В тот же вечер в полусне госпожа Клюг мне представилась неестественно маленькой, почти без ног, она с искаженным лицом ломала руки, словно у нее случилось большое несчастье». Драма целой жизни заключена в этой записи, смонтированной как киноэпизод, – несбывшаяся любовь, боль разлуки, погружение в смерть и возвращение той, кого счастье обмануло.
Столь характерный для творчества Кафки переход в фантастичное, происходящий с величайшей естественностью и в цитированном фрагменте, зачастую скрадывал, что якобы безнадежно эксцентричное сознание этого автора точнейшим образом отражало общественную проблематику его времени. Как нигде отчетливо это заметно в его усилиях вернуть себе утраченное еврейство. Характерно, что германистика, особенно немецкая, вплоть до середины 1980-х годов вообще не затрагивала эту тему, имевшую для самого Кафки безусловно важнейшее значение. И этот дефицит, восходящий к почти принципиальному непониманию, поныне далеко не восполнен, оттого-то именно разыскания Цишлера по поводу дневниковой записи от 23 октября 1921 года представляют особый интерес. «После обеда фильм о Палестине», – короткая запись, без комментария. Цишлер разъясняет, что этот фильм под названием «Шиват Цион» был документальным, снятым в Иерусалиме, что речь в нем шла о созидательном труде поселенцев в Палестине, что показ был устроен сионистской организацией и на многих пражских евреев, побывавших на частных сеансах в кинотеатре «Лидо», фильм наверняка произвел глубокое впечатление, причем как раз в то время, когда ввиду уже усложнявшейся ситуации все большее и большее число евреев задумывалось о выезде из страны. Кроме того, пишет Цишлер, был показан XI съезд сионистов и выступления гимнастов в Карлсбаде. Были ли это выступления еврейских гимнастов, из представленной информации неясно. Но не исключено, ведь и в реализации сионистской утопии, связанной в первую очередь с призывом к молодежи, идея физической закалки и физиологического обновления народа играла важнейшую роль, так же как и в формирующейся с начала XIX века национальной немецкой идеологии, которая изначально служила сионизму образцом. В своих автопортретах тот и другой народ, пробуждающийся после долгого угнетения или же после мнимого оттирания назад, похожи друг на друга как две капли воды, хотя масштабы и амбиции совершенно различны.
Цитируемый Цишлером корреспондент «Зельбствер» описывает, как завсегдатаям «Лидо» утром в воскресенье пришлось ждать, пока закончится первый сеанс палестинского фильма, начавшийся в полдевятого. «Новые и новые взрывы аплодисментов, – пишет он, – доносились из зала», – и продолжает: какая-то женщина, сумевшая глянуть на экран, сказала другой ожидающей: «Прямо не верится, что это евреи, они выглядят совсем не так, не знаю, но, наверно, кровь изменилась». Мне эта история напомнила другой случай, относящийся, как и киноэпизод с летающим Робертом, к 1976 году. Я пошел тогда в Кобургский земельный театр на «Натана» Лессинга, собственно безо всякой охоты, поскольку терпеть не могу ни постоянное злоупотребление этой и без того несколько сомнительной пьесой, ни немецкую театральную культуру вообще. Так или иначе, когда и впрямь прескверный спектакль закончился, я, уходя, услышал, как пожилая дама, которая наверняка вполне осознанно пережила «великое время» немецкого народа, доверительным шепотом сказала своей театральной приятельнице: «Он превосходно сыграл Натана, можно подумать, он самый настоящий еврей». Неописуемо бездонное замечание, загляни в него – и голова кругом идет, как обычно перед призраками немецко-еврейского симбиоза. Обобщающее понятие к зеркальным идентичностям – миф об избранном народе, под которым немцы безрассудно подписались в ходе сбившейся с пути национальной эмансипации. Если Герцль еще занимался квадратурой круга, воображая, что в Сионе будут говорить по-немецки, то Гитлер – кажется, в одной из застольных бесед – пришел к выводу, что двух избранных народов быть не может, тем самым неопровержимо оправдывая программу уничтожения евреев.
Фильм о Палестине – последнее кинопереживание Кафки, о котором рассказывает книга Цишлера. Что́ Кафка думал по этому поводу, ни он сам, ни иные источники не сообщают. Ясно одно: впоследствии Кафка ходил в кино нечасто. «Триумф воли» его, во всяком случае, миновал. Правда, невольно задаешься вопросом, каково было бы у него на душе, доведись ему увидеть эти шествия. И последнее: согласно Цишлеру, 20 сентября 1913 года, в тот день, когда в веронском кинематографе у Кафки от затяжной безутешности навернулись на глаза слезы, в тамошних кинотеатрах показывали фильмы «Poveri bambini», «Il celebro bandito Garouche» и «La lezione dell'abisso»[81]81
«Бедные дети», «Славный бандит Гаруш», «Урок гибели» (ит.).
[Закрыть]. «La lezione dell'abisso» – предтеча героических фильмов о горах, жанра, в котором Лени Рифеншталь два десятилетия спустя сделала себе имя. В 1935 году она, еще и теперь, как я слыхал, шныряющая в лазурных водах Мальдив, ведет съемки высоко в снежных баварских горах. Там нет ничего, кроме небесного простора, и фюрер, богоравное существо, видеть которое никому не дано (зато каждый видит все и вся его божественным, так сказать парящим над миром оком), приближается на самолете к городу мейстерзингеров, где состоится партийный съезд. Вскоре он с огромным эскортом едет по улицам. От той стародавней, трогательной Германии, которая как-то раз вспомнилась Кафке, когда он листал «Гартенлаубе», не видно и следа, из-за сплошных человеческих толп – повсюду плечом к плечу теснятся люди с сияющими лицами, стоят на карнизах, стенах, лестницах, балконах, перевешиваются через подоконники. Автомобиль фюрера движется среди них, как в ущелье. Затем, без предупреждения, странная, невероятно суггестивная последовательность кадров, где, опять-таки с высоты, виден палаточный город. Насколько хватает глаз, всюду какие-то белые пирамиды. Сперва, из-за непривычного ракурса, вообще непонятно, что это такое. День только-только начинается, и мало-помалу, среди еще полутемного пейзажа, из палаток выходят люди, поодиночке, по двое, по трое, и все идут в одном направлении, будто кто-то позвал их по имени. Величественность зрелища слегка нарушается, когда уже с близкого расстояния смотришь, как немецкие мужчины умываются, раздевшись до пояса, – главный символ национал-социалистской гигиены. Тем не менее магическая картина белых палаток остается в памяти. Народ странствует через пустыню. На горизонте уже виднеется земля обетованная. Сообща они до нее доберутся. Через восемь-девять лет после создания фильма на этом месте будут черные руины Нюрнберга, города, который в 1947-м, когда родился Цишлер, еще лежал в развалинах.
Сам Кафка, как известно, вообще не доверял утопизму. Незадолго до кончины он сказал о себе, что сорок лет скитался, покинув Ханаан, и общество людей, которого ему порой недоставало, в сущности, вызывало у него подозрения, ведь он хотел только одного – раствориться в одиночестве, как в море. Действительно, вряд ли можно найти столь одинокого человека, как Кафка на последних фотографиях, вдобавок к которым существует и еще один портрет, до известной степени из них экстраполированный. Написан он Яном Петером Триппом и изображает Кафку предположительно таким, каким бы он выглядел, если бы прожил еще одиннадцать-двенадцать лет. В 1935 году. Состоялся бы партийный съезд, в точности как в фильме Рифеншталь. И расовые законы вступили бы в силу, и Кафка, сфотографируйся он еще раз, смотрел бы на нас как с этого призрачного портрета – с той стороны могилы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































