Текст книги "Campo santo"
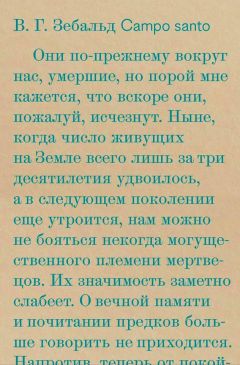
Автор книги: В. Зебальд
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Убийство воспоминания мотивировано страхом, что любовь к Эвридике, как Носсак писал в другом месте48, обернется страстью к богине смерти; она не ведает о позитивном потенциале меланхолии. Но если верно, что «шаг из скорби в утешение не самый большой, но самый маленький»49, то это ярчайшим образом сбывается у Носсака там, где вспоминается в буквальном смысле адская гибель группы людей, которые заживо изжарились в бомбоубежище, потому что двери заклинило, а в соседних помещениях горели запасы угля. «Все они отошли от раскаленных стен и сгрудились посередине подвала. Там их и нашли. Они раздулись от жара»50. Лаконичный комментарий напоминает гомеровские строки об участи осужденных: «Все на канате они голова с головою повисли; / Петлями шею стянули у каждой; и смерть их постигла / Скоро; немного подергав ногами, все разом утихли»51. Рожденная состраданием утешительная речь совершенно конкретно выводит читателя в тексте Носсака из кошмара угольного погреба в лежащий прямо за ним монастырский сад. «В апреле мы слушали там Бранденбургские концерты. И слепая певица пела: „Вновь настает страданий тяжких время“. Просто и уверенно она стояла, опершись на чембало, и мертвые ее глаза смотрели вдаль, поверх пустяковых мелочей, которые мы уже тогда боялись потерять, смотрели, возможно, туда, где мы теперь. А теперь вокруг лишь каменное море»52. Конечно, и здесь тоже речь идет о – метафизической – конструкции смысла. Но способ, которым Носсак накрепко соединяет свою надежду с волей к правде и в котором его свободный от патетики стиль помогает вынести напряжение меж этими полюсами, еще раз позволяет оправдать подобную конъектуру.
Из сравнения романа Казака с прозаическим текстом Носсака становится ясно, что в попытке литературного описания коллективных катастроф, там, где такая попытка может претендовать на законность, неизбежно прорывается форма романного вымысла, характерная для буржуазной картины мира. Связанные с этим технические приемы письма в ту пору, когда возникли означенные произведения, еще не сложились, однако проступают все отчетливее по мере того, как западногерманская литература осознает крах недавней истории. Вот почему опубликованная в 1977 году, крайне сложная и на первый взгляд разнородная книга «Новые истории. Выпуски 1-18. Зловещесть времени» Александра Клюге идет наперекор извечному, закрепленному в давних литературных формах соблазну интеграции, ибо без колебаний издана в виде авторских тетрадей, где пропедевтически собраны и организованы исторические и вымышленные тексты и изобразительный материал; она не претендует на статус произведения, скорее это образец литературной работы. Если подобный метод ломает традиционное представление о творческом субъекте, который, упорядочивая расхождения в широком поле реальности, создает целостную картину, это не означает, что тем самым теряет устойчивость и исходный пункт всякого имагинативного усилия – субъективное неравнодушие и субъективная ангажированность. Второй выпуск «Новых историй», посвященный воздушному налету на Хальберштадт 8 апреля 1945 года, именно в этом плане представляет собой образцовое исследование, которое позволяет увидеть, что только через аналитико-исторические разыскания, через соотнесенность событий с их предысторией, а равно и с позднейшим развитием, с современностью и с возможными будущими перспективами аспект личной вовлеченности в коллективные процессы, играющий также и у Носсака решающую роль, может быть сведен к по меньшей мере эвристически осмысленному понятию. Клюге, выросшему в Хальберштадте, было ко времени налета 13 лет. «Взрыв фугасной авиабомбы запоминается, – говорится во вступлении к рассказам, и еще: – У меня на глазах 8 апреля 1945 года такая штуковина взорвалась всего 10 метрами дальше»53. Более нигде в тексте автор не ссылается непосредственно на себя самого. Его отношение к описанному им разрушению родного города – позиция разысканий утраченного времени, когда шоково-травматический опыт, в сложных вытеснительных процессах отправленный пережившими в полное забвение, извлекается на поверхность, в нынешнюю реальность, обусловленную погребенной под развалинами историей. Причем ретроспективное расследование происшедшего ориентируется – в противоположность Носсаку – не на то, что автор видел собственными глазами и что из тогдашних событий он еще помнит, а на процессы в окружении его тогдашнего и нынешнего существования, ведь интенция текста в целом, как будет показано ниже, зиждется на осознании, что по причине невероятной быстроты и тотальности разрушения опыт в реальном смысле был попросту невозможен и может быть обретен лишь обходным путем, через более позднее постижение.
Также и с другой, объективной точки зрения литературное документирование воздушного налета на Хальберштадт имеет показательный характер, а именно там, где речь идет о вопросе касательно «смысла» планомерного уничтожения целых городов, который у таких авторов, как Носсак и Казак, по причине нехватки информации, а равно в силу ощущения личной вины не рассматривается или же мистифицируется как Божий суд и давно заслуженная кара. Коль скоро – ныне это, пожалуй, неоспоримо – уже сама стратегия союзной авиации, преследующая цель уничтожения возможно большего числа немецких городов посредством ковровых бомбардировок, не подлежала оправданию, то, как показывает текст Клюге, особый случай кошмарного разрушения среднего, в военно-экономическом, а равно и в стратегическом смысле совершенно незначительного города не может не поставить под серьезнейшее сомнение факторы, определяющие динамику технологического ведения войны. Сообщение Клюге содержит интервью корреспондента «Нойе цюрхер цайтунг» с высоким штабным офицером. Оба – интервьюер и интервьюируемый – участвуют в налете как наблюдатели. В цитируемом Клюге фрагменте интервью речь идет прежде всего о вопросе «moral bombing»[43]43
Моральная бомбардировка (англ.).
[Закрыть], задачу которой бригадный генерал Уильямс разъясняет, ссылаясь на лежащую в основе воздушных налетов официальную доктрину. На вопрос «Вы бомбите из морали или бомбите мораль?» он отвечает: «Мы бомбим мораль. Посредством разрушения города необходимо выбить из данного населения дух сопротивления». Далее он все же признаёт, что бомбами эту мораль, похоже, не выбить. «Очевидно, мораль все же обитает не в головах и не здесь (он указывает на солнечное сплетение), а где-то между отдельными людьми или населениями разных городов. Этим занимались и доложили в штаб… В сердцах или в головах явно ничего нет. И, кстати, вполне понятно. Ведь те, кого бомбы уничтожили, не думают и не чувствуют. А те, кто, невзирая ни на что, уцелел в таком налете, по-видимому, не берут с собой впечатления катастрофы. Берут с собой что угодно, но не впечатления мгновений налета»54. Носсак никак не раскрывает нам мотивы и разумные причины, предваряющие акт разрушения, Клюге же и в данном случае, и ранее, в своей сталинградской книге старается разъяснить организационную структуру такой катастрофы и показывает, как она, даже когда ее ненужность уже осознана, по причинам административной инерции продолжается, причем проблематичный вопрос об этической ответственности здесь не ставится вообще.
Текст Клюге начинается с описания полной неадекватности всех сложившихся в обществе моделей поведения ввиду неотвратимо наступающей катастрофы. Опытный киномеханик, госпожа Шрадер, видит, как годами отлаженный порядок воскресной программы – 8 апреля в кинотеатре «Капитоль» объявлен фильм Учицкого с Вессели, Петерсеном и Хёрбигером – нарушается программой высшего порядка, программой разрушения. Ее панические попытки хоть как-то навести порядок, управиться с уборкой до начала четырнадцатичасового сеанса, иллюстрируют проистекающий из предельного антагонизма меж активной и пассивной зоной действия катастрофы квазикомизм ситуации, заключающийся как для рассказчика, так и для читателя в том, что «разрушение правой части кинотеатра <…> не имело ни малейшей осмысленной или драматургической связи с демонстрируемым фильмом»55. Столь же иррационально выглядит рота солдат, которым приказано извлечь «сотню отчасти весьма изувеченных трупов из земли и из заметных углублений»56 и рассортировать их, причем никто им не объяснил, какую цель в данных обстоятельствах преследует «сия операция». Безымянный фотограф, который задержан военным патрулем и утверждает, что «хотел запечатлеть горящий город, свой родной город в его беде»57, как и госпожа Шрадер, руководствуется профессиональным инстинктом, а его намерение документировать еще и гибель не кажется абсурдом только потому, что его снимки, пронумерованные и приложенные Клюге к тексту, дошли до нас, хотя он тогда вряд ли мог на это рассчитывать. Наблюдатели на вышке, госпожа Арнольд и госпожа Цакке, запасшиеся раскладными стульями, карманными фонарями, термосами, пивом, пакетами с бутербродами, биноклями и рациями, действуют по инструкции, шепотом докладывают начальству, хотя вышка под ними уже шатается, и бросают свои обязанности, только когда начинает гореть деревянная обшивка. Госпожа Арнольд погибает под грудой камней и обгорелых балок, на которой стоит колокол, а госпожа Цакке с переломом бедра долгие часы лежит и ждет, пока ее не спасают люди, бегущие из домов на Мартиниплан. Свадебная компания в ресторане «У коня» уже через двенадцать минут после объявления общей тревоги погребена под обломками вместе со своими социальными различиями и распрями – жених был «из состоятельной кёльнской семьи», невеста, родом из Хальберштадта, вышла «из низов»58. Эта и многие другие истории, составляющие текст, показывают, что пострадавшие индивиды и группы даже посреди катастрофы не способны осознать реальный масштаб опасности и отойти от предписанного им ролевого поведения. Поскольку в катастрофе, как подчеркивает Клюге, реальное время и «чувственное восприятие времени»59 расходятся, хальберштадтцы лишь «мозгами завтрашнего дня» сумели бы «измыслить дельные чрезвычайные меры». В этом расхождении, которое, конечно, и «мозги завтрашнего дня» никогда не компенсируют, сбывается приговор Брехта, что человек учится на катастрофах точно так же, как подопытный кролик учится биологии60, откуда в свою очередь следует, что степень автономности человека перед им же устроенным реальным или потенциальным разрушением с точки зрения истории вида ничуть не больше, чем автономность грызуна в клетке экспериментатора, – констелляция, позволяющая понять, почему языковые и думающие машины, о которых повествует Станислав Лем, спрашивают себя, вправду ли люди умеют думать или только изображают эту активность, из которой выводят собственное самопонимание61.
Учитывая человеческую способность к переработке опыта, детерминированную обществом и естественной историей, как будто бы совершенно исключено, что наш биологический вид может избежать вызванной им же самим катастрофы только случайно, но это отнюдь не означает, что и ретроспективное исследование условий разрушения тоже бесполезно. Процесс обучения, осуществляемый задним числом, – и в этом raison d'être[44]44
Разумное основание (фр).
[Закрыть] текста, выпущенного Клюге через тридцать лет после события, – есть единственная возможность перенаправить оживающие в людях идеальные представления на предвосхищение будущего, уже не одержимого страхом, который порожден вытесненным опытом. Нечто подобное угадывает школьная учительница Герда Бете, персонаж текста Клюге. Конечно, замечает автор, для реализации «стратегии снизу», какая представляется Герде, «семидесяти тысячам решительных учителей, точно таких, как она, во всех причастных к войне странах, пришлось бы начиная с 1918 года по два десятка лет упорно заниматься обучением»62. Перспективу, что открывается здесь для возможного в известных условиях иного хода истории, вопреки ее иронической окраске, следует понимать как вполне серьезный призыв к будущему, которое можно обеспечить наперекор всей теории вероятности. Именно подробное клюгевское описание общественной организации беды, которая программируется постоянно накапливающимися и постоянно усиливающимися ошибками истории, содержит невысказанную надежду, что правильное понимание бесконечно учиняемых нами катастроф – первая предпосылка общественной организации счастья. С другой стороны, нельзя не признать, что планомерная форма уничтожения, которую Клюге исторически выводит из развития индустриальных производственных отношений, уже едва ли оправдывает абстрактный принцип надежды. Выработка стратегии воздушной войны в ее невероятной сложности, профессионализация экипажей бомбардировщиков «в вышколенных чиновников воздушной войны», необходимость по возможности отключить у этих чиновников возможные личные восприятия, «например аккуратность полей внизу, чередование порядков домов, квадраты, упорядоченные городские кварталы с родными и знакомыми впечатлениями»63, решение психологической проблемы, как сохранить заинтересованность экипажей в их задаче, несмотря на полную абстрактность ее функции, вопрос о том, как обеспечить надлежащий ход операционного цикла, когда «200 средних промышленных предприятий»64 совершают налет на город, как технически добиться, чтобы поражающее воздействие бомб привело к огромным пожарам и огненным бурям, – все эти аспекты, которые Клюге анализирует с точки зрения организаторов, показывают, что в планирование уничтожения было вложено невероятно много ума, рабочей силы и капитала, а потому под давлением накопленного потенциала оно просто не может не произойти. Центральное место в рассуждениях Клюге занимает датированное 1952 годом и включенное в текст интервью, которое хальберштадтский репортер Кунцерт, в 1945 году вместе с английскими войсками ушедший на Запад, взял у бригадного генерала Фредерика Л. Андерсона из 8-го воздушного флота США; в интервью Андерсон терпеливо пытается как военный профессионал ответить на вопрос, могло ли своевременное вывешивание сшитого из шести простынь белого флага над Мартиновыми башнями предотвратить налет на город. Кульминация поначалу чисто логистических разъяснений Андерсона, почему такая акция была бы совершенно бессмысленна, – типично иррациональный из всех рационалистических аргументов. Он ссылается на то, что в конечном счете авиабомбы – «дорогостоящий товар». «На их изготовление затрачено столько труда, что практически нельзя просто сбросить их на горы или на поля»65. Результат высших производственных необходимостей, которых – при всем желании! – не в силах избежать ни ответственные лица, ни группы, – разрушенный город, какой мы видим на фотографии, приложенной Клюге к тексту. Подпись под фото представляет собой цитату из Маркса: «Мы видим, что история промышленности и возникшее предметное бытие промышленности являются раскрытой книгой человеческих сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой психологией <…>» (курсив Клюге).
Реконструкция беды, которую Клюге таким образом осуществляет в куда более подробной форме, чем приводится здесь, сопоставима с раскрытием рационалистической структуры того, что миллионы людей изведали как иррациональный удар судьбы. Кажется, будто Клюге принял предложение, с которым аллегорический персонаж по имени Смерть в носсаковском «Интервью со смертью» обращается к своему собеседнику: «Если хотите, можете осмотреть мое предприятие. Там нет никаких секретов. В том-то и дело, что они полностью отсутствуют. Понимаете?»66 С тем же ироническим терпением, что отличает поведение бригадного генерала Андерсона, Смерть, изображенная в этом тексте как симпатичный предприниматель, объясняет своему слушателю, что, по сути, все лишь вопрос организации, правда, организации, проявляющейся не только в коллективной катастрофе, но уже во всех областях будничной жизни, так что, если хочешь проникнуть в секрет, требуется не более чем визит в финансовое ведомство или в пункт выдачи карточек. Как раз эти связи между неслыханными масштабами «создаваемых» людьми разрушений и повседневной реальностью также и у Клюге суть центр тяжести дидактической интенции автора. Непрерывно и вплоть до отдельных нюансов своего сложного языкового монтажа Клюге напоминает, что только сохранение критической диалектики между настоящим и прошлым может начать процесс учебы, которому заранее не задан «смертельный исход». Тексты, какими Клюге пытается достичь этой цели, не соответствуют, как подчеркнул Эндрю Боуи67, ни стандарту ретроспективной историографии, ни стандарту романного повествования, не пытаются претендовать и на философию истории. Речь в них скорее идет о некой форме рефлексии по поводу всех этих модальностей нашего миропонимания. Искусство Клюге, если можно употребить здесь это понятие, состоит в том, что он в деталях показывает великое движение фатальной тенденции истории. Это обнаруживается в упоминании рухнувших деревьев в хальберштадтском городском парке, «на которых еще в XVIII веке, когда их посадили, жили шелковичные черви»68, а равно и в следующем пассаже: «[Домганг, 9] Сразу после налета на окнах стояли упавшие оловянные солдатики, остальные, уложенные в коробки, находились в шкафах, общим числом 12 400, III корпус Нея, русской зимой отчаянно продвигающийся в направлении восточного арьергарда Великой армии. Их ежегодно выставляли в адвент.
И только сам господин Грамерт мог правильно расставить это множество фигурок. В паническом бегстве от этих своих сокровищ, застигнутый на Кребсшере горящей балкой, упавшей ему на голову, он более ничего сделать не может. Квартира по адресу Домганг, 9, со всеми знаками личного стиля Грамерта, еще целых два часа цела и невредима, разве только после полудня все сильнее раскаляется. К 17 часам она, как и оловянные фигурки, расплавившиеся в своих коробках, полностью выгорела»69.
Более лаконичную притчу, нежели эта, пожалуй, написать невозможно. Манера, в какой Клюге само́й формой презентации снабжает свой документальный материал векторами-указателями, обеспечивает перевод цитированного в контекст нашей современности. Клюге «does not allow the data to stand merely as an account of a past catastrophe, – пишет Эндрю Боуи, – the most unmediated document <…> loses its unmediated character via the processes of reflection the text sets up. History is no longer the past but also the present in which the reader must act»70[45]45
«…не позволяет фактам быть просто отчетом о былой катастрофе… самый непосредственный документ <…> утрачивает свою непосредственность в силу процессов рефлексии, запущенных текстом. История уже не прошлое, но также и настоящее, в котором читатель должен действовать» (англ.).
[Закрыть]. Происходящее в такой манере непрерывное информирование читателя о конкретных тогдашних обстоятельствах его жизни и о возможных перспективах для нашего будущего характеризует Клюге как автора, который на самом краю цивилизации, по всей видимости ориентированной на гибель, работает над регенерацией коллективной памяти современников, тех, что «при явно врожденной охоте рассказывать утратили психическую силу вспоминать, причем именно в зоне разрушенных городских территорий»71. Пожалуй, уже само занятие этим дидактическим делом позволяет ему не уступать соблазну сугубо естественно-исторической интерпретации недавних исторических развитий, какой снова и снова проступает в присоединенных к его текстам элементах предвидящей гибель science fiction, и интерпретировать историю так, как происходит, например, у Станислава Лема: как давно наметившийся в крайне усложненной психологии человека, в развитии его гипертрофированного духа и технических средств производства катастрофический результат антропогенеза, ab initio[46]46
Изначально (лат.).
[Закрыть] зиждущегося на ошибочных эволюционных решениях.
Конструкции скорби
Гюнтер Грасс и Вольфганг Хильдесхаймер
I. Неспособность скорбетьAnd if the burthen of Isaac were sufficient for an holocaust, a man may carry his owne pyre.
Sir Thomas Browne. Hydriotaphia, Urne-Burriall or A Brief Discourse of the Sepulchrall Urnes lately found in Norfolk. London, 1658[47]47
«И если бремени Исаака было достаточно для холокоста, человек может нести свой костер». Сэр Томас Браун. Гидротафия, Погребение в урнах, или Краткое рассуждение о погребальных урнах, найденных недавно в Норфолке. Лондон, 1658.
[Закрыть]
Дефициты в послевоенной литературе
Гипотеза Александра и Маргареты Митчерлих о «неспособности скорбеть», впервые сформулированная в 1967 году1, оказалась – хотя статистически верифицировать ее едва ли возможно – одним из самых толковых разъяснений внутренней конституции послевоенного западногерманского общества. Отсутствие «реакций скорби после национальной катастрофы величайшего масштаба», «необычайная бесчувственность в ответ на горы трупов в концлагерях, на исчезновение немецких войск в плену, на сообщения об истреблении миллионов евреев, поляков, русских, об убийстве политических противников из собственных рядов», оставили негативные отпечатки во внутренней жизни нового общества, значение которых становится вполне понятно лишь теперь, с далекой ретроспективы, скажем, фильмов Фасбиндера или Клюге.
Тезис об ошибочной внутренней установке формирующегося общества Федеративной Республики не в последнюю очередь подтверждается тем, что попытки институционализировать коллективную скорбь – Александр и Маргарета Митчерлих этого не отмечают – все-таки были. Злополучное установление Дня национальной скорби и Дня немецкого единства, когда в годы холодной войны полагалось выставлять в окнах свечи за братьев и сестер на Востоке, неуклюже свидетельствовали, что естественной скорбной реакции не было и в некотором смысле государству надлежало ее назначить. Предписание скорби народу, который не мог позволить себе настоящий национальный праздник, стало первым признаком, что немцам удалось избежать фазы коллективной меланхолии (объективные корреляты ее обрисовал план Моргентау2) и направить свою психическую энергию «на защиту от переживания меланхолического обнищания самости»3.
Митчерлихи указали, что «нравственный долг со-скорбеть о жертвах наших идеологических целей <…> смог остаться для нас лишь поверхностным душевным процессом» прежде всего потому, что в данных обстоятельствах ожидаемый с точки зрения психологии эмоциональный срыв перекрыли механизмы и стратегии, «очень близкие к биологической защите выживания, если не ее корреляты». Пока дальнейшее существование нации в какой-либо узнаваемой форме ставилось извне под сомнение и конкретная нужда не позволяла населению эмоционально разобраться с собственной виной, скорбь и меланхолия – а их можно вынести лишь на мало-мальски устойчивом общественном фоне – подпали под вытеснение. По этой причине Александр и Маргарета Митчерлих вовсе не намерены конструировать из отсутствия скорби в годы непосредственно по окончании войны упрек в психически неадекватных реакциях. Проблематичным они считают лишь тот факт, что «адекватной скорби о миллионах людей, убитых в результате наших деяний, не было и позднее». Дефицит, о котором здесь идет речь, пожалуй, более чем где бы то ни было заметен в литературе, возникшей в течение десяти-двенадцати лет после денежной реформы и почти не вникающей в обстоятельства коллективной вины и в необходимость описания учиненных бедствий. – Эгоцентричная слезливость и скорее близорукая критика нового общества, например, во многих романах пятидесятых годов являют собой суррогат исследования случившегося с иными из нас. Так, вполне оправдан упрек, что авторы пятидесятых годов, казалось бы предназначенные представлять совесть нового общества, были глухи на то же ухо, что и оно само.
Исключение Носсак
К числу немногих писателей послевоенного времени, которые ввиду случившегося не могли жить со спокойной совестью и сумели это артикулировать в той форме, что актуальна и поныне, относится Ганс Эрих Носсак. В своих заметках по поводу того времени он много пишет об ответственности уцелевших за младшее поколение, о стыде, что не принадлежишь к жертвам, о бессонных ночах, о необходимости додумывать такие вещи до конца и о крахе как подходящей для нас форме смерти4. Носсак пытался разобраться в категориях скорби на прецедентах греческой трагедии и вполне сознавал, что в обществе, которое в ощущении панического страха вины запретило себе оглядываться назад, чтобы сберечь еще оставшуюся жизненную энергию, – в таком обществе человеку, говорящему о том, «что мы оставили позади», выносят обвинительный приговор5. Носсак раньше других осознал, в чем состоит главная трудность писательства после войны: в том, что воспоминание – это скандал, бесчестье и тому, кто упражняется в воспоминании, придется, подобно Гамлету, выслушать предостережение новых властей:
Do not for ever with thy vailed lids
Seek for thy noble father in the dust:
Thou know'st ‘tis common; all that lives must die,
Passing through nature to eternity6[48]48
«Нельзя же день за днем, потупя взор, / Почившего отца искать во прахе. / То участь всех: все жившее умрет / И сквозь природу в вечность перейдет» (англ.; пер. М.Л. Лозинского).
[Закрыть].
За этими скорее дипломатичными словами королевы, в которых еще мало-мальски уравновешиваются забота о сыне и страх перед разоблачением, следует более недвусмысленное предостережение нового регента, что строптивое горе – признак воли, непокорной небу; отсюда ясно, что в отягощенном виной политическом сообществе помнить о жертвах, погибших прежде его основания, равнозначно сомнению в законности нового порядка, который вынужден принять в расчет дереализацию прошлого и идентификацию с победителями.
Идеальные фигуры
Меж тем как Носсак еще пытался, по примеру Гамлета, вопреки общему консенсусу держать глубоко скептическую позицию, большинство видных авторов новой республики (например, Рихтер, Андерш и Бёлль) уже пропагировали миф о добром немце, у которого не было другого выбора, кроме как смиренно и терпеливо все сносить. Суть тем самым входящей в обиход апологетики – фикция некоторой якобы значительной разницы между пассивным сопротивлением и пассивной коллаборацией.
Одно из последствий этого состоит в том, что большинство литературных произведений пятидесятых годов (нередко они обрамлены любовной историей, где «случайно встречаются» славный немец и польская или еврейская девушка) «прорабатывает» отягощенное прошлое не столько эмоционально, сколько сентиментально и одновременно по возможности успешно избегает – как отмечают Митчерлихи (в присовокупленной к его эссе истории болезни) – знакомства с подробностями о жертвах фашистской системы7. Если в индивидуально-психологическом случае такое поведение стремится сохранить «в ролевой схеме семьи и без того уже скудные признаки любви»8, то в литературе речь идет о сохранении традиционных повествовательных форм, не способных передать аутентичную попытку скорби в идентификации с реальными жертвами.
Митчерлихи вполне справедливо сетуют, что нам, читателям, хотелось бы получить побольше правдивой информации о конфликтах уцелевших, но мы вынуждены довольствоваться плохо выписанными идеальными фигурами невинности, которые способны вынести жизнь среди оппортунистически изменившихся соотечественников лишь как одиночки, смиренно уединившиеся в совершенно приватном, ни к чему не обязывающем бытии, хотя мы знаем, что столь благородных героев большей частью нет вообще9. «Пропасть между литературой и политикой в нашей стране осталась, – подытоживают Митчерлихи в середине шестидесятых годов, – кажется, до сих пор никому из наших писателей не удалось хоть немного повлиять на политическое сознание, на социальную культуру нашей Федеративной Республики»10.
На тот момент Митчерлихи безусловно правильно диагностировали изъяны послевоенной немецкой литературы, однако они не учитывают, что с начала шестидесятых годов, по меньшей мере с во многих отношениях разгромной пьесы Хоххута «Наместник», целый ряд авторов принялся подсчитывать статьи на счету немецкой виновности.
Задержка, с которой это произошло, объясняется не в последнюю очередь тем, что перед неискушенными в фактических расследованиях литераторами лишь благодаря опять-таки затянувшейся юридической реконструкции хода массовых преступлений забрезжили реальные масштабы геноцида, устроенного их нацией. По мере того как юридическое расследование, кульминацией которого стал освенцимский процесс во Франкфурте, раскрывало функциональность «педантично управляемого аппарата уничтожения людей»11, сознание авторов, важнейших для дальнейшего развития западногерманской литературы, стало политизироваться. Свидетельством тому «Дознание» Петера Вайса, для которого франкфуртский процесс явился своего рода Дамаском, а равно и прочитанные в середине шестидесятых годов «Франкфуртские лекции» Генриха Бёлля, говорящие о Германии и немцах куда больше и куда точнее, нежели его предшествующие литературные произведения.
С теперь уже типичной для него открытостью и прямотой Бёлль впервые ведет речь о затянувшемся процессе осознания и эмансипации в стране, где «слишком много убийц открыто и нагло» разгуливают на свободе и «никто не докажет, что они убийцы». И продолжает: «Вина, раскаяние, покаяние, прозрение так и не стали категориями общественными, уж тем более – политическими»12. Правда, здесь умалчивается, что и литература долго, во вред себе, воздерживалась от возможных прозрений и что политический и социальный иммобилизм и провинциализм, которые Митчерлихи непосредственно связывают с «упорным нежеланием вспоминать»13, имел пандан и в литературном иммобилизме и провинциализме.
Если нация в целом сосредоточивала всю свою энергию и предприимчивость «на восстановлении разрушенного, на строительстве и модернизации нашего промышленного потенциала вплоть до кухонного оборудования»14, то литература пятидесятых годов, в своего рода параллельной реакции, куда меньше определялась волей к отысканию правды, чем определенным ресентиментом относительно происшедших в экономике чудес, – в работе Митчерлихов данная констелляция диагностируется как «политическая апатия при одновременно мощной чувственной стимуляции в сфере потребления»15.
Сознательно выступать против этой политической апатии, а не просто сетовать на незаконное чудо Малахии – вот что в шестидесятые годы станет главной задачей западногерманских литераторов. Тем самым они завершат свое подлинное éducation sentimentale как свободные писатели, завершат годы учения, что затем найдет программное политическое выражение в решительном участии многих авторов в предвыборной партийной борьбе 1969 года.
Это партийное участие означало открыто занять позицию в вопросе о подлинности демократии в Германии, где – как неоднократно напоминал Бёлль – слишком бравая и скоропалительная готовность к реформам вызывала сомнения в реальной политической сущности. Активность Генриха Бёлля и Гюнтера Грасса в предвыборной борьбе 1969 года не в последнюю очередь определялась подозрением, что их западногерманских соотечественников и впредь вполне бы устраивала единая христианско-демократическая партия, и сделанным отсюда выводом, что для дальнейшего развития демократии в Германии решающее значение имеет переход власти к социал-демократам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































