Текст книги "Campo santo"
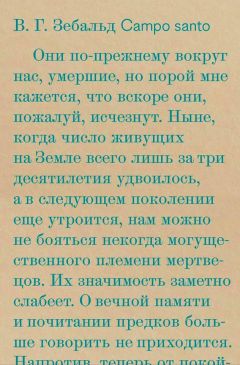
Автор книги: В. Зебальд
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Детеныш зайца, маленький зайчонок
О тотемном животном поэта Эрнста Хербека
Из литературных новинок, которые все время читаешь, большая часть уже через год-другой выглядит китчем. Во всяком случае, на мой взгляд, очень немногое выдержало испытание временем так, как стихи, написанные Эрнстом Хербеком в Гуггингской нервной клинике начиная примерно с 1960 года.
Первая моя встреча с эксцентричными языковыми фигурами Хербека датируется 1966 годом. Помню, я сидел в манчестерской Библиотеке Райландса над какой-то работой о злосчастном Карле Штернхейме, а заодно, так сказать, давая голове отдохнуть, периодически заглядывал в карманное издание «Шизофрении и языка» и поражался блеску, которым лучились явно составленные наугад словесные загадки этого бедолаги-поэта. Ряды слов наподобие «Фирн снег лед заморожен» или «Синий. Цвет красный. Цвет желтый. Темно-зеленый. Небо ЭЛЛЕНО» по сей день граничат для меня с каким-то головокружительным иным миром.
Снова и снова обнаруживаются места, легкая спутанность которых и мягкое смирение напоминают манеру, в какой Маттиас Клаудиус порой единственным сдвигом на полтона или ферматой способен на миг создать у нас ощущение левитации. Вот как пишет Эрнст Хербек: «Светло мы читаем на туманном небе / сколь густы. Зимние дни». Вероятно, нигде в литературе нет большей удаленности и большей близости. Стихи Хербека являют нам мир в перевернутой перспективе. В крошечном кругу образа заключено всё.
И уж совсем удивительно, что, помимо поэтической практики, Хербек в считаных основополагающих фразах изложил и теорию поэзии. «Поэзия, – пишет он, – это устная форма запечатления истории в лупе времени <…> Поэзия есть также отвращение к действительности, которое тяжелее ее. Поэзия – передача начальствования ученику. Ученик учит поэзию, и это история в книге. Поэзии учатся у животного, находящегося в лесу. Знаменитые историки – это газели».
Эрнст Хербек, бо́льшую часть своей жизни проведший в лечебнице, сопережил историю австрийского и немецкого народа, конечно, лишь мимоходом, но помнит рейхсканцлера Ад. Гитлера, восторженный город Вену и прочие торжества прошлого. В рождественских стихах есть не только непременный снег и горящие свечи, но и намеки на знамена, войну и гибель.
Геббельсовское военное Рождество, которое вызывали в нашей памяти разве только Клюге да Райц, вновь взблескивает в стихах Хербека. И когда стихотворение под названием «В книгу для памятных записей» начинается со строк: «день на добрый немецкий / манер Смерть былых язычников», это дает нам куда больше пищи для размышления, чем профессиональное устранение нашего груза вины и старости. По-моему, просто ошеломительно, что в историческом 1989 году Хербек написал нижеследующие строки, которые мне хочется донести до всех моих соотечественников:
Меч серьезное немецкое
Оружие и применяется готами и
Посторонними гер-
манцами; до сегодняшнего
дня. На всем немец-
ком пространстве (в Германии).
Однако я собираюсь написать здесь не о том, как Эрнст Хербек трактует национальную историю, а о его попытках записать собственную семейную историю и происхождение в сложных мифологических конъектурах. Гизела Штайнлехнер в своей книге «Сдвиг языка» показала, что творчество Хербека пронизано антропоморфными портретами животных. Дело тут прежде всего в том, что ментор нередко заранее предлагал своему пациенту заголовки вроде «Зебра» или «Жираф». Поскольку же Хербек в общем довольно точно придерживался заданных тем, в итоге возник целый бестиарий – букварь, в котором, хоть и весьма ироническим образом, подтверждается, что измысленный нами таксономический порядок в целом справедлив. «Ворон ведет благочестивых», «Сова любит детей», «Зебра скачет на просторе» и «Кенгуру налегает на опору» – все это вовсе не внушает тревоги. Однако у Хербека есть и несколько неизвестных, не отмеченных в зоологических справочниках видов, наводящих на мысль, что эти животные не так уж отличаются друг от друга, а мы ушли от них не так далеко, как нам бы хотелось. Подобно тому как в синагоге у писателя Франца Кафки, у Хербека тоже встречается существо, представляющее собой полуягненка, полукошку.
Куда загадочнее этих странных животных предстает в творчестве Хербека символ зайца, которому автор приписал вопрос о собственном происхождении. О своей предыстории Хербек роняет лишь крайне курсорные, своеобразные сведения. Все, что связано с семьей и родней, для него, похоже, туманно. «Разрешите вопрос! – пишет он. – Это дети зятя тестя их братьев-сестер? Я не в силах тут разобраться! Прошу вас, спасибо». Правда, для Хербека, приговоренного к пожизненному статусу холостяка, самое непостижимое в этих отношениях – устройство супружеской жизни, касательно которой он делает лишь несколько туманных и весьма бесхитростных замечаний:
Брак идеален для мужчины и женщины
во всех отношениях. Большей частью в него всту-
пают и его заключают. После по-
молвки и. Чем дольше он продолжается, тем
короче и дольше о-о бытие. Зайца
или вроде.
Что происходит после «и», сочинитель придумать не может или не хочет. С другой же стороны, ему известно, что супружеская жизнь в конечном счете сводится к рождению зайца. Каким образом функционирует акт зачатия, описать не так-то просто. Возможно, это не столько некий межполовой акт, сколько способ спонтанного продолжения рода, а то и волшебство.
Волшебник наколдовывает разное,
зайчат, платочки, яйца.
Колдует снова и снова.
Кладет платочек в цилиндр
И достает опять
В том числе ручного зайчика.
Чудесным образом извлеченный из цилиндра заяц – без сомнения, тотемное животное, в котором сочинитель узнает себя. Неоднократно оперированная врожденная заячья губа, которая, будучи преморбидной помехой, сыграла, вероятно, решающую роль в возникновении и особой форме шизофрении Хербека, – это идентификационный признак; Хербек мысленно относит этот дефект ко времени задолго до детства. Когда его однажды просят написать стихи «Эмбрион», он забывает это странное слово и пишет нижеследующие строки о более близком ему нерожденном сказочном существе по имени эмпирум:
Слава нашей матери! Будущее
дитя в материнском теле. Когда я
был эмпирумом, она метя
оперировала. Я не могу забыть
свой нос. Бедный эмпирум.
В своих работах о творчестве Эрнста Хербека Гизела Штайнлехнер попыталась описать прежде всего доэкзистенциальную травму, которая впоследствии стала для травмированного субъекта собственным мифом. При этом она, в частности, ссылалась на фрагмент трехстраничной автобиографии, которую Хербек написал примерно в 1970-м; там он рассказывает, как в одиннадцать лет под командой некоего Майера состоял в скаутах, а именно в «голубях», не в пример остальным, которые числились в «орлах» или в «оленях».
Скауты – одно из последних разделенных на тотемные группы объединений людей, но этот забавный факт сам по себе, пожалуй, менее важен, нежели весьма странное слово «животность» (Thierenschaft), без всякой грамматической связи вставленное Хербеком в короткую, включающую лишь несколько строк реминисценцию о скаутах; по причине давно отброшенного орфографией немого «И» оно напоминает о временах, когда человек еще не обрел способность говорить.
Поскольку в так называемых душевных болезнях регулярно всплывают более древние для истории вида мыслительные и иерархические стратегии, для раскрытия смысла, какой имеет в виду Хербек, вполне логично обратиться к основным правилам тотемистического воображения. Гизела Штайнлехнер интерпретировала заячью губу как обнаруженную самим Хербеком эмблему его раздвоения. В этой связи она разъясняет тезис Клода Леви-Строса, согласно которому в мифах американских индейцев заячья губа считается признаком незавершенного развития двойни. Эта двойственность делает зайца с его раздвоенной мордочкой посредником меж небом и землей. Однако к мессианскому призванию относится как избранность на уровне истории спасения, так и роль осужденного и гонимого в профанном мире. Не зря Эрнст Хербек, который, наверно, меньше ощущал в себе посланническое сознание Сына человеческого, нежели скорбь презренных, поставил после предложенного ему заглавия для стиха «Заяц» четыре восклицательных знака. Само стихотворение таково:
Заяц – зверек отважный!
Бежит, пока ноги
несут. Уши торчком – он
слушает. У него – нет времени
на отдых. Беги бежит бежит.
Бедный заяц!
Приписанная зайцу в мифе амбивалентность, где теснейшим образом взаимосвязаны сила и слабость, храбрость и страх, определяет и то, как Хербек воспринимает природу своего гербового животного.
Далее речь в его биографии идет о том, как мать (и на это Гизела Штайнлехнер тоже указывала) во время восстания и серебряной нужды (так их называет автор) «обзавелась зайцем». Имеется в виду, конечно, «принесла или получила в подарок» с целью улучшения не слишком обильного в ту пору питания. Но короткая формулировка Хербека как бы намекает, что мать обзавелась зайцем так же, как обзаводятся ребенком.
Этого зайца мать в присутствии отца забивает, а шкурку с него снимает. Что касается уже не упоминаемого заячьего жаркого, то в конце эпизода Хербек лишь мельком констатирует: «Ох и вкусно было». Мораль всей истории, стало быть, заключена в двух словечках. Ведь он, стало быть, участвовал в семейном преступлении не только как жертва, но и как преступник, поскольку помогал съесть своего двойника и тезку, – а вот это и есть истинная мера его вовлеченности в темные махинации нашей общественной жизни. Легенда о бедном зайце, которую Хербек сложил в объяснение своей тяжкой судьбы, для умеющего читать представляет собой историю страданий ярчайшего формата. «Чем больше страдание, – написал он когда-то, – тем более велик поэт. Тем более тяжела работа. Тем более глубок смысл».
Через Швейцарию в бордель
По поводу путевых дневников Кафки
Одна голландская знакомая недавно рассказала мне, что минувшей зимой проехала поездом из Праги в Нюрнберг. По дороге она читала дневники Кафки, а иногда подолгу смотрела на снежинки, летевшие за окном старомодного вагона-ресторана, чьи подхваченные с боков оконные занавески и красноватый свет настольных ламп напомнили ей маленький богемский бордель. От прочитанного в ее памяти сохранился только фрагмент, где Кафка описывает, как один из попутчиков ковыряет в зубах уголком визитной карточки, причем сохранился этот фрагмент не потому, что описание очень уж примечательно, а просто потому, что едва она успела перевернуть несколько страниц, как сидевший за соседним столиком весьма корпулентный человек, к ее немалому изумлению, принялся совершенно бездумно ковырять в зубах визитной карточкой. Этот рассказ послужил мне поводом после долгого перерыва вновь просмотреть заметки, сделанные Кафкой, когда он в августе-сентябре 1911 года вместе с Максом Бродом ехал из Праги через Швейцарию и северную Италию в Париж. Многое в этих заметках мне так близко, словно я сам играл в них некую роль, и не просто потому, что там так часто идет речь о Максе, например когда в купе на него падает шляпа некой дамы или Франц оставляет его «одного за рюмкой гренадина в темноте на краю полупустого уличного кафе»[75]75
Здесь и далее дневники Кафки цитируются в переводе Е.А. Кацевой.
[Закрыть]; нет, остановки обоих холостяков во время летней поездки странным образом изначально знакомы мне куда лучше, чем какое-либо другое место. Уже автомобильная поездка под дождем по ночному Мюнхену – «пневматические шины шипят на мокром асфальте, как аппарат в кинематографе» – пробуждает длинные цепочки воспоминаний о моем первом путешествии, в 48-м, из В. в Платтлинг, к деду с бабушкой, вместе с только что вернувшимся из плена отцом. Мама сшила мне зеленую курточку и рюкзачок из клетчатой ткани. Ехали мы, помнится, в купе третьего класса. На мюнхенском вокзале, где с площади были видны огромные кучи обломков и развалины, мне стало дурно, и меня стошнило в одной из тех «кабин», о которых Кафка пишет, что они с Максом мыли там руки и лицо, прежде чем сесть в ночной поезд, который через Кауферинг, Бухлоэ, Кауфбойрен, Кемптен и Имменштадт шел через мрачные альпийские предгорья в Линдау, где перроны и за полночь полны песен – сцена, которую я отлично знаю, ведь на линдауском вокзале вечно болтаются пьяные экскурсанты. Вот и «впечатление от прямых, самостоятельных, не образующих улиц домов в Санкт-Галлене», склоны долины, словно на крумауских картинах Шиле, в точности соответствуют кулисам, в которых я бродил целый год. И вообще, заметки Кафки по поводу швейцарского ландшафта, «темные, неровные лесистые берега Цугского озера» (как же часто он пишет о таких вещах) напоминают мне собственные детские поездки в Швейцарию, например на однодневную экскурсию, которую мы в 1952 году предприняли из С. на автобусе через Брегенц, Санкт-Галлен и Цюрих, вдоль Валленского озера и через долину Рейна снова домой. Автомобилей в Швейцарии было тогда довольно мало, зато чуть не сплошь американские лимузины – «шевроле», «понтиаки» и «олдсмобили», – и поэтому я вправду подумал, что мы находимся в совершенно другой, квазиутопической стране, почти как Кафка при взгляде на таможенный катер на Лаго-Маджоре невольно подумал о путешествии капитана Немо по солнечному миру.
В Милане, где я пятнадцать лет назад пережил несколько странных приключений, Макс и Франц (читателю оба кажутся едва ли не придуманной самим Францем парой) решают ехать в Париж, из-за начавшейся в Италии холеры. За столиком в кафе разговор о мнимой смерти и уколе в сердце – видимо, особая навязчивая идея в склеротической, уже многие десятилетия прозябающей в своего рода послежизни габсбургской империи. Густав Малер, отмечает Кафка, тоже просил укол в сердце. Композитор скончался всего несколькими месяцами раньше, 18 мая в санатории Лёв, когда над городом как раз гремела гроза, как в смертный час Бетховена.
Сейчас передо мной открыт недавно опубликованный альбом с фотографиями Малера. Можно видеть, как он сидит на палубе океанского лайнера, прогуливается в окрестностях своего дома в Тоблахе, идет с пляжа в Зандворте, а в Риме спрашивает у прохожего дорогу. Мне он кажется очень маленьким и выглядит как импресарио жалкого бродячего театра. В самом деле, самые прекрасные места его музыки для меня те, где в дальней дали еще слышен наигрыш еврейских сельских музыкантов. Не так давно в пешеходной зоне одного северогерманского города я слушал литовских музыкантов, чьи инструменты звучали совершенно сходным образом. Один играл на гармошке, второй – на помятой тубе, третий – на контрабасе. Я слушал, не в силах оторвать от них глаз, и вот тут понял, что́ Визенгрунд однажды написал о Малере, а именно что его музыка – кардиограмма разбитого сердца.
Несколько парижских дней друзья, скорее в унылом расположении духа, проводят в разных экскурсиях и в поисках любовного счастья в «рационально устроенном», снабженном «электрическим колокольчиком» борделе, где все происходит так быстро, что не успеваешь глазом моргнуть, как уже стоишь на улице. «Трудно, – пишет Кафка, – внимательнее рассмотреть там девушек <…> Помню я только ту, что стояла прямо передо мною. У нее не хватало зубов, она тянулась в высоту, придерживала над срамным местом сжатое в кулак платье, быстро открывала и сразу же закрывала большие глаза и большой рот. Растрепанные белокурые волосы. Худая. Я боялся, что забудусь и ненароком сниму шляпу. Пришлось прямо-таки оторвать руку от полей». В борделе тоже свои приличия. «Одинокая, долгая, бессмысленная дорога домой», – так заканчивается этот пассаж. 14 сентября Макс уезжает в Прагу. Кафка еще на неделю задерживается в санатории Эрленбах в Цюрихе. «Ехал, – пишет он по прибытии, – вместе с евреем-ювелиром. Он из Кракова». С этим молодым человеком, который уже объездил полмира, Кафка встретился по дороге из Парижа в Цюрих. Речь идет о том, что свой маленький чемодан он на выходе тащит как тяжелый груз. «У него длинные, кучерявые, время от времени взлохмачиваемые пальцами волосы, яркий блеск в глазах, слегка горбатый нос, под скулами впадины в щеках, по-американски скроенный костюм, обтрепанная рубашка, спущенные носки». Разъездной подмастерье – какие переживания ждут его в Швейцарии? Кафка, как нам известно, в первый вечер еще прогулялся по темному садику санатория, а на следующий день была «утренняя гимнастика в сопровождении песни из „Волшебного рога“, которую кто-то выдувает на корнете».
Сновидческие текстуры
Маленькое замечание по поводу Набокова
Прямо в начале автобиографии, которая носит программное название «Память, говори», рассказывается история о некоем, как мы поневоле предполагаем, еще очень юном человеке, который испытывает приступ паники, когда впервые видит фильм, снятый в родительском доме за считаные недели до его рождения. Каждая из дрожащих картин на экране ему знакома, он все узнаёт, все как полагается, кроме глубоко тревожащего его факта, что там, где он до сих пор всегда был, его нет и что его отсутствие в доме никого из других людей как будто бы не печалит. Мать машет рукой из окна верхнего этажа, а смешавшийся зритель ощущает этот жест как прощание и уж вконец пугается при виде новенькой детской коляски, стоявшей на крыльце, – странно самодовольной, как гроб, и пустой, будто при обращении событий вспять самые кости того, кому она предназначалась, исчезли. Расставленные здесь Набоковым сигналы указывают на испытанное в воспоминании о прошлом переживание смерти, которое делает наблюдателя этаким призраком среди родных и близких. Набоков снова и снова пытается дать собственное свидетельство, привнести немного света во тьму по обе стороны нашей жизни или же высветить оттуда наше непостижимое бытие. Думаю, едва ли что-то занимало его больше, чем наука о призраках, и свое знаменитое увлечение – науку о ночных бабочках и мотыльках – он, вероятно, считал лишь побочной ветвью оной. Так или иначе, самые блестящие места его прозы нередко оставляют впечатление, будто нашу мирскую суету наблюдает нездешний, не включенный пока ни в какую таксономию вид, чьи эмиссары порой гастролируют в театре живых. Как и они нам, мы, по набоковской конъектуре, видимся им тогда эфемерными, прозрачными сущностями неопределенного происхождения и назначения. Легче всего встретить их во сне, причем нередко в тех местах, где при жизни они никогда не бывали. Тихие, озабоченные и печальные, они явно страдают от того, что исключены из общества, и потому большей частью, по Набокову, сидят чуть поодаль и с серьезной миной смотрят в пол, будто смерть – темное пятно или позорная семейная тайна. Через этих «пограничников» меж потусторонним миром и жизнью спекуляции Набокова находят выход в бесследно исчезнувший после Октябрьской революции мир его детства, в безмятежно счастливые края, о которых он, несмотря на убедительную точность своих воспоминаний, порой спрашивал себя, а вправду ли они некогда существовали. Для него, бесповоротно отрезанного от родины продолжавшимся многие десятилетия террором истории, спасение каждого образа памяти было, несомненно, сопряжено с тяжелыми фантомными болями, хотя по деликатности он большей частью рассматривает утраченное сквозь призму иронии. В пятой главе «Пнина» подробно и на разные голоса идет речь о том, чего только не лишается человек на пути в изгнание – наряду с имуществом не в последнюю очередь это уверенность в реальности собственной персоны. Уже в ранних романах молодые эмигранты Ганин, Федор и Эдельвейс куда глубже отмечены опытом утраты, нежели новым зарубежным окружением. Ненароком оказавшись не на той стороне, они, словно эфемерные создания, влачат в съемных комнатах и пансионах квазиэкстерриториальную, вроде как противозаконную послежизнь, подобно своему автору, в стороне от берлинской реальности двадцатых годов. Своеобразная ирреальность такого отчужденного бытия, как мне кажется, нигде не схвачена точнее, чем в однажды вскользь оброненном замечании Набокова, что в нескольких фильмах, которые тогда снимали в Берлине и в которых для антуража требовались, как известно, всякие двойники и призрачные фигуры, он участвовал в так называемой массовке. Мне кажется, эти более нигде не отмеченные явления, о которых неведомо, влачат ли они еще существование на какой-нибудь ломкой целлулоидной пленке или же давным-давно стерлись, обладают толикой призрачности, присущей и прозе Набокова, например в «Подлинной жизни Себастьяна Найта», в том месте, где у рассказчика В. в разговоре с кембриджским однокашником Себастьяна возникает ощущение, будто дух его брата, чью историю он старается выяснить, двигается по комнате в отблесках огня, горящего в камине. Конечно, эта сцена – всего лишь отзвук литературы о привидениях, которая в XVIII и XIX веках процветала в той же мере, в какой утверждался рациональный взгляд на мир. Набоков любил пользоваться подобными приемами. Есть у него и вихри пыли, кружащие по полу, и необъяснимые порывы ветра, и странно переливчатые световые эффекты, и загадочные письма, и диковинные случайные встречи. Так, направляясь в Страсбург, В. сидит в поезде напротив господина по фамилии Зильберман, который в вечернем свете расплывается в неясный силуэт, когда «поезд тронулся прямо в закат». Коммивояжер Зильберман путешествует по делам и принадлежит к числу беспокойных духов, что охотно пересекают пути персонажей Набокова. Когда В. утвердительно отвечает на вопрос Зильбермана, путешествует ли он, а затем Зильберман спрашивает: «Во что?», В. отвечает, что в прошлое, и Зильберман тотчас его понимает. В занятии прошлым, собственным и тех, кто в свое время был ему близок, писатель и призраки едины. Пока В. пытается записать подлинную жизнь Себастьяна, этого пропавшего рыцаря ночи, в нем зреет подозрение, что, когда он пишет, брат заглядывает ему через плечо. Подобные моменты обнаруживаются у Набокова с поразительной регулярностью, может статься, потому, что он – после того как был убит его отец, а в январе 1945 года в концлагере под Гамбургом умер от истощения его брат Сергей – чутьем угадывал постоянное присутствие тех, кого силой вырвали из жизни. Соответственно одно из важнейших повествовательных средств Набокова состоит в том, что едва внятной нюансировкой и сдвигами перспективы он вводит в игру незримого наблюдателя, который словно бы имеет больший обзор, чем персонажи повествования и даже рассказчик и автор, водящий пером последнего, – этот художественный прием позволяет Набокову видеть мир и себя в нем как бы сверху. Действительно, в его книгах содержатся многочисленные пассажи, изображенные с птичьего полета. С высоты над дорогой он видит старуху, собирающую травы, видит, как к повороту с противоположных сторон приближаются два велосипедиста и автомобиль. С еще большей высоты, из синей дымки небес, пилот самолета видит всю дорогу и две деревни, отстоящие друг от друга на двенадцать миль. А если б мы могли подняться еще выше, в совсем разреженную атмосферу, то, наверно, как говорит рассказчик, увидели бы горы во всей их протяженности и далекий город в другой стране – например, Берлин. Мир глазами журавля – именно с высоты полета этой птицы голландские живописцы порой, когда писали, скажем, бегство в Египет, изображали плоскую равнину, окружавшую их внизу, на земле. Аналогичным образом писатель Набоков стремится ввысь на крыльях надежды, что при достаточной сосредоточенности можно вновь охватить синоптическим взглядом уже исчезнувшие за горизонтом ландшафты времени. Лучше большинства коллег-писателей Набоков, кстати, знал и о том, что желание упразднить время осуществимо лишь в точнейшем воспоминании вещей, давно канувших в забвение. Узор на полу ванной комнаты в Выре, белый пар над ванной, в который мечтательно всматривается мальчик, сидя в сумрачном клозете, округлость дверного косяка, в которую он утыкается лбом, – с помощью считаных, правильно расставленных слов весь детский космос вдруг предстает перед нашими глазами, как по волшебству явившись из черного цилиндра фокусника. Большую керосиновую лампу на алебастровой ножке несут сквозь темноту. Она мягко парит, потом мягко опускается. Рука слуги в белой перчатке – теперь это рука воспоминания – ставит ее на привычное место посередине круглого стола. Вот так мы участвуем в устроенном Набоковым сеансе, и чужие-знакомые лица и предметы проступают из темноты, осиянные той claritas[76]76
Ясность (лат).
[Закрыть], которая со времен святого Фомы Аквинского считается знаком подлинной бессмертной славы. Ухватить на письме такие визионерские мгновения было и для Набокова чрезвычайно трудной задачей. Нередко он часами работал над короткой последовательностью слов, добиваясь, чтобы ритм до последней каденции достиг желанного совершенства, чтобы автор, преодолев силу тяготения и сам как бы развоплотившись, мог по зыбкой конструкции своего буквенного мостика перейти на тот берег. Там, где это удается, плывешь по течению бегущих вперед и вперед строк в сияющее, как и все чудесное, слегка сюрреальное царство – стоишь, так сказать, прямо перед откровением абсолютной истины, «блистающей», как сказано в конце «Подлинной жизни Себастьяна Найта», «в своем великолепии, но в то же время почти что невзрачной в своей совершенной простоте»[77]77
Пер. Г.А. Барабтарло.
[Закрыть]. Чтобы создать подобную красоту, согласно Набокову и мессианской теории спасения, не требуется большого шума, нужен лишь крошечный духовный толчок, который выпустит заключенные в нашей голове и вечно кружащие там мысли в универсум, где, как в хорошей фразе, все на месте и все хорошо устроено. Уловки, на какие поневоле идет писатель при составлении такой фразы, Набоков сравнивал с уловками в шахматной игре, когда игроки сами суть фигуры некой партии, подчиненной незримой руке. Пароход медленно уходит с севастопольского рейда в открытое море. С берега еще доносится шум большевистской революции – ружейная пальба и крики. Но на палубе отец и сын сидят за шахматной доской друг против друга, уже углубившись в подвластный белой королеве зеркальный мир эмиграции, где от сплошной обратной жизни слегка кружится голова. Life is a Chequerboard of Nights and Days where Destiny with Men for Pieces plays: Hither and thither moves, and mates, and slays, and one by one back in the Closet lays[78]78
«Мы только куклы, вертит нами Рок, – / Не сомневайся в правде этих строк. / Нам даст покувыркаться и запрячет / В ларец небытия, лишь выйдет срок» (Омар Хайам. Рубаи. Пер. с фарси Ц. Бану; в англ. переводе использован образ шахматных фигур).
[Закрыть]. Набоков, конечно, подписался бы под ходом вечности, который выражен в этих стихах XI века, переведенных с персидского Эдвардом Фицджеральдом, одним из дальних его предтеч в Тринити-Колледже. Недаром с началом эмиграции он нигде на свете не имел настоящего места жительства, ни в английские, ни в берлинские годы, ни в Итаке, где, как известно, всегда снимал жилье и постоянно переезжал. Под конец он жил в Монтрё и с верхнего этажа отеля «Монтрё-палас» мог поверх всех земных препятствий смотреть в облака и в заходящее над озером солнце; со времен Выры, усадьбы детства, это место наверняка было для него самым подходящим и любимым обиталищем, и точно так же – по сообщению посетительницы по имени Симона Марини, побывавшей у него 3 февраля 1972 года, – его любимым транспортным средством была канатная дорога, в особенности кресельный подъемник. «Мне кажется, восхитительно и в лучшем смысле слова сказочно парить на этом волшебном сиденье в утреннем солнце меж долиной и границей лесов и с высоты видеть свою тень, как она в сидячем положении – призрачный сачок для бабочек в кулаке призрака – профильным силуэтом медленно движется внизу по усеянному цветами склону меж пляшущими чернушками и перламутровками. Однажды, – добавляет Набоков, – ловцу бабочек встретится еще более эфемерная субстанция грезы, когда он, выпрямившись во весь рост, будет скользить над горами, несомый укрепленной на спине небольшой ракетой». Это зрелище вознесения, в конце повернутое в комическое, вызывает в памяти другую картину, самую прекрасную, по-моему, из им созданных. Она находится в конце первой главы «Память, говори» и представляет собой описание регулярно происходившей в Выре сцены, когда крестьяне из деревни – зачастую в обеденное время, меж тем как Набоковы сидели в бельэтаже, в столовой, – приходили к господскому дому с какой-либо просьбой. Если дело удавалось разрешить к удовольствию просителей, то, по обычаю, милостивого государя Владимира Дмитриевича, который, вставши из-за стола, выходил к ним и выслушивал их дело, трижды общими силами подкидывали в воздух и ловили. «Внезапно, глядя с моего места за столом в одно из западных окон, я становился очевидцем замечательного случая левитации. Там на секунду являлась, торжественно и удобно раскинувшись в воздухе, фигура моего отца; его белый летний костюм слегка зыбился, руки и ноги привольно раскинулись; прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Трижды он возносился под уханье и ура незримых качальщиков, второй раз выше первого, и вот вижу его в последнем и наивысшем взлете, покоящимся навзничь и как бы навек, на кубовом фоне летнего полдня, как те небожители, в ризах, поражающих обилием складок, которые непринужденно парят на церковных сводах, между тем как внизу одна за другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя ряд меленьких огней в мрении ладана, и иерей читает о вечном покое, и траурные лилии застят лицо того, кто лежит там, среди плывучих огней, в еще не закрытом гробу»[79]79
Перевод С.Б. Ильина.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































