Текст книги "Всё потерять – и вновь начать с мечты…"
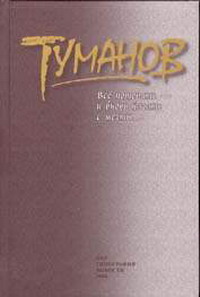
Автор книги: Вадим Туманов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
– Такое дело, Туманов, – говорит Племянников. – Никто не хочет подписывать тебе право на выход из зоны без конвоя.
– Ну что же, – пожимаю я плечами.
Наступает тягостное молчание. Я стою, как приклеенный. Выдержав паузу, полковник говорит:
– Не офицеры – я один подписываю тебе разрешение… Надеюсь, ты понимаешь: у меня есть семья и что может быть…
Он не договаривает, но я его понимаю. Полковник вызывает лейтенанта, который привез меня, берет у него из рук бумагу, что-то пишет.
– Лейтенант, сопровождать Туманова больше не надо. До Челбаньи он доберется сам. На попутке!
Выхожу на улицу. В первый раз за столько лет рядом со мной нет конвоя и не надо прятаться. Бесконвойный! Вот, оказывается, чего мне не хватало для счастья.
Дня через два выписывают официальное разрешение, но мне не верится в удачу. Подхожу к вахте, протягиваю пропуск – и меня выпускают! Потоптавшись за зоной, минут через пять возвращаюсь, снова протягиваю пропуск – и вахта впускает, ни слова не говоря! Да со мной ли это происходит? Мне захотелось со всеми здороваться, приветливо улыбаться.
Через некоторое время я слышу, как за моей спиной удивляются новички-надзиратели: «Говорили – бандит, а он из них самый культурный…»
Месяца через два-три на Челбанью приезжает полковник Племянников и расконвоирует всю мою бригаду.
Перебирая формуляры, он вдруг остановился на Шевцове, осужденном за убийство надзирателя, которого ударил молотом по голове. Не решаясь направить и его на поселение, полковник предложил мне освободиться от него и перевести в другую бригаду.
– Виктор Валентинович, – возразил я, – он хороший горняк.
– Ну, какой он, Туманов, хороший, если кувалдой человека убил. Я убеждал: так сложились обстоятельства, они оказались по разные стороны – один караулил, другой убегал… Шевцова оставил в бригаде и в конце концов разрешили передвигаться без конвоя как всем нам. Он ни разу не дал руководству Заплага и всей бригаде повода об этом пожалеть.
Примерно в это время я завожу дневник. Там ничего, почти ничего о производстве, а больше о том, что происходило со мной, вне меня, о чем мне не хотелось ни с кем говорить. Сам удивляюсь, каким чудом эта школьная тетрадка за столько лет – и каких лет! – уцелела в моем архиве. Перечитывая, я временами краснею, мне не хочется, чтобы эти записи попались кому-нибудь на глаза. Но, с другой стороны, хотя бы отрывки из колымских записок тех лет я позволю себе привести, ничего не меняя, как это чувствовалось и выливалось на бумагу тогда, чтобы вслед за Рокуэллом Кентом иметь право сказать: это я, Господи!
«13 ноября. Много дней не писал, некогда. Смешно, а в самом деле некогда. Седьмого ноября был в клубе, танцы под оркестр, много знакомых. Смотрят с удивлением, что меня выпустили на поселение, многие ненавидят, а почему-то говорят обратное. Танцевал с одной Лилей, она мне нравится, и особенно мне понравилось то, что, когда она уходила домой, сказала, чтобы и я ушел, причем таким тоном, каким говорит жена мужу.
В праздничные дни у нас украли на шахте перфораторные молотки, поэтому сейчас трудно работать бригаде, поработают хорошо. За эти дни никаких происшествий, кроме пьянок, которые уже вошли как обычное. Вчера был концерт и после танцы.
Сегодня приехал Виктор, парень, с которым я был на Широком, и весь день просидели у Авершина. В ночь вышли на работу, по-прежнему нарезка стволов. Поругался с одним из своих самых близких друзей – Милюковым.
20 ноября. Не писал целую неделю. По-прежнему работа, надоело асе. Сегодня переругался со многими бригадниками. Не знаю, отчего люди пьют и пьют, как самые отъявленные пьяницы. Со мной делается что-то непонятное. Я сегодня сам себя ударил табуреткой, так ударил по голове, что из носа пошла кровь. Если бы кто-нибудь знал, как мне тяжело. Правда, от этого мне бы не было легче, но… Как освободиться? Это все, о чем я сейчас думаю. На улице минус 50, ночь. Темно, противно. Когда всё кончится?» Не могу вспомнить хотя бы один лагерный день без приключений. Здесь постоянно что-то происходит, и если даже не случилось внешнего события, внутри тебя что-то бурлит, выходит из берегов, требует немедленного действия. Странно устроен человек: у него срок – 25, практически пожизненный, его никто не будит, он сам просыпается без пятнадцати шесть, за четверть часа до момента, когда в морозной тьме раздастся удар по рельсу, и мысли его только о том, как сегодня забурить лаву, как будто ничего главнее и жизни нет. А разобраться – ну зачем ему эта лава? Или услышал, что бригады Быкова, или Огаркова, или Чеснокова вышли впереди могут к двадцатому числу выполнить месячный план, и он чувствует себя участником бешеной гонки, которую невозможно проиграть. Они к двадцатому? Мы должны – к девятнадцатому! Тысячи людей так работают. Господи, думал я по ночам, кто меня неволит за кем-то гнаться, опережать, приходить к финишу первым, загодя зная, что ни сейчас, ни ближайшие четверть века за это никто слова теплого не скажет, но ты сам бежишь и бежишь по кругу, как взмыленная лошадь, не способная остановиться.
Ты живешь напряженно, в круговороте дня, с предчувствием, что в любой момент с тобой может что-то случиться. Чаще всего события приходят, когда их меньше всего ждешь. Захожу к ребятам своей бригады. На табурете сидит работавший у нас Федя Шваб, прекрасный парень, сам из поволжских немцев, лицо поцарапано, го лова в крови. Что случилось? Мнется, не говорит. Мне рассказали ребята: сидит Федя, играет на балалайке, в помещение заходит вор Володька по кличке Зубарик. Он не работал в нашей бригаде, но жил с нами в одной секции. Зубарик пьян и не в духе, ему не нравится, что человек играет, не обращая на него внимания. Он выхватывает из Федькиных рук инструмент и вдребезги разбивает о голову балалаечника.
– Где Зубарик?! – спрашиваю.
– Пьяный, лежит на кровати. Я подхожу. Действительно, спит Зубарик беспробудно, на мо голос не реагирует и, когда я дернул его за ногу, даже глаза не открыл. Я прошу Федю умыться, привести себя в порядок, успокаиваю бригаду. Обстановка в зоне тревожная, по-прежнему идет вражда между ворами и суками. Через пару часов Зубарик приходи в себя и поднимается. Бригада притихла, все молчат.
– Ты за что ударил Шваба? Он набычился:
– Ты обнаглел, Туманов, и твоя бригада обнаглевшая! Ну как тут сдержать себя?
– Ты что, мразь, не узнал меня? – И бью Зубарика в челюсть. Не знаю, что было с его челюстью, но от удара у него почему-то вывернулась нога, и он потом полтора месяца лежал в больнице. Развитие событий было предсказуемо. Нападение на «своего» вор не вправе оставить без последствий. Мне это очень хорошо известно. Но управлять собою в таких случаях редко удается.
Утром я выхожу со своей бригадой к вахте. В стороне вижу группу воров и слышу, как один из них, то ли не видя меня, то ли, напротив, умышленно, чтобы меня завести, говорит так, чтобы всем было слышно:
– Что-то Туманов совсем развязался…
Я с трудом держу себя в руках, подхожу к ним и говорю Мишке Власову, по кличке Слепой, одному из влиятельных в этом мире людей, с которым знаком еще по Широкому:
– Миша, посоветуй им, чтобы вели себя поумнее.
– Да ты успокойся, Вадим! С Мишей у меня были дружеские отношения. Он один из самых близких друзей Ивана Львова, Васи Коржа, Петра Дьяка, Саши Мордвина, с которыми я полтора года просидел на Широком. Я не случайно перечислил вновь имена этих людей, входивших тогда как бы в «Центральный Комитет» уголовного мира. Их знали во всех лагерях Союза. Не знаю, как поговорил Слепой с ворами, но шума по этому случаю не было.
Сколько же страшных минут я пережил за восемь лагерных лет, когда вечером входил в барак и думал: а может, утром я не проснусь? Ведь каждую ночь кого-то калечили, вешали, убивали. Думаю, что такие мысли были знакомы большинству заключенных, тем более людям, имевшим большие сроки – несколько раз по 25 лет. Можно, конечно, и в лагере прожить тихо и незаметно, ни во что не вмешиваясь, ни на что особо не реагируя, как, например, спокойные люди, прошедшие в 30-е годы через Беломоро-Балтийский канал. Их с почтением называли старыми каторжниками или старыми бэбэковцами и шутили: когда тюрем еще не было, эти уже сидели в сараях на цепи.
Не утихла одна историй, как возникает новая: бригадир Строганов поругался с горным мастером Семеном Ковалем и кинулся на него с кулаками. У Строгановых интересная семья: два брата и отец сидели за бандитизм. Я вступился за мастера, ни в чем не повинно-i о. Через день к нам в барак вбегает кабардинец Володя Шуков:
– Вадим, Строганов идет с ножом, короче, пьяный!
Я схватил свою телогрейку. Вошел Строганов, держа в руках не нож, а заточенную ромбическую пилу. И едва он приблизился, я накидываю телогрейку на пилу и бью его в голову. Пила вылетает из его рук. Набросились на него и другие бригадники. Избили так, что мне пришлось ребят оттаскивать от него. Если бы я этого не сделал – убили бы. Его выволокли на улицу полуживого.
Утром появляется оперуполномоченный Инчин. Он уже знал, что произошло:
– Туманов, если он умрет, придется заводить дело.
– А если не умрет? – спрашиваю я.
– Тогда какой же ты боксер?! По счастью, Строганов остался жив, но конец этой истории был омрачен не заставившими себя ждать новыми событиями.
Одна смена нашей бригады, отработав, отдыхала в бараке, заступила вторая смена. Я люблю эти часы, когда ребята, выйдя из шахты, приведя себя в порядок, тихо ложатся спать. В другом углу секции режутся в карты. Я попросил играющих сдерживать свои эмоции. Ну как потише, когда играют в «очко». И опять – крики, споры, ругань. Повторив свою просьбу в третий или четвертый раз, я подхожу к ним, уже с трудом сдерживаясь:
– Вы не могли бы тише, видите – люди спят.
С нар поднимается вор из амгуньского этапа.
Впервые я увидел этот этап в Сусумане на КОЛПе. Человек шестьдесят, отбывавших срок в амгуньских лагерях, привезли на Колыму и почему-то бросили в 17-й барак, где находились мы. Вернувшись в барак с работы, ничего не можем понять. Видим, что новые люди и ведут себя развязно. Нам говорят: этап с Амгуня. Я сажусь на свои нары и стягиваю сапоги. Слышу:
– Тут какие-то широкинские…
– А что тебе широкинские? – говорю я, не поднимая головы. Поверь, парень, они тебе могут показать, как нужно вести себя.
Амгунец взрывается:
– Мне? Да еще не родился человек, который коснется моей морды!
– А что ты сделаешь? – Я спокойно стягиваю второй сапог.
– А ты попробуй!
Широкинские насторожились.
– Что ты сказал? – поднимаюсь я.
– Кто коснется моей морды – убью! Мой удар валит его на пол.
– Во-о-ры! – зовет он на помощь. Из левого рукава комбинезона я выхватываю нож. Поворачиваюсь в сторону амгуньского этапа:
– Так, твари, еще секунда – и будете выпрыгивать через окна.
Все широкинские были наготове.
Подхожу к упавшему:
– А ты, сука, не истеричничай! Убивать я тебя не буду. Просто перережу сухожилия, – говорю я ему.
Ночью у амгуньских и широкинских воров шла сходка. Естественно, не спал весь барак. Утром меня просят зайти в сушилку – это большая комната, в которой сидели три десятка воров, амгуньские и наши. Я знал, что может возникнуть резня, но другого выхода нет.
Захожу. Посреди комнаты Анциферов.
– Ты ударил вора! – говорят мне.
– Нет, – отвечаю, – я ударил сволочь, которая ни с того ни с сего начала оскорблять людей, которых не знала.
Амгуньским ворам успели рассказать, кто я такой и что со мной нужно вести себя иначе. Теперь необходимо было этот инцидент сгладить. А амгуньцы стоят на своем: все-таки ударили вора. Хотя – какой он вор? Только прибыл с этапа, трюмиловок не проходил, ничего еще не видел.
– Вы чего хотите, парни? – обращаюсь я к амгуньцам. – Чтобы он тоже ударил меня по лицу и мы были бы квиты? Но вот этого не будет.
На следующий день пришел новый этап. В нем оказалось много моих друзей по прежним лагерям, в том числе Мотька – Модест Иванов, с которым мы были в первые колымские годы на Новом, а потом во многих штрафных лагерях. В числе нескольких воров в Западном управлении Мотька прошел весь ад трюмиловок и, несмотря ни на что, остался вором. Он в довольно резкой форме высказал амгуньцам очень многое и вторично ударил того же Анциферова. Инцидент был исчерпан.
И вот на Челбанье, в ответ на мою просьбу играть в карты потише, дать отдохнуть ребятам, снова поднимается один из амгуньцев, теперь уже работающий в комендатуре. У меня, как всегда, на всякий случай (такая была жизнь' – кто первый успеет) в левой руке нож. Хотя злость переполняла меня, убивать его я не хотел, но, предупреждая его удар, слегка ткнул ножом, на самом деле слегка, чтобы дать ему почувствовать холод металла. Держась за рану, он попятился назад:
– Вадим, извини, я столько о тебе хорошего слышал…
– Больше никогда обо мне ничего не слушай, – говорю я. – И веди себя нормально, сука, понял? Теперь, когда увидишь меня, идущего навстречу, говори мне «здравствуй» и улыбайся. Понял?
Когда я успокоился, мне стало стыдно за то, что я наговорил.
Чем строже соблюдали настоящие воры запрет на сотрудничество с властями, тем настойчивее были попытки лагерной администрации расколоть тюремный мир, чтобы сохранять контроль над осужденными.
Апогея эта политика достигла в конце 40-х – начале 50-х, когда по всем крупным лагпунктам страны прокатилась война сук и воров. Среди активных участников тех событий был капитан Иван Арсентьевич Пономарев, начальник лагеря на Челбанье в 50-е годы, а – потом на Случайном. Он демонстративно назначал сук в обслугу зоны, давал им бесконтрольную власть над массой заключенных. Его грубость и жестокость вызывали к нему – общую ненависть, даже его сослуживцев.
Когда я думаю о людях, окружавших меня, почему-то чаще вспоминаются не эти истории, а один эпизод колымской жизни, к которому мы часто возвращаемся в разговорах с женой. Нашему сыну было два года, он заболел, врачи рекомендовали кормить ребенка куриным бульоном. Можно себе представить, какой редкостью тогда была курица. Нам принесли цыпленка. Живого! Но как! его зарезать? Казалось бы, чего проще. Вокруг столько лагерниц ков, на совести многих убийства. А вот отрубить голову цыпленка никто не хотел.
Напоследок еще о капитане Пономареве.
Году в 1977-м мы с Риммой, оказавшись в Москве, отправились поужинать в ресторан «Националь». Мест в ресторане не было. У дверей толпилась очередь. Швейцар в фуражке с золотым околышем грудью защищал вход. В его лице мне показалось что-то знакомое. Это был наш капитан Пономарев! Он тоже разглядел меня, по его лицу пробежало смущение. Он задвигал локтями, расталкивая стоящих впереди: «Пропустите пару! У них заказан столик. Проходите, товарищи!» Я не верил глазам и еще меньше верил, что он обращается к нам. Пропустив нас, Пономарев закрыл дверь и вошел в вестибюль следом за нами. «Здравствуй, Туманов! Я слышал о тебе…». И протянул мне руку. «Здравствуйте, гражданин начальник…». Я машинально ответил на рукопожатие. Но когда о протянул руку Римме, я спохватился, сделал вид, что поправляв рукав ее пальто, и отвел руку жены. Мне страшно неприятно стало при мысли, что эта рука может ее коснуться.
Некоторое время спустя я рассказал об этой встрече Евгению Евтушенко. Он уговорил меня вместе с ним пойти в «Националь» И мы пошли – чего не сделаешь ради русской литературы! Вот какой осталась эта встреча в воображении поэта, когда мы с ним оказались перед ресторанной дверью с бронзовыми ручками. «Наш легальный советский миллионер (это поэт обо мне! – В. Т.) помахал швейцару сквозь стекло двери сиреневой четвертной, и тот среагировал… Когда возникла щель в двери, Туманов незамедлительно сунул в щель четвертную, и она исчезла, как в руке факира. Швейцар был небольшого роста, величавостью слегка похожий на Наполеона, медные пуговицы были начищены до золотого блеска, к нам он не испытывал особого интереса, кроме лакейско-выжидательного – не вложат ли эти господа хорошие еще чего-нибудь в его заросшую шерстью лапищу. Швейцар открыл дверь, пропуская нас, и вдруг с лицом его что-то случилось: оно поползло одновременно в несколько разных сторон от смешанных чувств – страха и радости, хотя радость все-таки побеждала.
– Туманов? Вадим Иванович?
– Капитан Пономарев? Иван Арсентьевич? – пробормотал Туманов, неверяще улыбаясь, как при неожиданной встрече с закадычным другом, который считался безвозвратно потерянным.
Хотя отставной капитан Пономарев и не вернул от радости неожиданной встречи четвертную, бывший тюремщик и бывший арестант почти по-братски обнялись. Классическая история, напоминающая взаимоотношения каторжника Жана Вольжана и полицейского инспектора Жавера из «Отверженных» Виктора Гюго».
Так это увиделось поэту. Его право. Но я хочу защитить капитана Пономарева. Не знаю, взял бы он у меня четвертную или нет, но ни и первый раз, ни во второй мысль сунуть ему чаевые мне даже не пришла в голову. Хотя, наверное, как на психологический эксперимент – тут поэт прав – посмотреть на это было бы интересно.
Помню, на штрафняке Случайном Пономарев, недавно назначенный начальником лагеря, увидев меня, радостно сказал: «Уж отсюда ты, Туманов, не выберешься. Здесь и подохнешь». Вот это было.
На Челбанье в меня влюбилась дочь начальника прииска Митрофана Ивановича Скокова. Это случилось в 1951 году, когда после побега и ограбления кассы я был осужден на 25 лет и в первый раз попал на этот прииск. Розе было девятнадцать лет, она работала н лагерной бухгалтерии, мы изредка виделись в зоне. Не понимаю, почему именно на меня она обратила внимание. За симпатичной девушкой бегали неженатые офицеры и молодые надзиратели. По-моему, неравнодушен был к ней и Петька Дьяков. Во всяком случае, в его лирике тех лет ее имя встречается не раз, да он и не особенно это скрывал.
Роза действительно была красива. Какие-то романтические книжки, прочитанные ею, видимо, сбили ее с толку, и она внушила себе, что должна полюбить уголовника. Она писала мне трогательные письма и записки, передавала через надзирателя Борьку по кличке Корзубый, который выполнял любую ее просьбу. Он был по-своему честный парень, относился ко мне доброжелательно. Когда мы оставались наедине, он с видом заговорщика сообщал о том, как Розу преследует своей любовью начальник режима Толмачев. Борька сам слышал, как однажды в бухгалтерии, когда все разошлись по домам, начальник режима горячо убеждал девушку: «Подумай об отце – что ты с ним делаешь? Узнай кто-нибудь про твое увлечение, он позора не переживет!» Роза что-то лепетала в ответ, а начальник режима не унимался: «Он же преступник, ты знаешь. Он тебя убьет когда-нибудь. А я люблю тебя!» Тогда, говорит Борька, Роза спросила: «Ты меня правда любишь? Очень любишь?» «Очень!»
– воскликнул начальник режима. Роза посмотрела ему в глаза: «Вот так и я люблю Туманова».
Роза была из тех своевольных, непредсказуемых натур, на которых запугивания не действуют. Она, сотрудница лагерной администрации, потеряв голову, приходила в зону на рассвете, дожидалась утреннего развода и стояла в стороне, не сводя глаз с нашей бригады и не обращая внимания на откровенные ухмылки арестантского строя. У Скоковых была еще младшая дочь Тася, и я мог представить, что творится с родителями и какая обстановка у начальника прииска дома.
В то время меня бросали из лагеря в лагерь, и почти всюду я получал письма от Розы. Письма были восторженные, какие девушки пишут в альбомы в полной уверенности, что чувство, которое к ним пришло, бывает только раз в жизни и никому другому, даже самым близким, не понять их переживаний и слез. Теперь, вспоминая то время, я думаю, что грубость жизни, которая окружала Розу, обостряла ее впечатлительность. Как это часто бывает, потребность быть защищенной дерзким и смелым, как ей казалось человеком, она принимала за любовь и отчаянно боролась за нее своими слабыми силами.
Однажды Борька Корзубый конвоировал меня к начальнику прииска. Мы шли молча, я впереди, сомкнув руки за спиной, он на полшага позади.
Он впускает меня в кабинет начальника прииска и остается за дверью. Я стою в нерешительности перед молчащим Скоковым.
– Толмачев доложил мне, что между вами и моей дочерью что-то происходит. Я не в силах ее остановить. И с вами я ничего не могу поделать. Но вы же старше. У вас срок, вы знаете, двадцать пять… Должны понимать свою ответственность.
– Гражданин начальник, я не знаю, что вам говорил Толмачев и как на самом деле ко мне относится Роза. Она просто восторженная девушка, и все у нее пройдет. Я вам обещаю сделать все, что смогу, чтобы это прошло быстрее. Я пропадаю, вы знаете, все время по БУРам и изоляторам, мне ничего другого не светит, и ни о каких переменах в жизни я не думаю. Вам и вашей супруге абсолютно не о чем беспокоиться. Это все глупость, которая пройдет.
Мне казалось, это его успокоило.
Челбанья жила по законам, царившим во всех колымских зонах, ничем не выделяясь ни в жестком распорядке дня, ни в натянутых, как повсюду, отношениях между ворами и суками, ни дерзкими попытками побегов, после которых беглецов волокут обратно в лагерь избитыми до неузнаваемости.
Роза продолжает передавать через Борьку письма и свои фотографии. Я не отвечаю. Мы видимся изредка. Временами мне страшно за нее, и в свои двадцать четыре года я еще не знаю, как выходить из подобной ситуации, никому не причиняя боли.
Находясь на штрафняке Случайном, я попадаю в лагерную больницу. Мне нужно было тормознуться, чтобы избежать отправки на Ленковый, и я закапал в глаза раствор с размельченным химическим карандашом и мелким толченым стеклом. Меня поместили в больницу почти ослепшего. В палате человек двадцать.
Но и туда приносят письма от Розы. Я решаюсь положить этому конец, и как-то сами собой складываются рифмованные строчки, которые записывает под мою диктовку мой приятель Саша Замятин. «Зачем опять вы мне прислали свой портрет? К чему еще стараетесь уверить, что вы страдаете в разлуке долгих лет. Где научились вы так нагло лицемерить?» Не знаю, откуда берутся пошлые слова, которых сроду не было в моем лексиконе, которые были бы дики и нелепы в устах окружающих меня людей, но какая-то непонятная отчаянная сила находит их в глубинах подсознания и выталкивает из хриплого горла. Входя в роль джентльмена, обманутого в лучших чувствах, я пишу, не переставая: «Зачем играть в возвышенность души? Вы так смешны в чужом нарядном платье. Пусть одинок я буду здесь, в глуши, но вы на письма больше слов не тратьте…»
Палата растрогалась, кто-то лезет ко мне с советами, кто-то утешает мое разбитое, как ему кажется, сердце. Как последний подлец, смиряюсь с осенившей кого-то мыслью всей палатой, коллективно, заканчивать начатое письмо. Это было огромное по числу строк трагическое сочинение о любви и измене. Особенно старались Жорка и Сашка Замятин. Я это свое сочинение помню до сих пор. «Я вам не вспомню первого письма, где предлагал расстаться благородней, и жертв от вас не ждал, был убежден весьма, что жить вы будете как легче и удобней. Я слишком утончен, и мне вас просто жаль. Смотритесь в зеркало. Да, я забыл: таким, как вы, не стыдно. Надломленных бровей не уловить печаль, и губ измученных под краскою не видно!»
Концовка должна сразить наповал: «Любительница пошленьких романов, вы для меня уже не та, которую, быть может, и любил Вадим Туманов».
В конверт я вкладываю фотографию Розы и записку: «Я возвращаю Ваш портрет».
Неужели это было со мной?
В 1954 году я снова оказался на Челбанье, но ни Розы, ни начальника прииска Скокова уже не было.
Милая Роза, если ты жива и уже немолодыми глазами читаешь эти строки, нянча своих внуков, а может – дай тебе Бог – и правнуков, прими, если сможешь, эту мою запоздалую исповедь, которой, возможно, нет оправдания, но которую ты поймешь – я хотел бы, чтобы ты поняла, – как тоненький, хрупкий мазок на картине пережитого нами страшного времени.
В ту пору мы уже нарезали бесконечное количество шахт. От нас во многом зависит план Сусуманского управления – самого большого на Колыме.
В бригаде каждый владеет тремя-четырьмя профессиями. Скреперист, бурильщик, рабочий очистного забоя, водитель самосвала – все без затруднений подменяют друг друга. Потому техника работает безостановочно. Наклонный ствол проходим до 15 метров в сутки, нарезку штреков двумя забоями – до 36 метров. Почти всегда нарезаем одновременно две-три шахты. Ни до нас, ни после таких темпов проходки Колыма не знала. Наш коллектив был признан лучшим в горном управлении края. Так было на протяжении почти трех лет.
Недавно во время телефонного разговора Дмитрий Ефимович Устинов, бывший генеральный директор объединения «Северовостокзолото», напомнил, как в 1955 году его вместе с другими инженерами направляли из Ягоднинского района к нам в Сусуман перенимать опыт проходки и нарезки шахт.
Работали, конечно, с некоторыми нарушениями правил техники безопасности.
Вспоминаю, как к нам на шахту приехал начальник прииска им. Фрунзе Илья Давыдович Хирсели. Он сразу же принялся меня ругать за допускаемые нарушения техники безопасности. Я, естественно, оправдывался: «Все это неправда, Илья Давыдович», как вдруг подходим к шахте и видим: человек семь шахтеров – с бурами на плечах, курят, смеются, выезжая из наклонного ствола шахты на скипе. Это одно из грубейших нарушений. «Погорели» с поличным! Все онемели. Хирсели смотрит на меня. Я развожу руками, пробую улыбнуться и объясняю ему, как бы переходя на шутку: «Гражданин начальник, тут одни москвичи и ленинградцы – без трамвая не могут!» Нам повезло: начальник прииска был наделен чувством юмора и рассмеялся вместе со всеми. Мы отделались легким наказанием. Но благоприятный выход из ситуаций такого рода чаще всего случался благодаря не интеллекту колымского руководства, а прочной репутации самой бригады. Ее бросали на прорывы, на обеспечение быстрого обустройства шахты с богатым содержанием золота, нередко именно от нее во многом зависело выполнение плана прииском и всем управлением. С нами приходилось считаться.
Маленькие начальники предпочитают со мной не связываться, даже когда я позволяю себе вещи, для осужденного недопустимые. Однажды я долго провозился в шахте, поднимаюсь на поверхность весь мокрый и грязный. Ко мне цепляется начальник режима: кто разрешил задерживаться? «Я тебя больше не выпущу!» Я достаю пропуск, рву и швыряю ему в лицо. Это ЧП! Меня вызывает Федор Михайлович Боровик: «Ты что, с ума сошел?!»
Полковник Племянников вызывает к себе меня и начальника режима, задержавшего меня. Тот к нему является выпивший. Племянников посадил его на десять суток, но тот и второй раз явился по вызову не вполне трезвый. Его из органов выгнали. И хотя никаких моих заслуг в его снятии нет, случившееся еще больше укрепляет среди младшего и среднего звена начальников репутацию нашей бригады как неприкасаемой.
В ночь под новый, 1956 год Племянников почти приказывает мне быть на новогоднем карнавале в Центральном клубе. Мои товарищи приносят у кого что есть – костюм, белую рубашку, галстук. Попасть осужденному в Центральный клуб – все равно как человеку с улицы оказаться на правительственном приеме в Москве.
Мне в голову не могло прийти, что там я встречу Розу.
Мы пришли на вечер с Петькой Дьяковым, тоже приодетым. У входа оперуполномоченный Мажуна. Он знал, кто мы. У него округлились глаза: «Вы куда?!» «Пошел ты…» – оттолкнул я его. Оперуполномоченный был наслышан о том, как к нашей бригаде относится руководство, и не стал скандалить.
Мы входим в залитый светом зал со сверкающей новогодней елкой. Большинство гостей – офицеры из разных лагерей, районное руководство, много девушек. Голова идет кругом, гремит музыка, все в масках, в серпантине. Танцевать я не могу, когда-то во Владивостоке девчонки учили меня вальсу и танго, но я сомневаюсь, вспомню ли. А тут объявили «дамский вальс» и какая-то маска подплывает ко мне и начинает кружить. «Туманов, вы не узнаете меня?»
Это была Роза Скокова. Оказывается, она вышла замуж за сусуманского судью, у нее двое детей, с чем я ее искренне поздравил. «Мы еще увидимся, Туманов? Мой муж будет рад познакомиться с тобой». – «Конечно, Роза. Никогда я не видел судью, кроме как через решетку и ближе, чем за три метра».
На новогоднем вечере, несмотря на всю его для меня необычность и новизну, я чувствовал себя уверенно, и жалел только о том, что не умею хорошо танцевать. Меня не пугали чуть насмешливые взгляды танцующих молодых офицеров, но я страшно боялся выглядеть смешным в глазах женщин. Этот страх поубавился после вальса с Розой.
Сверкают разноцветные огни, кружатся пары, гремит оркестр, вызывая в памяти бесшабашные вечера в кругу друзей-моряков во владивостокском ресторане «Золотой Рог». Но этот сусуманский, карнавал оказался самым счастливым в моей жизни.
В ту сумасшедшую ночь я встретил Римму – свою будущую жену.
Еще танцуя с Розой, я поглядываю на компанию девушек, которые нарасхват у молоденьких офицеров и у высоких чинов. На вечере много мужчин и в штатском. Судя по всему, командированные; сотрудники МВД из Москвы. Разогревшись от водки, чувствуя себя хозяевами положения, они приглашают танцевать юных сусуманских красавиц.
Мое внимание привлекает девушка, к которой чаще, чем к другим, подходят кавалеры. Она в нарядном платье с атласной отделкой шоколадного цвета и таким же отложным воротничком. Я нахожу место у колонны, неподалеку от стайки девушек, несколько раз порываюсь подойти к понравившейся мне, но меня постоянно опережают, и я не без ревности наблюдаю, как мою избранницу кружат другие. В очередной раз, когда девушку снова уводят у меня из-под носа, я приглашаю одну из ее подруг. Ее зовут Инна. Она разговорчива и догадлива, к концу танца, почти ничего не спрашивая, я уже кое-что знаю. Имя девушки, заинтересовавшей меня, – Римма, приехала на Колыму по распределению, окончила торговый техникум, работает в райцентре товароведом. Вся компания девчонок из торговли, вместе живут в общежитии, недалеко от клуба. «Она у нас серьезная, – предупреждает Инна. – Комсомольский секретарь!»
Я еще не знал, как с ней себя вести, о чем говорить, но, проводив Инну на место и потянув время, пока не зазвучит новый танец, я с первыми аккордами поворачиваюсь к Римме. Девушка улыбается в ответ и идет со мной танцевать.
Гремит музыка, я кружу девушку, стараясь не наступить ей на ноги чужими полуботинками. Римма улыбается так же мило, как она это делала, танцуя с другими.
– Давно здесь? – спрашиваю я.
– Нет, не очень.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































