Текст книги "Невская твердыня"
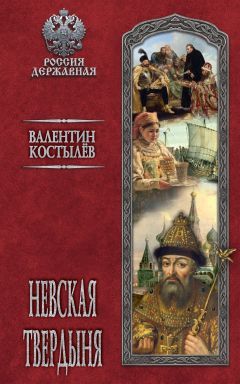
Автор книги: Валентин Костылев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Анну осенили такие же светлые и вместе с тем горячие чувства, как бывало это с ней в часы пламенной, полной самозабвения молитвы во мраке, напоенном священными благовониями и овеянном таинственной тишиной, когда она знала в мироздании только себя и Бога…
Ничего греховного, страшного теперь не было для нее.
Игнатий, разгоряченный, одурманенный очарованием греха, шептал в полузабвении: «Касатка, ангел! Ты – моя!»
Когда Феоктиста Ивановна, испуганная отсутствием дочери, тайком от мужа спешно поднялась в горницу Игнатия, она в ужасе всплеснула руками.
Игнатий и Анна вскочили, бросились к ее ногам, прося у нее прощения.
Феоктиста Ивановна горько заплакала.
– Несчастная!.. Грех-то какой!.. – всхлипнула она.
Успокоившись, она, не глядя на Игнатия, схватила дочь за руку и повела ее вниз.
На другой день Игнатий уже не видел Анны. В доме царила весь день мрачная тишина. Никита Васильевич Годунов уехал с самого утра верхом на лошади.
Игнатий чувствовал себя горьким, одиноким. Ему ясно было, что не придется уж ему, как бывало, видеться с Анной. Открылась тайна, которую с таким трудом и опасениями они прятали от людей. Конец всему!
Игнатию пришло в голову: пойти к Борису Годунову с просьбой отправить его на войну. В Москве много разговоров о новом походе польского короля. Нашлось немало охочих людей идти на помощь псковским сидельцам. Загорелось отвагою сердце русского человека. Потянуло и Хвостова на войну: лучше умереть в бою, нежели сидеть в доме Никиты Годунова со своей тоской.
Так он и сделал. Помолился с великим усердием Богу, оделся в свой лучший кафтан и отправился к Годунову.
Борис Федорович встретил приветливо. Выслушал и сказал:
– Не отдохнул ты, парень, от одного дела, да норовишь уже к другому пристать. Завистлив, однако ж!
Хвостов покраснел, растерялся, не зная, что сказать в ответ. Да вспомнил Анну, вчерашнее происшествие и еще более смутился.
– Да ты словно красная девица… Ну что ж, доброе дело. Нам туда люди нужны. А такой дородный молодец и бывалый, да еще знающий латынский язык, может и толмачом у Шуйского быть. Помолись, да и изготовься в путь-дорогу… Завтра отъезжают во Псков люди. Пошлем с ними и тебя… Не ошибся я, что из тебя выйдет добрый слуга государю. Иди в Разрядный приказ.
Борис облобызал Хвостова и пожелал ему счастливого пути.
От Годунова Игнатий отправился прямо в Архангельский собор. Усердно помолился, праху славных предков русского народа поклонился, попросил у Бога прощения за свои прегрешенья и отправился в Разрядный приказ. Там он поведал о своей беседе с Борисом Федоровичем и получил «опасную грамоту», оружие, панцирь, латы… Выбрал на конюшне приказа коня доброго и поехал обратно к себе домой.
Проезжая по двору усадьбы, жадно устремил глаза на окна терема Анны, но окна были завешаны. Да и на дворе-то никого не было, будто все вымерли, даже на громкий лай сторожевых псов никто не вышел из дома.
«Кончено! Прощай, моя ненаглядная, бедная голубка! Но что с тобой? Не забудешь ли теперь ты меня, разнесчастного?!»
Глухо прозвучали его шаги, когда он поднимался по лестнице.
– Хоть бы скорее настало завтра!
В груди, около сердца, будто какой-то горячий ком. Трудно дышать.
Ночь провел Игнатий без сна. Все думал и думал о случившемся. И то осуждал свой поступок, раскаивался и начинал упрекать сам себя в неразумности, в самовольной дерзости и неблагодарности к приютившим его в своем доме добрым людям, то вдруг вспыхивало в нем страшное отчаяние: ему казалось, что больше он уже никогда не увидит Анны, что он – причина ее безутешного горя и позора. И никак он не мог себе представить, что уедет от нее, и, быть может, навсегда, не простившись. Может ли это быть?
Осторожно, на носках, он пробовал спускаться вниз, прислушиваться. Но в доме было тихо-тихо; все спали. У него вдруг вспыхивало желание спуститься вниз, пойти к Феоктисте Ивановне и попросить у нее прощения, а также дозволения проститься с Анной. Но разве это можно?
Утром он поднялся чуть свет. У раскрытого окна, на ветвях ясеня щебетала стайка самых маленьких птичек – корольков-челоканчиков. Они суетились под листьями, напевая короткие, едва слышные песенки. Серовато-зеленые перышки их, пышно прикрывавшие крохотные тельца, взъерошились при виде человека, а когда Игнатий ближе подошел к окну, стайки птичек с чириканьем полетели в глубину сада. Стало пусто. И эта пустота снова напомнила ему обо всем, что не давало спать ночью.
На глазах Игнатия слезы. Он стал на колени, помолился Богу. Помолившись, тяжело вздохнул и сел за стол, опершись головою на руки.
Вдруг ему послышался за спиною какой-то шорох. Оглянулся.
На пороге Феоктиста Ивановна. В руках у нее чаша с молоком, каравай хлеба.
Он быстро вскочил со скамьи и упал ей в ноги, зарыдав.
Она подняла его.
– Бог простит тебя! – сказала она ласково. – Ты уезжаешь, говорили мне? Бог с тобой! Уезжай!
Она поставила молоко и положила хлеб на стол. После этого крепко обняла его, поцеловала.
– Вот тебе! – вручила она ему нагрудный крестик. – Не поминай нас лихом. Это мое материнское благословение тебе. Дай Бог тебе доброго пути! Об Анне забудь. Не думай о ней. Грешно и нехорошо ей знаться теперь с тобою. Прощай!
Феоктиста Ивановна тихо, на носках, прокралась вниз.
Игнатий долго сидел неподвижно на скамье, подавленный, оглушенный ее ласковыми, но беспощадно жестокими словами.
Очнувшись, он вышел во двор, оседлал своего коня и быстро, не оглядываясь, помчался в Разрядный приказ. Там должны были собраться его товарищи, с которыми ему предстояло ехать в Псков.
У Разрядной избы уже толпились вооруженные люди, весело перекликались между собою, шутили, смеялись. В лучах восхода ярко вспыхивали серебристые латы, шлемы, копья. И непохоже было на то, что эти бородатые воины пойдут через несколько минут на запад, к Пскову, чтобы биться там с лютым врагом насмерть. Глядя на эту оживленную кучку смеющихся бородачей, скорее можно было подумать, что готовятся они к какому-то празднику либо собираются на великокняжескую охоту.
Игнатий соскочил с коня и вошел в Разрядную избу.
V
Солнышко. Жарко. Июль в полном расцвете.
Никита Годунов, после купанья в Москве-реке, медленной походкой возвращался к себе на усадьбу, любуясь сверкающей на солнце рекой, голубым ясным небом и видневшимся вдали, на холме, в зелени рощ, Кремлем.
Порою останавливался, обтирал пот на лбу, идти нелегко – в гору, среди цепких кустарников. Лезли мысли об Игнатии. Почему же он так внезапно ушел на войну?.. У государя он теперь на виду. Сам Борис Федорович не нахвалится им.
Тяжелый вздох вырвался из груди Никиты; вот уж истинно: судьба придет – по рукам свяжет. А дело день ото дня становится все более и более похоже на это. Прямого, ясного, правда, пока ничего нет, а все-таки…
У ворот своего дома он увидел возок Бориса Федоровича.
Что такое? Никита ускорил шаг. И как раз из ворот ему навстречу вышел сам Борис Годунов.
– Добрый день, дядюшка! – весело приветствовал его знатный гость. – Заждался я тебя.
– С добром ли пожаловал, племянничек? – облобызавшись с Борисом, спросил Никита.
– Какое добро может сравняться с государевым вниманием?! – загадочно улыбнулся Борис.
– Подлинно. Нет большего милосердия, как в сердце царском, – ответил Никита, думая, что Борис привез ему от государя какое-нибудь пожалование.
– Так слушай. Едет к нам от папы римского посол, а звать его Антоний Поссевин. Государь ждет его с великою охотою. И никому об этом не велел сказывать. А для охраны пути Антония мне приказано найти самого верного человека, чтоб мог он без особого шума то дело исполнить. Но кого же, кроме тебя, нам послать на охрану папина посла? Только тебе и могу ту охрану доверить. Понял, Никита? Дело важное для всей Руси. Не прилучилось бы в дороге с послом беды?
Низко поклонился Никита Годунов Борису, прослушав со вниманием его речь:
– Воля государева свята.
– Коли так, должен ты собрать детей боярских человек до ста для объезда путей к Смоленску. А в приставах для встречи будет Залешенин Никифорович Волохов с подьячими. Приготовь ему своих стрельцов, что у стремени, для пересылки с дороги вестей государю. Из Смоленска, Дорогобужа и Вязьмы о поезде Антония государю отписывай посылки.
– Чего же, Борис Федорович, мы с тобою тут стоим? Добро пожаловать в палату! Погости у нас, – вдруг засуетился Никита, – часок-другой!..
– Недосуг мне гостить у тебя… Время такое, что и спать некогда. В русский час много воды утекает. Разве ты не знаешь?! – рассмеялся Борис. – Неповоротливы мы. От сего – великий урон. Меня ждут другие люди. Надо им наказ дать. Все надобно вовремя делать, не зевать.
Борис Федорович попрощался с Никитой и снова уехал по пыльной дороге в Кремль.
Никита Годунов кликнул жену. Феоктиста Ивановна тихо вошла в его горницу, смиренно поклонилась.
– Мое сердце чуяло… Коли Борис приехал ко мне, так и знай какое-нибудь государево дело! Замучил меня дорогой племянничек. Вот беспокойный человек! – Никита тяжело вздохнул. – Опять, Максим, котомку готовь! Ей-богу!
– Да что же это такое?! – всплеснула руками Феоктиста.
– Охранять папина посла будем. Головой меня назначили у детей боярских… Помилуй, Господи! От Смоленска и до Москвы… А туда ныне самые разбойники из Литвы проникли. Новая забота!
– Кто он, папин посол?
– Иль забыла?! Помнишь, Игнатий нам сказывал… Человек с ними от римского чудодея ехал, иезуит. Чтоб ему лопнуть! Едет, нечистая сила, к нам! В папину веру обращать…
Никита мрачно усмехнулся.
– Всяких вер проповедники повадились к нам ездить. А этот поп нас с королем Стефаном помирить сулит, – сказывал Игнатий. – Только ты об этом не болтай. Государева тайна! Коли так бы – оно хорошо. Война не радует… Губит нас. Король взять Псков задумал. Сила великая движется. Э-эх, Господи! Да когда же сие кончится?! А свейские полки к Нарве прут. Да и на крымских татар поглядывай.
Феоктиста Ивановна перекрестилась:
– Помоги, Господи, царю-батюшке осилить врагов!
Никита Годунов посмотрел на жену с жалостью:
– Замучил я и тебя, моя голубка! Все в дороге, все в дороге…
– Против воли государевой не пойдешь, Никита Васильевич… Мой покойный батюшка учил меня смирению и терпению… «Смирение поборает гордыню, – говорил он, – аки Давид Голиафа». Мне ли роптать, рабе твоей, Никита Васильевич?!
– Дело молвила, моя голубушка. Покорное слово – Богу угодно. А против государева приказу на Руси никто не пойдет, когда в Бога верует и родную землю любит. Собирай же ты меня с молитвою и добрым словом в путь-дороженьку. А я съезжу на коне в Разрядный приказ поговорить с моими ребятами. Государева воля – Божья воля.
* * *
Приготовлений к встрече посла папы Григория XIII – иезуита Антония Поссевина – было немало. Все приказы были подняты на ноги. Писались грамоты в Смоленск, Вязьму, Дорогобуж… Писались наказы приставам, головам боярских детей, стрелецким начальникам. Приводились в порядок окраины, через которые должен был въехать в Москву посол папы со своими провожатыми. Подбирались наиболее статные, видные молодые люди дворянского звания, чтобы участвовать в церемонии встречи посла у Смоленской заставы в Москве. Приводились в порядок дома для посла и его людей.
Приставу Залешенину было приказано царем брать людей с собой, «которые добры и верны, и платье у кого было бы чисто, и которые бы у литовских послов бывали и в посланниках».
Царь Иван сделал внушение Залешенину, как отвечать на вопросы иезуита.
«Если спросит папин посол: “Где ныне государь?”, отвечать: “Меня государь отпустил с дороги из Москвы в Старицу!”»
«Если спросит он о каких-либо важных делах, отвечать: “Яз – человек служилый, а не приближенный к государю человек, и не мне говорить о тех великих делах”».
«Если учнет задирать о вере: о греческой или римской, отвечать: “Грамоте я не учился и про веру говорить мне нечего”».
«А нечто спросит папин посол: “Как ныне государь ваш, царь и великий князь с литовским королем Стефаном?”, отвечать: “Король Стефан ныне не хочет добра и прибытка в христианстве, только бы видеть ему разлитие крови христианской. И оттого он, король Стефан, не хочет жить в мире с христианами, что сам он – ставленник турецкого султана”».
«А нечто спросит про нынешнюю войну, отвечать: “Наш государь, царь и великий князь, как есть государь христианский, на своей правде стоял крепко три года”».
«А если посол папы спросит о Лифляндской земле, отвечать: “Государь Лифляндскую землю воюет потому, что эта земля – извечная вотчина государей русских. Немцы не стали нам дани платить, хотели отложиться от Руси, стали насилие чинить русским людям. Государь много раз требовал от них признать свои вины и исправиться. Но они ни в чем не исправились. Вот почему государь наш рать на них свою послал. Да и повтори не однажды, что Лифляндская земля – извечная вотчина наша, как то показывают многие прародительские грамоты к немцам и немцев к нам. Если государь наш уступит всю Ливонию и не будет у него пристаней морских, то ему нельзя будет ссылаться с папою, цесарем и другими государями”».
– Государю твоему расстаться с мыслью о море том тяжеле, нежели уступить Смоленск, Великие Луки и прочее, – сказал тихо, в задумчивости Иван Васильевич. – Помни это постоянно.
Обо многом другом, предвидя вопросы Поссевина, говорил государь Залешенину, указывая, как ему отвечать на них.
Низкого роста, крепко сложенный, коренастый, острый умом, дьяк Залешенин Никифорович Волохов был выбран самим царем для встречи иезуита Поссевина. Кроме того, Волохов был много раз в Польше и кое-что знал о сущности католической веры. Борис Федорович тоже не раз хвалил Залешенина государю, а в последнее время в Посольском приказе Залешенин вел переписку с польско-литовскими властями, хорошо зная польский язык. О «неграмотности» ему государь приказал говорить, чтобы он «больше слушал, чем говорил».
Царь Иван напомнил Залешенину, что в разговорах с иностранными послами есть «речи тайные и речи явные».
– Мне хорошо ведомо, что думает папа о нас. Вот эта бумага писана в Риме кардиналом Комо… Отправил тот Комо бумагу к своему попу в Польше Андрюхе Калигару. Читай! – Царь отдал грамоту находившемуся тут же царевичу Ивану Ивановичу.
Залешенин слушал с большим вниманием то, что читал вслух царевич.
В письме кардинала Комо нунцию Калигари было сказано о посольстве Шевригина в Рим: «…Вероятно, в Польше уже есть слухи о прибытии сюда московского посла. Он – не важная персона, а только камергер князя».
Далее говорилось: «Из привезенного русским послом письма и из слов самого его видно, что великий князь желает союза со Святым престолом и другими христианскими князьями и намерен открыть торговые сношения с нашими народами. Жалуется он на войну, которую ведет с ним польский король; просит посредничества папы в заключении мира. Царь стремится к соединению своих войск с христианскими против турок. Дело очень важное, но все понимают, что посольство вызвано не добрыми намерениями царя, но добрыми ударами короля в последние два года. Мало надежды, что из этого выйдет что-нибудь путное, т е м б о л е е ч т о о в е р е х о т ь б ы е д и н о е с л о в о! Это очень удивило его святейшество, который надеялся, что царь если и неискренно, то, по крайней мере, для виду окажет некоторое расположение к Святому престолу, чтобы побудить его согласиться на свои желания. Тем не менее, обсудив дело и выслушав мнение опытнейших и благочестивейших людей, папа решился не пренебрегать и этим случаем, чтобы поискать заблудшую овцу…»
Иван Васильевич громко расхохотался, слушая это письмо кардинала Комо. Его хохот был не веселый. Вдруг он вскочил с кресла и, дико расширив глаза, воскликнул:
– Я – заблудшая овца! Зрите меня, окаянного!.. О, как провинился я перед Римскою церковью! Несчастный я! Еретик!
Царевич прервал чтение, почтительно склонив голову.
– Чего ж ты?! – строго крикнул на него царь. – Читай дальше! Славную писульку прислали наши друзья мне из Литвы! Читай!
– «Его святейшество, – говорилось дальше, – решил отправить к царю достойного человека, вероятно иезуита, патера Антонио Поссевино».
– Слыхал?! – указывая Залешенину на бумагу, крикнул царь. – Читай!
– «Поссевино должен трактовать о вере и попытаться обратить в католичество князя и его народ».
– Вот-вот… чего они от нас хотят… Понял?! Ты?! – прошипел царь, изогнувшись на месте. Лицо его перекосилось от негодования.
Царевич Иван читал: «…все это надо делать под прикрытием посредничества в перемирии, о котором просит царь. Послу Антонио его святейшество поручил оказать содействие к примирению Москвы с Польшей, если царь оставит свои схизматические заблуждения…»
С трудом переводя дыхание от волнения, Иван Васильевич сделал жест рукой, чтобы царевич остановился.
– Змий лукавый – папа Гришка! Душегуб! – прошептал царь. – Учинил смуту у франков… крови озера пролил в Париже… Того же хочет и у нас! Не быть по-его! Он хитер – мы хитрее.
Тяжело вздохнув, как бы отгоняя от себя какие-то навязчивые мысли, царь Иван вытянул вперед голову и погрозился на Залешенина.
– Смотри! Что слышал здесь – держи при себе. Отныне знай, что папа хлопочет не о нас, а о себе и о своем богомольце – короле Стефане… Ну-ка, царевич, читай!
Иван Иванович медленно, с ударениями на отдельных словах, прочитал:
«Мир с Москвой сулит выгоды королю, удовлетворит его и даст ему возможность распространить свои владения. Просите Его Величество дать пропуск послам, чтобы ускорить это дело. Если Бог поможет благополучно устроить это дело, оно обратится к расширению пределов Польши и к вечной славе короля. Можно ли сомневаться, что, когда дойдет до заключения мира, его святейшество охотнее будет держать сторону католического короля и ревностного защитника веры, чем поддерживать интересы московского князя?»
– Слушай и понимай! Дьяк ты у нас смышленый. Вера им служит к расширению королевств. А посему знай, что везешь ты к нам хитрого, лукавого змееныша, папина иезуита; а работает он на папу и на короля Степку, но не на московского государя. Однако виду не кажи; будь ласков с римским гостем, пускай думает, будто мы ничего не знаем, не понимаем, а папу величай «святым отцом». Потом исповедуешься в грехе своем. Покаешься у митрополита.
Повернувшись к царевичу, царь кивнул ему головой:
– Наблюдай, чтобы нашему делу порухи не было. Пускай Борис и Бельский берегут посла, как бы меня самого. Да и довольствием и вином пускай не обижают ни посла, не людей пословых. А мы – ничего не знаем, мы – русские простаки! Так и Никите и всем другим внуши. Иди в приказ, Никифорович!
Дьяк Залешенин поклонился сначала царю, потом царевичу и вышел из царских покоев.
* * *
В доме Бориса Годунова собрались его дяди Никита и Степан Васильевичи. И тот и другой по приказу царя должны были принять участие в церемонии встречи Антония Поссевина.
Жена Бориса, Мария Григорьевна, со своими сенными девушками приготовила богатое угощенье гостям. На столе появились меды и вина разные, печенья, соленья, варенья, студни и прочее.
Беседа шла о толмаче Франческо Паллавичино.
Шевригин рассказал царю о верной службе Паллавичино, но государь не велел его допускать к посольским людям, едущим от папы.
Оказывается, государю стало известно, что Франческо в Тирольской земле, в «городе Филог», вместе с Шевригиным остановился у одного извозчика, на подводах которого везли скарб посла. Здесь же они встретили красивую девку – камеристку князя Эрнста, брата германского императора-цесаря. Она ехала к князю Эрнсту в Вену. Вечером, перед ночлегом, Франческо Паллавичино напился, а ночью пытался «над тою девкою насильство учинить». На уговоры Шевригина не сдавался, стал буйствовать, выхватил шпагу.
Царь, узнав об этом стороною, от другого толмача, сказал, что этому Франческе надобно было бы голову срубить, чтоб не позорил государево посольство, а ныне, так как в Москву едет тоже итальянец, посол папы, царь скрепя сердце решил оставить голову Франчески у него на плечах. Обидно это было царю, но что делать?!
– И слава Богу! – произнес Борис Федорович с улыбкою. – Девка та девкою и осталась, а толмач-то Франческо хоть куда, не чета Федьке Филиппову, с которым у них постоянный спор. Голову срубить – невелика трудность, да только такую голову лучше оставить. Пригодится.
– Слыхал я, – сказал Степан Годунов, работавший в Посольском приказе, – появился в Москве некий человек, а звать его… не помню как… Бежал-де он из Италии. На галерах он там работал и языку их зело приучился. Умеет читать и писать. Не худо бы и его приблизить к нам, толмачом.
Борис Федорович приступил к трапезе, налил всем по чарке вина.
В это время к дому прискакало несколько всадников.
Выйдя на крыльцо, Годунов увидел царевича Ивана Ивановича.
– Добро пожаловать! – весело крикнул Борис.
Среди провожатых царевича оказались молодые Шереметевы и личный дьяк царевича Спиридон.
Когда царевич вошел в дом, Годуновы быстро вскочили со своих мест и низко поклонились ему.
Быстрым, внимательным взглядом Иван Иванович окинул Степана и Никиту Годуновых и, указав с улыбкой на стол, насмешливо сказал:
– Так поднимем, что ли, чарки за здоровье его святейшества римского папы?!
– Бог с ним! – с усмешкой махнул рукой Борис Годунов.
– Как так?! – возразил царевич. – Стало быть, ты царя не поддерживаешь?
– Полно шутить! – улыбнулся Годунов, указав на место под образами, и попросил царевича не погнушаться его убогим угощением, разделить трапезу вечернюю среди его сородичей. Годунов обратился с тем же и к провожатым царевича Ивана.
Царевич поблагодарил Годунова и быстро уселся за стол.
Он был высок ростом, строен, красив, но в глазах его навсегда застыла какая-то усмешливость, которую люди нередко принимали за насмешку и втайне обижались на царевича.
Степан Годунов провозгласил «чашу государеву»:
А кто про государево здравие
Чашу изопьет, тот бы здрав был
И спасен, а у кого в дому —
И дом его исполнился всякой благодати…
Дослушав до конца здравицу государю, все дружно осушили свои чарки.
Вторая чарка была торжественно, с провозглашением здравицы царевичу Ивану, выпита тоже стоя.
Затем были выпиты чарки вина за царевича Федора, за царицу Марию и за всех родичей государя.
Охмелевший Иван Иванович при подобострастном молчании Годуновых заговорил, барабаня пальцами по столу, как и отец:
– Государь ожидает посла папы. Мне приказ дан, чтобы я к тому делу касательство имел, но не лежит у меня душа ухаживать за проклятым иезуитом. Не он ли, не папа ли два года назад прислал Степке Баторию меч, чтобы Степка боролся им с «врагами христианства»? Нас, русских, папа величал врагами христианства!.. А ныне мы будем челом бить ему, как примирителю… Срам!
Все трое Годуновых переглядывались с недоумением и страхом.
– Ах, Иван Иванович, батюшка ты наш душевный! – взяв царевича за руку и поцеловав ее, сказал Борис Федорович. – Нам ли судить дела государевы?! Как батюшка великий государь скажет, так тому и быть должно. Коли я был бы царем – строго требовал бы и я повиновения себе. А всех, кто мешал бы мне, я либо истреблял, либо отсылал в холодные пустыни.
Царевич хмельными усмешливыми глазами осмотрел всех:
– Ну а коли я, будучи государем, тебе велел бы папе туфли целовать, как то делал Шевригин в Риме, ты послушался бы меня?
– Да. Послушался бы. Головой в прорубь приказал бы броситься – и тогда бы послушал… Оным послушанием крепка наша держава. Разномыслие и непослушание губят царства.
– Ну, тогда не к лицу мне говорить с тобой! Холоп ты убогий… Холоп! – сердито топнув ногой, сказал царевич и поднялся со скамьи.
– Да. Я – холоп. Государев и твой холоп. Но не убогий, а гордый и сильный тем, что ваш холоп! – тоже встав со скамьи, горячо произнес Борис Годунов, раскрасневшись. – Не раз ты, государь, обижал меня, не раз гневался на всех Годуновых, но мы были и будем верными слугами престола.
Иван Иванович снова сел за стол, в раздумье опустил голову на руки, тяжело вздохнув.
– Да, Борис… я знаю тебя… Умен ты. И хитер. А польского короля смирить надлежало бы не иезуиту и не папе, а мечу московского государя, – сказал он тихо, медленно, как бы про себя. – Коли сам за себя не постоишь, кто же станет тебя выручать?!
– Меч наш не заржавел, батюшка Иван Иванович, и пушечки наши не заснули крепким сном. Они отдыхают, а придет время – знатно по головке погладят польских панов. Свое слово молвят во благовремении. Русь на твердой земле стоит.
Борис Годунов налил еще всем по чарке.
– Батюшка-государь Иван Васильевич не таков, чтобы отступать от задуманного дела. Это свидетельствует, дорогой наш государь Иван Иванович, о великой силе Москвы. Поднимем же и осушим наши чарки за святую матушку-Русь!
Царевич с жаром схватил свою чарку, выпил ее, обнял, облобызал Бориса Годунова и быстро вышел из дома. За ним поспешно последовали и его провожатые.
Годуновы стали на крыльце, склонив головы.
Царевич вскочил на коня и, не оглядываясь, помчался по дороге, провожаемый своими всадниками.
Борис Федорович вошел в дом и, помолившись на икону, грустно покачал головою:
– Неладное творится с нашим царевичем… Неровен стал, нравом переменчив, и кажет несогласие с отцом даже при людях. Строптив и неуступчив.
– Плохо так-то… – покачал головою Степан Годунов.
– Распря нередка между государями и наследниками престола, – сказал Борис. – Но батюшка-государь души в своем царевиче не чает. Подарками его засыпает… У царевича нрав упрямый и самолюбивый… Избалован с малых лет.
– Похож он на самого батюшку-государя, – робко произнес Никита.
– Похож, – подтвердил, нахмурившись, Борис, – это и худо. Он неуступчив, а государь – и того более. Сердце мое болит, когда я вижу неустройство то в царевой семье. Горе всем от того!
Разговор уже не вязался, и в скором времени Степан и Никита Годуновы разъехались по своим домам.
VI
Посла папы Григория Тринадцатого – Антония Поссевина царь Иван принял в Столовой Большой избе.
И он, и сидевший с ним рядом царевич Иван облечены были в лучшие царские одежды. Бояре и дворяне заполняли избу, сени и крыльцо. Они также обрядились в золотное платье, которое одевалось в самые торжественные дни. Государь приказал, чтобы во время приема папский посол был ослеплен богатством и роскошью московского двора.
В этот день посольские дьяки записали:
«И папский посол Онтоней Поссевинус правил государю и великому князю и сыну его царевичу князю Ивану Ивановичу от Григория папы поздравление, а молвил: святейший папа Григорий Третейнадесять, пастырь и учитель Римской церкви, тебе, великому государю, Божией милостью царю и великому князю Ивану Васильевичу, всея Руси, велел поздравление сказати. А царевичу, князю Ивану Ивановичу, посол правил поздравление по тому же. А царевича, князя Федора Ивановича, в ту пору с государем не было».
«И государь, царь и великий князь и сын его царевич, князь Иван Иванович, встав, молвили: “Григорий папа здоров ли?” И папин посол молвил: как он поехал от папы, а Григорий папа был в добром здоровьи. Да подал государю от папы и от цесаря грамоты».
Поссевин поднес царю и царевичу дары, присланные с ним папою римским: крест с изображением страстей Господних, четки с алмазами и книгу в богатом переплете о Флорентийском соборе.
(Папа прислал было царю еще икону Богоматери и Младенца Иисуса, изображенного нагим; Антоний ее утаил, сведав, что царь не любит наготы в священной живописи.)
После царского приема Антоний Поссевин был приглашен к государеву столу. За ним старательно ухаживали, по приказу царя, боярские дети Василий Зузин, Роман Пивов и дьяк Андрей Шерефетдинов, которые приставлены были к послу на все время его пребывания в Москве.
Поссевин был кроток и приветлив со всеми; на каждом слове восхвалял мудрость и добродетели царя Ивана Васильевича, называя его «наияснейшим владыкою». Высказывал восхищение великолепием и роскошью, которыми окружен был прием его царем.
Государь смотрел на него тоже с приветливой улыбкой, как будто ему было неведомо, что в стане Батория перед поездкой в Москву тот же Антоний Поссевин сказал: «Хлыст польского короля, может быть, является наилучшим средством для введения католицизма в Московии»; известно было и то, что главный воевода короля Стефана – Ян Замойский сказал про Поссевина, что он «никогда не встречал человека более отвратительного, чем этот иезуит!».
Царь многое знал о повадках папских слуг, знал о них еще по ранее бывшим на Руси сношениям с Ватиканом, а потому и смотрел на все уловки иезуита как на игру, в которой с выигрышем должен остаться все же он, московский царь!
На другой же день бояре начали деловые переговоры с римским послом.
Царь возложил ведение эти переговоров на Василия Зузина, на Романа Пивова и на дьяков Андрея Щелкалова, Афанасия Демьянова и Ивана Стрешнева.
Поссевин сказал, что у него к царю четыре дела.
Первое – чтобы московский государь с римским папою был, как и прежние государи, «в любви и соединении на много лет».
Второе – чтобы «все христианские государи были в любви и соединении».
Третье – «чтобы всем государям христианским стоять заодно против неверных, Христовых врагов, – на турецкого и всех басурманских государей».
Четвертое – папа хочет положить конец пролитию крови между русскими людьми и поляками, «чтобы кровь христианская литися унялась», но чтобы общие силы направить против басурман.
Далее Антоний Поссевин говорил о том, что он приложил по указанию папы большие усилия, дабы склонить на сторону Москвы Венецианское государство.
– Венецианский князь, – сказал Поссевин, – наказал со мною государю вашему, что он с государем вашим хочет любви и соединения против турецкого султана.
Щелкалов спросил Поссевина: о чем же речь шла у него со Стефаном Баторием, в лагере которого он побывал проездом из Рима в Москву?
Поссевин не торопился дать ответ на этот вопрос Щелкалова. Потом все же вынужден был подробно изложить свою беседу с королем.
– Король Стефан меня долго держал наедине с собой. Он говорил, что хочет с государем вашим жить в вечном мире. Однако государь ваш не соглашается на его условия перемирия. Король Стефан требует, чтобы государь уступил ему всю Ливонию, а ваш государь настаивает, чтобы ему в Ливонии оставили тридцать пять городов. Король велел передать царю, что он уже не требует денег за убытки от войны.
Щелкалов перебил Поссевина:
– Что требует наш батюшка-государь Иван Васильевич, мы знаем. Как ты, посол папы, мыслишь: может ли наш государь уступить королю всю извечную вотчину нашу? Справедливо ли это? По-христиански ли?
Поссевин ответил, лукаво улыбнувшись:
– Его святейшество хочет прекращения пролития христианской крови. Он хочет мира. Для того послан и я. Пускай каждый владеет тем, что имеет. Так думает святой отец церкви.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































