Текст книги "Невская твердыня"
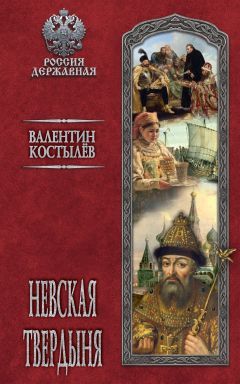
Автор книги: Валентин Костылев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
– Добро, Борис Федорович, понял я. Но когда же, в кое время, из Москвы-то ехать нам?
– Через семь дней готово будет все, и вы тронетесь с государевой грамотой в путь… Ну что ж ты опустил глаза, ровно девица красная? Что скажешь ты мне?
Зарумянившееся, смущенное лицо молчаливого Игнатия рассмешило Годунова.
– Да ты и впрямь не девица ли? Чего же ты молчишь?
– Батюшке-государю сие угодно! Что могу сказать я?!
– Хочешь ли сам-то побывать в чужой земле?
– Кабы недельки две обождать? – робко произнес Игнатий.
Годунов удивленно вскинул бровями.
– Чего ждать? Зачем?
Игнатий замялся, щеки его зарделись румянцем сильнее прежнего.
– Никиту бы Васильевича хотелось мне повидать… Скоро, бишь, он прибудет домой… Стрельцы пришли тут из Ярославля…
Борис Федорович, слегка усмехнувшись, спросил:
– А зачем тебе понадобилось видеть Никиту Васильевича?
Игнатий, совершенно растерявшись, сказал:
– Так… хотелось бы повидаться… Привык я к нему.
– Вот приедешь из Рима и повидаешься, а мы тут Богу помолимся, благодарственный молебен отслужим Никите-мученику за то, что он сберег жизнь моему дядюшке… Государь наказал Шевригину через семь дней выезжать с товарищами. Так и будет. Государево слово нерушимо.
– Слушаю, батюшка Борис Федорович…
Низко поклонился Годунову Игнатий.
«Ах, Анна! Если бы ты знала, как тяжело сейчас расставаться с Москвой!»
Борис Годунов достал из шкафа маленький образок и благословил им в дорогу Игнатия.
– Будь достойным слугой государя в чужих краях, – сказал он. – Истома тебя научит, как чин блюсти за рубежом, что говорить там… Истома бывалый человек. Ну, с Богом!
IX
В одной из царских палат сошлась пестрая толпа простых, плохо одетых людей разных возрастов и состояния. Их привел сюда с собою Борис Годунов.
Здесь находился и Андрей Чохов, и богатый новгородский колокольник и пушечных дел мастер, почтенный человек преклонного возраста Иван Афанасьев, прославивший себя знаменитым колоколом «Медведь», перевезенным по приказу царя из Новгорода в Москву, и зажиточный московский «художник» пушечного литья Богдан, и Семен Дубинин – московский же прославленный пушкарь, и Нестор Иванов – хитроумный псковский мастер на все руки. Его литья славился колокол «Татарин», висевший на колокольне Вознесенского монастыря в Кремле. Было здесь много мастеров литейного дела и ковачей железных орудий, собранных из Замосковья.
В ожидании выхода царя Борис Федорович расставил всех так, чтобы каждый из них был на виду у государя.
– А станет спрашивать вас батюшка-государь Иван Васильевич, отвечайте с глубоким поясным поклоном без замешательства, но толково и не путано, дабы не затруднять его премудрую светлость излишним допросом, – поучал Годунов собравшихся.
Пушечного и колокольного дела мастера с прокопченными лицами, с почерневшими от огня и металла руками, одетые в поношенные кафтаны и грубую обувь, робко сутулясь, становились на указанные Годуновым места и в страхе замирали на них.
Андрей Чохов, которому уже много раз приходилось бывать во дворце на приеме у царя, держался ровно, спокойно, посматривая искоса на приезжих пушкарей. Особенно смешными показались ему своею угловатостью и нерасторопностью некоторые приезжие замосковские ковачи.
Встретил он тут и устюженских рудоискателей, с которыми свел дружбу во время наездов в Устюжну Железнопольскую. Они привезли с собой в подарок царю тридцать выкованных в Устюжне пушек. Грубая выделка их не понравилась Андрею, и он не скрыл этого от своих устюженских друзей. Те смиренно выслушали слова Чохова, с улыбками смущения переглянулись и, как бы оправдываясь, сказали: мы-де копачи, рудоискатели, и к тому художеству, что видим в Москве, не навыкли. Меди у нас нет, и литье нам не под силу.
– Видит Бог, – с тяжелым вздохом шепнул один из них на ухо Чохову, – ковали мы те пушки с великим усердием, а ныне, как осмотрели московский наряд, страх взял нас – как бы не прогневать своим подарком батюшку-государя Ивана Васильевича, согрешили мы: имя царское на тех пушках чеканили без его дозволения.
Андрей успокоил их, сказав, что государь примет их дар приветливо. Не такое теперь время, чтобы не радоваться новым пушкам. Со всех сторон жмут Русь враги, и какие ни будь пушки, все одно, они способны к убоистой пальбе по врагу. А это и есть главное в нынешние времена. Вон рассказывают: псковские сидельцы смолу готовят, бревна, кирпичи, чтобы сбрасывать на толпы воинов Стефанова королевского войска, коли оно подойдет к стенам Пскова. Будь у них эти тридцать устюженских пушек – и веселее бы стало в те поры воевать псковичам, и смолу и бревна, пожалуй, не понадобилось бы готовить.
После этих слов Андрея совсем приободрились устюженцы.
Но вот Борис Федорович, оставив с пушкарями двух дьяков с подьячими, удалился на царскую половину дворца. Все застыли в напряженном ожидании. Старший дьяк Михайла Вавилов, грузный, степенный человек средних лет, одетый в нарядный кафтан, сверкая перстнями, поднял руку вверх, взмахнул ею и громко сказал:
– На колени! Государь жалует!
С глухим шумом, засуетившись в страхе от этого выкрика, опустилась на колени толпа пушкарей.
В необычайной тишине они ждали, обратившись лицом к дверям во внутренние покои дворца. Слышны были отдаленные благовесты в тишине и хриплые покрикивания царевых конюхов на лошадей под окнами во дворе.
Наконец двери медленно отворились. В палату вошли двое рынд, за ними несколько одетых в боевые кольчуги воевод, затем толпа бояр и, наконец, Борис Годунов. Когда все вошедшие стали полукругом позади царского трона, в дверях показался царь.
Он ступал медленно, но размашисто, с громким стуком передвигая посох. В дверях остановился, стал хмуро, пристально вглядываться в стоявшую перед ним на коленях толпу простолюдинов. Сам – высокий, слегка сутулый, сухой, с желтым морщинистым лицом. Большой, крючковатый, заостренный нос и жесткая молчаливость его стиснутых губ вместе со всей мрачной осанкой фигуры привели в сильный испуг впервые видевших его, прибывших из отдаленных уездов пушкарей. Тут им вспомнилось и все то жуткое, что рассказывали там, в глуши, о грозном царе.
Едва дыша от страха, оцепенелые, неподвижные, они опустили глаза, не выдержав проницательного, испытующего царева взгляда.
Бояре и воеводы, ожидавшие царя у трона, тоже застыли, неподвижно ожидая восхождения царя на трон.
Но вот он вдруг быстро повернулся в направлении к трону и крупным шагом, твердо ступая, поднялся по ступеням на трон.
По знаку, данному Борисом Годуновым, дьяк Вавилов прокричал имена и звания находившихся в палате мастеров пушечного и колокольного дела, а также откуда прибыл тот или иной мастер.
Выслушав, царь опустился в кресло.
Борис Годунов, находившийся у подножия трона, сказал пушкарям, чтобы они поднялись, а когда они встали, обратился к ним со следующей речью:
– Православные люди, верные чада царства Русского! Государь ваш, батюшка Иван Васильевич, зело отечески заботясь о рабах своих и о земле нашей, милостиво собрал вас тут, в чертогах царских, чтобы сказать вам: зарубежные вороги вконец преградили дорогу иноземным мастерам в наше царство. Ныне его царская милость надежду возлагает на вас, коим также ведомо художество литейного и иных дел мастерства.
Ответом на речь Годунова было продолжительное молчание. Никто не решался говорить.
– Ну, что же вы молчите? – зарумянившись от волненья, недовольно поморщился Годунов.
Царь нетерпеливо заерзал в кресле, окидывая внимательным взглядом пушкарей.
Вперед выступил молодой, хорошо известный царю мастер Семен Дубинин – его литья пушки когда-то громили шведов под Ревелем. Маленького роста, курносый, обросший курчавыми волосами, он говорил быстро, слегка картавя:
– Видел я пушки веницейского мастера Павла Дебосис да немчина Якова, худо сделаны, и других видел немало в Ливонии. Незавидно. Да и воеводы наши знают, сколь удобны и легки наши пушки и убоисты. Одно бы, прошу прощенья у государя и у бояр, одно бы…
Дубинин запнулся.
Царь Иван в нетерпении топнул ногой.
Годунов озабоченно кивнул Дубинину: «Ну!»
– Одно бы теперь надобно нам… Колокольных мастеров у нас избыток… Доброй руды утекает на колокола великое множество, да и мастера дюже хитроумные на колокольном деле сидят, а нам в такое время пушек бы поболе. Как вот тут? Прошу прощенья за свое слово, я бы хотел…
Не успел он досказать своих слов, как вперед бурею выскочил широкий, с большим красным бородатым лицом, псковский колокольных дел мастер Тимофей Оскарев. Слегка охрипшим голосом, размахивая рукой, он выкрикнул:
– Не слушай его, батюшка-государь, – еретик он, супостат! Колокола – божье дело! Пушки – земное! Колокола в беде спасают, сзывают христиан к Лобному месту, колокола в Божий храм на молитву зовут, колокола твое царское имя славят…
Царь поднялся с трона, стукнул посохом об пол и гневно крикнул:
– Уймись, неразумный! Дед наш, блаженной памяти великий князь Иван Васильевич, и родитель наш, светлой памяти Василий Иванович, в ратной нужде не раз переливали колокола на пушки… Коли у нас не будет огневой силы отстоять святую церковь, к чему нам и колокола? Покудова в силе войско государево, до той поры крепка и Божья церковь… Острый меч и огонь – защита веры Христовой… Колоколами ворогов не побьешь. Что станет делать воевода Шуйский во Пскове, коли у него будут одни колокола? Пушка прогонит прочь от крепости врагов своим огнем, а не соборные колокола. Не только земное дело пушки, а вельми божье! Архангел Михаил, именуемый в писаниях архистратигом, не красы ради держит меч в руке… Он – архистратиг, небесный воевода, его меч – орудие непобедимое… Оно спасает веру. Твоя укоризна, бедняк, диаволу и прелукавым гонителям на радость… Отрекись, несчастный, от сего заблуждения!
С грохотом упал на колени грузный колокольный мастер Тимофей Оскарев.
– Отрекаюсь!.. Помилуй, великий государь! Не ведаю, что говорю… бью челом, прости меня, убогого!
Иван Васильевич снова сел в кресло и, обведя строгим взглядом всех присутствующих, кивнул головой дьяку Вавилову.
– Царь всея Руси Иван Васильевич велел спросить вас, добрые люди, – воскликнул Вавилов, – хватит ли у вас сил и смекалки обойтись без помощи иноземных пушечного дела мастеров, чтобы дать его государеву величеству многое множество убоистых орудий огневого боя? Задуман государем большой поход, а куда, то узнаете после. Нужны для сего дела не токмо полевые, но и крепкие, могутные, сидячие пушки крепостного боя. Что скажете, добрые молодцы, на то государево слово к вам?
Несколько голосов сразу крикнуло: «Што нам заморские?! Сами мы положим все силы, чтоб то дело вершить своими руками!..»
– Сами! Сами! – понеслось из толпы разгоряченных словами Вавилова мастеров пушечного и колокольного дела.
– Не надо нам чужеземцев!.. Чужим добром не скопишь дом! – громко проговорил Андрей Чохов.
Царь пристально посмотрел в его сторону и, увидев лицо его, раскрасневшееся, вытянутое над головами других, велел Годунову подозвать его к трону.
– Старый ты пушкарь… – сказал тихо, слегка наклонив голову к Андрею, царь Иван. – И послужил исправно воеводам нашим, и за то не раз ты был обласкан нами. Ныне вновь послужи… Боярин Годунов укажет тебе, на какое дело послан будешь. Иди!
Чохов поклонился царю и стал на свое место, взволнованный, обрадованный вниманием государя. Другие пушкари и колокольные мастера косились на него с завистью.
Вновь высунулся вперед Тимофей Оскарев и, упав на колени, выкрикнул:
– Батюшка-государь! Прости! Хочу я быть пушечного дела мастером… Пошли меня на Пушечный двор!
– И меня! И меня! И меня! – раздались громкие выкрики в толпе колокольных мастеров.
Борис Годунов замахал на них обеими руками.
Дьяк Вавилов зашикал, сверкая своими крупными белками, даже зубы оскалил.
Шум прекратился.
Царь с улыбкой шепнул Годунову:
– Кто ж теперь нам колокола лить будет?
– Остались, государь, серебряных дел мастер Иван Оспуговенский и другие. Их немало. Я созвал и их, – позволь, батюшка Иван Васильевич, привести их.
Годунов послал дьяка Обухова, худого, гибкого молодого человека с иконописным безбородым лицом, за «художниками» серебряного дела. Тот вскоре вернулся, ведя за собой толпу нарядно одетых мастеров.
Вот Остафьев Третьяк. Ему за искусную отделку икон золотом и серебром недавно дано государево жалованье: сукно в два рубля, тафта бургская в два рубля с гривною.
А вот рослый детина с громадными усищами и чубом на голове – Некрас Михайлов. Своими громадными руками он выткал жемчугом и драгоценными каменьями немало царских одежд и церковных парчовых тканей. Он же знаменит деланием драгоценной посуды для царева стола.
За ним следовал сутулый, с опущенной трясущейся головой толстяк Исидор Никитин. Он прославил свое имя искусной отделкой раки святому Сергию Радонежскому. Ему дано жалованье государево – сукно в два рубля.
Тут же, в толпе вошедших, находились два новгородских «художника», знаменитые серебряных дел мастера – братья Петровы, Артемий и Иродион. Оба не имели соперников в искусном тиснении серебряных и золотых окладов на образа. В 1556 году они были вызваны в Москву из Новгорода самим царем Иваном Васильевичем. Вот уже двадцать пять лет пользуются добрым расположением царя. Оба имеют подарки от самой покойной царицы Анастасии Романовны, для которой сделали ларец и золотые, украшенные бирюзой поручни.
Булгак и Иван Лисицины, Лашук и Иван Лопухины, Никита Макаров, Богдан Максимов и другие, известные своей тонкой работой по серебру и золоту мастера, находившиеся в толпе, были не раз жалованы государем за свою искусную работу.
Когда все разместились в соседстве с пушечного и колокольного дела мастерами, дьяк Обухов обратился к ним с царским приветствием, на что они ответили коленопреклоненным поклоном.
А когда они по его приказу поднялись, то дьяк сказал им, что хотя они и хорошие мастера своего дела и хотя заморские люди дивуются на их добрые изделия, а государю-батюшке Ивану Васильевичу от того приятность превеликая, однако время такое, что они, золотых дел мастера, должны оказать помощь государеву делу в войне с врагами Русского царства.
Колокольные мастера будут лить пушки для государевой надобности, а им, художникам серебряного и золотого чеканного и литейного мастерства, в случае нужды потребно приноровиться к мастерству колокольного литья.
– Время грозное, трудное для нашей святой матушки-Руси, и всякое дело должно вершить с молитвою и верою на пользу государству Московскому, – закончил свое слово дьяк Обухов.
Ответное слово держали: Левушка-псковитянин, незаменимый замочный, часовой и серебряных дел мастер, и Григорий Романов. Положив земной поклон, они сказали:
– Послужим тебе и родине нашей, батюшка-государь, с честью, коли то твоей царской милости угодно, и во всяком ином деле, коли твои царские слуги то нам укажут… Так, стало быть, Господу Богу угодно, чтоб наши люди и свою лепту вложили в общее великое кровное дело.
В палате стало душно и жарко от многолюдства. Пот градом лил с царедворцев и мастеров. Однако царь сидел неподвижно, с большим вниманием приглядываясь к пестрой, разношерстной толпе «черных» людей, с которыми ему почти не приходилось никогда так близко сходиться, а тем более обращаться к ним за помощью при подобном многолюдстве.
Все притихли, молчали.
Борис Годунов, бояре и дьяки неподвижно ожидали, когда поднимется царь, тем самым давая знак, что прием мастеров закончился.
Несколько минут в палате царила напряженная тишина.
Но вдруг царь громко подозвал к себе Богдана Бельского и, указав на Тимофея Оскарева, тихо и строго сказал:
– Того крикуна возьми, допроси и плетью посеки… Пусть вникнет, что пушки – божье дело, они царство Русское берегут. А всех прочих брагой в Столовой избе угостите.
Еще тише стало в палате от этих слов царя.
Тимофей Оскарев затрясся в страхе, побледнел. Широко перекрестившись, обвел товарищей растерянным и слезливым взглядом.
Царь поднялся с трона, не отнимая острого, пронизывающего взгляда от Оскарева, и медленно спустился по ступеням с тронного места, окруженный царедворцами.
Пушечного, колокольного, серебряного дела мастера стали на колени, провожая царя робкими поклонами.
Когда он удалился во внутренние покои, Тимофей Оскарев остался в одиночестве – мастера от него шарахнулись в стороны.
К Андрею Чохову подошел дьяк Вавилов и сказал, что Борис Федорович Годунов примет его завтра в приказе Большой казны. Государь велел послать его, Андрея Чохова, к Студеному морю.
X
Дремучий лес. Места болотистые. Туман. Сыро. Проселочная дорога едва-едва доступная для всадника, но пробирается по ней не всадник, а целый караван; тут и повозки, и верховые, и просто неоседланные кони, гуськом следующие за повозками. Люди в караване соблюдают строжайшую тишину. Нарушается она только скрипом колес и фырканьем лошадей. Разговор у всадников вполголоса. О чем он? Главное, как бы незаметнее и безопаснее пробраться к Пернову.
Государь дал наказ отборным кремлевским всадникам – беречь пуще глаза посольских людей, отъезжающих в далекую заморскую страну, в папский город Рим. Важно доставить в целости и невредимости посольский караван до берегов Варяжского моря, где стоит город Пернов; пускай сядут на корабли да поплывут; тогда и от сердца отляжет, и на душе станет легче.
В головной повозке Леонтий Истома Шевригин, а с ним рядом толмач Вильгельм Поплер, в следующей – Игнатий Хвостов и другой толмач Франческо Паллавичино, в третьей – два подьячих: Васильев Антон и Голубев Сергей.
Шевригин оглядывается слегка прищуренными глазами по сторонам подозрительно, настороженно. Да и как же не быть настороже? Ведь совсем невдалеке шведское войско. И по лесам немало бродит шаек ландскнехтов короля Иоанна. Хитрое дело – пробраться к морю через леса и поля лифляндские, едва ли не полностью захваченные шведами, немцами и наемниками короля Стефана.
В проводниках – пожилой латыш, лесной житель, охотник, некогда находившийся на службе у московских воевод, воевавших Ливонскую землю. Он едет впереди каравана, сутулясь на маленькой косматой лошаденке, едет уверенно, хмурый, сосредоточенный. Его взял с собой в дорогу сам Шевригин, уже не раз ездивший по Лифляндии.
На спине и на груди в своем кафтане Шевригин зашил в подкладку царские грамоты к императору аламанскому и папе римскому. Никто не должен знать, кроме него да его помощников – Игнатия Хвостова и подьячих, – зачем едет он, царский посол, в Рим. На огне будут пытать – никто из них не выдаст государевой тайны. Будет опасность по дороге на море – лучше он, Шевригин, в воду бросится и утонет в морской пучине, нежели отдастся в руки врагу, а на суше – лучше сожжет свой кафтан и сам сгорит, но опять-таки живой не отдастся в руки врага. В том он принес нерушимую клятву царю.
За рубежом болтают, будто московский царь – деспот, тиран и что нет у него добрых слуг, что он насильно держит на Руси своих служилых людей, не то давно бы все утекли за рубеж.
Если бы ненадежные были русские воеводы и насильно их держал при себе царь – стояли бы они тогда так крепко за Русь?! Плохо знают русских людей заморские мудрецы, плохо знают и дела московские. Он, Шевригин, горд тем, что он – посол московского царя. Если бы его спросили: кто мудрее, кто добрее, кто Богу угоднее, кто величественнее в своем сане – царь Иван Васильевич или святейший глава Римской церкви папа Григорий Тринадцатый, он бы тотчас же ответил: «Наш батюшка Иван Васильевич премного выше всех пап и королей на свете!»
Никакой робости от того, что он едет в дальние края и что ему придется встречаться с римским[3]3
Так назывался в те времена германский император.
[Закрыть] императором в Праге и римским папой в Риме, Шевригин не испытывает. Наоборот, ему кажется, что его везде должны встретить с почетом и трепетом, ибо он – посол московского царя. А в Италии ему к тому же бывать уже и не впервые.
Сидевший рядом с ним толмач Вильгельм Поплер, выведенный из терпенья молчаливостью Шевригина, спросил его:
– Вам спать захотелось, герр Шевригин?
Только тогда посол вспомнил, что рядом с ним сидит немец-толмач.
– Нет. У нас по-русски говорится: много спать – добра не видать. Вот что, Вильгельм! Я думаю, ты тоже не будешь много спать… Наш государь сам мало спит и слугам своим не дозволяет много спать, а ты ныне тоже государев слуга. Я надеюсь, что ты с Божьей помощью послужишь нам честно. Не так ли?
Немец не ожидал, что у Шевригина вдруг молчаливость сменится таким наставительным разговором. Он тяжело вздохнул.
– Божья помощь во всяком деле нужна, – уклончиво ответил он.
– И в особенности в добром, успешном выполнении службы русскому государю, которому ты ныне служишь. Ты – немчин. Не наш! Однако поклялся служить нам верою – так и служи. Иначе Бог накажет.
– Старинная немецкая поговорка гласит: «Надо веять, пока ветер дует». Буду услужлив для своей же пользы.
– Добро!
Шевригин, сочно рассмеявшись, с силою похлопал немца по коленке.
В следующем возке изнывал от тоски по Анне Годуновой Игнатий. Никогда ему и в голову не приходило, что можно так страдать из-за девицы. Суровая монастырская быль, окружавшая его в детстве и юных годах, наставления старцев, погруженность в чтение писаний древних летописцев – все вместе вселило в него робость и недоверие к жизни, проходившей за монастырскими стенами.
Теперь он не узнавал себя.
Когда он покидал гостеприимный дом Годунова Никиты, то сам хозяин дома, оправившийся от болезни, его супруга Феоктиста Ивановна и дочь их Анна провожали его до ворот усадьбы со слезами. Никита и Феоктиста благословили его, как сына, а красавица Анна тайком подарила ему маленький образок Богоматери в серебряной оправе. Теперь этот образок, надетый на цепочке, он крепко прижимал к груди.
Никита Годунов сказал на прощанье:
– Господь с тобой! Не посрами земли Русской!
Облобызались на прощанье.
Навсегда запечатлелось в памяти Игнатия, как во время их прощанья тихо падали с кленов сбиваемые ветром, пожелтевшие листья. Медвежонок и тот глядел на Игнатия из своей конуры какими-то печальными слезливыми глазками. Так казалось теперь Игнатию. Вспомнилось, как они с Анной кормили его в тихие солнечные утра в дни отсутствия Никиты Васильевича и как медвежонок довольно облизывался, а маленькие глазки его глядели торжествующе.
С грустью мысленно прощался теперь Игнатий с мелькавшими по сторонам елями, соснами, с пожелтевшими березками, с родной землей.
Сидевший рядом с ним толмач Франческо Паллавичино, худой, с острой бородкой итальянец, все время вздыхал. Уроженец Венеции, он опасался, как бы его не схватили в Риме и не отправили в Венецию.
– Я боюсь своей родины… – покачивая задумчиво головой, говорил он. – Страшно!
– Зачем ее бояться? – спросил Игнатий.
Франческо рассказал: сто лет назад управляющий Венецией Совет Десяти передал управление страной трем государственным инквизиторам. Им предоставлена безграничная власть над всеми без исключения подданными республики: над дворянами и священниками, над народом и даже над самими членами Совета.
Они могут тайно или явно предать смерти каждого; они схватывают на улицах, кого захотят, и пытают, мучают в глубоких подвалах темниц. Если кто-нибудь пропадает и можно догадаться, что его схватили инквизиторы, то его родные, боясь страшного судилища, не решаются даже спрашивать – куда девался их близкий.
Франческо затрясся от страха.
Игнатий удивился его внезапно побледневшему лицу. Он спросил толмача, что с ним.
– Сеньор Луиджи донес на меня… Меня объявили еретиком… бежал я из Венеции… Именем Христа меня повесят, если поймают, или обезглавят…
– Тебе дали государеву охранную грамоту. Ты состоишь в толмачах у государя. Никто тебя не тронет. Ты – при царских послах, – успокоил его Игнатий.
Франческо усмешливо вздернул бровями и недоверчиво покачал головою:
– О, вы не знаете!.. Русский человек не знает, что есть инквизиция… Храни вас Бог от инквизиции святых отцов! Они никого не признают, даже самого Бога. В Риме вы услышите страшные рассказы про инквизиторов. Московскому человеку придется много раз удивляться: какое великое множество насилий, пороков и бесстыдства исходит от святейших пап! И нынешний папа не безгрешен. Он – достойный преемник папы Пия Пятого. Пий писал нашим венецианским инквизиторам: «Поместите над вашим трибуналом в Венеции железные распятия с надписью: “Место сие страшно, это – врата ада или неба”. Помните, что наш Божественный Учитель сказал: “Любящий отца своего и мать свою, сына своего или дочь свою больше Меня – не может быть моим учеником. Человек должен сделаться врагом домашних своих, ибо Я пришел отделить супруга от супруги, сына от отца, дочь от матери. Не мир Я пришел принести в мир, но меч! Сражайтесь же за Меня без страха и устали!”»
Итальянец остановился. От волнения он еле переводил дыхание. Бледное лицо его покрылось красными пятнами. Он про себя прошептал молитву.
– Не я еретик, а они!.. Слушайте! Пий писал венецианским инквизиторам: «Пытайте без жалости, терзайте без пощады, убивайте, сжигайте, истребляйте вашего отца, вашу мать, ваших братьев и сестер, если окажется, что они не преданы слепо католической апостольской Римской церкви». Я говорил своим друзьям, что великий грех следовать сему указу. С тех пор я должен был скрываться, прятаться от папских сыщиков и от слуг инквизиторов. И вот я убежал в Москву… Там я прожил много лет, стал слугою государя, а на родине меня называют изменником…
Франческо замолчал.
Игнатий спросил:
– А в Москве ты как живешь?
– Москва сердцу моему ближе Рима, Вены, Праги, где я также бывал. Я полюбил русских людей.
Немного помолчав, Франческо сказал:
– Папа Григорий Тринадцатый не лучше Пия… Это известно всему миру… Он натравил католиков на гугенотов в Париже… Он радовался страшным убийствам. Этого не скроешь. Слишком много крови пролито папою.
Игнатию наскучило слушать унылую речь итальянца. Он снова задумался об Анне. Сразу стало на душе светло, прочь отошли мрачные, тяжелые думы, навеянные рассказами Франческо об инквизиторах и римских папах.
Игнатию казалось, что он слышит нежное дыхание Анны, чувствует, как бьется ее сердечко… Она представляется ему сокровищницей радостных, неземных услад, о которых только думать – уже счастье. Все человеческое в ней казалось теперь ему лишь райским видением, в лучах которого любовь сильнее смерти…
Подьячие Васильев и Голубев втихомолку опустошали баклажку с хмельным, поэтому были очень сосредоточенны.
– Вот уж истинно: грехи сладки, а люди падки, – обняв за шею Голубева, шепотом произнес подьячий Васильев.
– А отчего? – лениво отозвался Голубев, вполоборота оглянувшись на него. – Скажи: отчего? Ну!
– Не знаю… – небрежно ответил тот.
– А вот отчего: грех, батенька, дает много утех! – Голубев сочно захихикал, содрогаясь от смеха всем своим жирным туловищем.
– Запрещены нам утехи-то, брат, запрещены! – сокрушенно покачал головою Васильев.
– Верно сказал дьяк Писемский однажды Борису Годунову: «Строгий закон виноватых творит». Правильно. Грех вокруг нас так и ходит. Хвостом виляет.
– Молчи, Митрич, не пугай!.. Боязлив я… С тобой мы будем, ровно ягнята… Добрые, послушные, приветливые… Люблю я таких! Под них сам дьявол не подкопается. Попробуй-ка какой-нибудь король либо папа римский меня рассердить. Ни за што!
– Меня тоже. У нас с тобой сердце на привязи, не даем мы ему воли… А коли неудача, то наше дело: «Что же делать!» А ваше: «Как же быть!» Три месяца просидели мы у датского короля, так и не удалось ему нас осилить. Видим – делу конец, король упирается, а сам жалеет, что не сговорились, мы ему: «Что же делать!», а он: «Как же быть!»
Оба подьячих громко расхохотались.
– У государя-батюшки терпенью научишься!.. – сказал Васильев.
– Во всех царствах не найдешь посольских людей терпеливее наших. А почему? Сережа, молви слово: почему? Не знаешь?! А оттого, что у нас мысль: твердо на своем стоять. Много раз бывало так-то у наших послов. Што нам иноземные мудрецы!.. Пускай мудрят, а мы знаем: и за морем горох не под печью сеют! Антоша, друг, дай обниму тебя, не задумывайся!
– А я вот думаю… Ладно ли, што мы к папе тому едем? Не зазорно ли нашему батюшке-государю первому к нему послов посылать?! – Голубев ударил кулаком себя в грудь. – Обидно, коли папа сочтет нас ниже себя.
– Уймись! Мужичок неказист, да в плечах харчист! Чванства много в Риме; насмотрелся я, а ведь чванство не ум, а недоумье. Берегись и ты, Антон! Негоже тебе заноситься. Учись у Писемского. Приходилось мне видеть, как беседует он с королями. Со стороны взглянешь – подумаешь: два короля сошлись, а между прочим – и король не в обиде, и государева честь соблюдена.
– То-то! Дай Бог! – перекрестился Васильев.
Вот и кончилась лесная чаща. Перед глазами открылась необозримая равнина. Повозки, выйдя из леса, оказались на краю глубокого обрыва. Вскоре был найден и съезд.
– Ну вот и свет божий увидели! – радостно провозгласил Шевригин, стараясь не выдавать своего волнения. Ему было хорошо известно, что путь по этой равнине предстоит небезопасный. И чтобы занять своего соседа-немца разговором, он начал рассказывать о том, как великий князь Василий, отец Ивана Васильевича, недружелюбно относился к римскому двору. Однако папе в конце концов удалось все-таки уговорить царя отправить в Рим послов; поехали Герасимов и Трусов.
– Но ваш великий князь Василий, я слыхал от австрийского дворянина Штейнберга, хотел принять унию. И будто бы те послы им были посланы затем, чтобы объединить вашу церковь с католической? – сонно проговорил, покачиваясь в повозке, Поплер.
Шевригин рассмеялся.
– Когда послы великого князя Василия говорили о торговых делах и присылке итальянских мастеров – чужеземцам мерещилась уния… Государи наши не обманывают никого и себя не позволяют обмануть никому. Живем честно, по-христиански. И Бог не забывает нас. Наша вера – наша родина. Измена вере – измена родине.
Шевригин широко перекрестился, подумав: «А ну, если немчин выдаст нас?.. Надо смотреть в оба!»
Продолжая креститься, он сказал:
– Господь многомилостив!.. Он поможет нам благополучно прибыть в тот город Рим. Да и толмачей Господь послал нам добрых, совестливых.
Поплер приветливо улыбнулся, молча пожал ему руку.
Всадники, окружавшие посольский караван, зорко оглядывались по сторонам, держа наготове обнаженные сабли.
Но кругом не было ни души. Прежние бои напугали жителей деревень, дома стояли обгорелые, пустые. Все население их ушло в леса, в глухие места, проклиная войну, проклиная немецких рыцарей.
– Вот, гляди… – указывая рукою на опустевшие жилища, говорил Шевригин. – Хотел ли этого наш государь? Наш государь ищет мира с соседями, он печется о благе своего народа, да и не гневен он на мирных людей, латышей… Не мы жгли деревни, а сами немцы да шведские разбойники… Боимся Бога мы, любим правду, и не нашим бы глазам видеть сие разорение… О том бы и хотелось нам поговорить – о мире – с королями да с князьями зарубежными.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































