Текст книги "Невская твердыня"
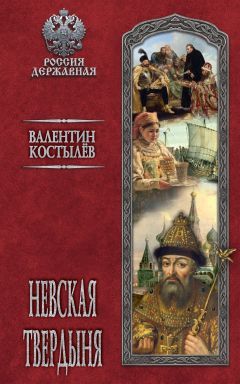
Автор книги: Валентин Костылев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Поплер молча, лениво слушал слова Шевригина. Ему давно надоели европейские неурядицы. Он искал теперь тихой выгоды, поэтому свою саблю ландскнехта он и променял на должность толмача. Плохо, невыгодно становится быть ландскнехтом, особенно в войне с московскими людьми, того и гляди с жизнью расстанешься, а тут кое-что перепадает и от московского царя, и от его гостей-иностранцев. Жить можно!
XI
Холодно. Ветер воет в трубе. За окнами рев деревьев в саду.
В своем ковельском замке задумчиво сидит князь Андрей Михайлович Курбский, греясь у камина.
Отсвет огня падает на мрачные, под низкими каменными сводами стены, убранные разным оружием.
Здесь индо-арабские мечи в серебряной оправе с широкими кожаными поясами, вышитыми серебром и шелками; алебарды, сабли индо-персидские, сталь которых излучала в полутьме синий блеск; шестоперы – на рукоятьях и перьях украшения набивного золота. Этими алебардами, саблями и шестоперами он, князь, и его приближенные били под Великими Луками московских воинов. Этому оружию особый почет – вот отчего оно и развешано на коврах.
В другом месте сабли, копья и прочее оружие, развешанное просто на каменной стене, в большом беспорядке. В углах также сложено много оружия. Все это – трофеи, собранные с мертвых воинов-москвитян. Это оружие брали с собою люди князя Курбского, когда он водил их на татьбу.
Да, у князя Курбского много накопилось на совести прегрешений.
Вот и теперь. На полу около него лежат доспехи, шлем закрытый, с низким гребнем и крутым профилем забрала. Этот доспех и шлем захвачены князем при нападении его на имение князя Чарторыйского, а принадлежали они когда-то одному из рыцарей войска графа Валленштейна.
Получилось в этот день так, что только князь Андрей собрался тайно напасть на имение пана Красинского, который славился своим богатством, как в замок примчался королевский урядник и привез указ короля выступать в поход к Пскову.
Сердито сплюнул Курбский, взглянул в угол на рундук, где лежала брошенная им королевская грамота.
Еще раз на закате лет ему, Курбскому, предстоит обнажить меч против своего отечества.
Мысли тяжелые, мрачные тянутся в голове.
Неладно сложилась его жизнь на чужбине.
Во всем обманулся он.
Когда он вздумал самовластно распоряжаться в подаренных ему королем Сигизмундом владениях – против него восстала шляхта. На Люблинском сейме она жаловалась на него королю и требовала у Сигизмунда Августа, чтобы имения, пожалованные Курбскому вопреки литовским законам, были отобраны у него.
Много крови себе испортил князь, униженно отстаивая даренные королем имения.
Король не уважил просьбы шляхты, но и не успокоил Курбского. Шляхта еще более озлобилась на «московского иуду», как некоторые в гневе обзывали его даже в глаза.
Чтобы забыться, отойти в сторону от борьбы со шляхтой, вступил он в брак с княгинею Марьей Юрьевной Голшанской. Она была владетельницей обширных и богатых поместий. Вступая в этот брак, Курбский думал осчастливить себя богатством жены и родством ее с важнейшими литовскими фамилиями, но и тут все сложилось иначе, чем думалось.
Жизнь семейная не удалась. Постоянные ссоры с женой из-за денег привели к тому, что она даже хотела отравить его.
Вскоре Марья Юрьевна добилась развода.
В это же время пришло известие о гибели брошенных им на Руси жены, сына и матери. Они умерли в темнице. Царь Иван истребил даже всех единоколенных ему, Курбскому, княжат ярославских, отняв их имения и раздав их своим новым людям.
Теперь он опять женат, и новою женою своей, княгиней Александрой Петровной, доволен; уже она родила ему дочь, княжну Марину. Небогата княгиня и знатностью рода не блещет, но нрава добродетельного и предана мужу, семье до самозабвения.
Полночь.
Тихо в замке. Слышна только возня крыс в подполье.
Жена и ребенок спят. Они не знают, какая гроза нависла над ним, князем Курбским, данником сурового и непреклонного короля Стефана Батория.
Всем известно, что король Стефан далек от покровительства Курбскому. Однажды, на приеме у короля, Андрей Михайлович сам уловил явно недружелюбный взгляд Стефана Батория, брошенный в его сторону. Притом же ему хорошо известно, что король ради угождения средней и мелкой шляхте никого не пожалеет, а эта шляхта далеко не на стороне московских князей, бежавших в Польшу.
Что делать?!
Курбский вышел в соседнюю комнату, где спал приехавший к нему королевский ротмистр Ляшевский. Ротмистру было поручено королем не только известить Курбского о королевском предписании выходить в поход, но и набрать в его владениях гайдуков для войны. Надлежало выбирать самых рослых и крепких людей на королевскую службу.
Постояв несколько минут в раздумье около спящего ротмистра, князь стал его будить.
Ляшевский испуганно вскочил со своего ложа.
– Что случилось? – спросил он сонно.
– Ничего… – улыбнулся Курбский, похлопав его по плечу.
Ротмистр с улыбкой потянулся.
– Спать хочется… – сказал он, зевнув.
– А мне не спится… Хочу спросить тебя, пан… В каких мерах я у короля?
Ляшевский удивленно посмотрел на князя.
– Не знаю. Не мое то дело… – холодно ответил он, пожав плечами. – Мое дело – гайдуков у тебя набрать. Помоги мне в этом.
– А если я не позволю тебе… Я хозяин здесь!
– Хозяин всех земель наших – его величество король Стефан. У тебя плохая память, князь. Здесь не Московия, а наше королевство. Мои уши не должны слышать слов высокомерия от простого шляхтича… Война! Помни об этом, князь.
Ротмистр поднялся, совсем оправившись от сонливости. Был он высокого роста, с большими усами и холодным взглядом синих глаз.
Курбский счел себя оскорбленным резкостью слов ротмистра и поэтому покраснел, надулся.
– Сам я пойду на войну, – сказал он, нахмурившись. – А гайдуков не позволю вам набирать у меня.
Насмешливая улыбка скользнула по лицу ротмистра.
– Вам легче идти воевать с Москвою, чем отпустить нескольких парней?.. Мне это непонятно, князь. Я бы на вашем месте поступил иначе.
Он рассмеялся.
Курбский догадался, на что намекает ротмистр. Ему стало больно и стыдно. Мелькнуло в голове: «И этот!..»
– Пускай будет так, но я не дам никому хозяйничать в моем именье, – упрямо произнес он.
– Ну что ж! – беззаботно рассмеялся ротмистр. – Завтра я уеду. Доложу королю.
Курбский промолчал.
– Из Праги прибыл гонец… Он уведомил королевскую ставку… В Рим через Прагу едет московское посольство. Император и папа готовят богатую встречу царским послам.
Курбский побледнел.
– Зачем едет московский посол?
– Ищет союза с императором и папой.
– Против кого?
– Не знаю.
– И еще – царь требует выдачи московских беглецов… Даст большой выкуп за них.
– Так ли? – глухо спросил Курбский.
Снова краска залила его лицо.
– Говорят, что так… Не знаю.
– Царь Иван давно добивается этого. Видно, он дорожит теми беглецами. Они ему нужны для войны, – стараясь совладать с собою, заметил Курбский.
– Не знаю… – с безразличным видом сказал ротмистр. – И, став спиною к Курбскому, добавил: – Я думаю, вы мне позволите продолжать мой сон?!
Курбский, ничего не ответив, вернулся в ту комнату, где был раньше. Комната эта была названа им в давние времена «комнатой мести». Здесь он некогда предавался радужным мечтам о походе на Москву, о низложении с трона царя Ивана Васильевича, о возведении на престол князя Старицкого Владимира Андреевича, о возвращении своем в удельное Ярославское княжество и о многом другом.
А теперь смешно об этом думать! Владимир Андреевич давно покоится в земле. Ярославское княжество обращено в область Московии.
Горькая улыбка мелькнула на лице князя.
Когда-то он писал в своей заветной тетради… вот она перед ним:
«…Чем затруднений больше, чем борьба сильнее, тем возвышеннее доблесть души».
«Страдания – тяжелый заступ, управляемый железной рукой. Он врезается в неподатливую почву, но, разрыхляя ее, дает обильнейшую жатву. Неудачи – столпы успеха».
Тяжело вздыхая, князь поднялся и убрал тетрадь в темном углу, в ящик.
Прошло с тех пор почти два десятка лет. Но чего же добился он за столь долгий срок?
Ничего!
Надежда была на короля Сигизмунда Августа, много обещавшего и ничего не сделавшего. Вельможные паны оказались сильнее его. Страшно!
Другая надежда была на свержение с престола царя Ивана заговорщиками-боярами. Увы! Царь прежде того сам их переловил и казнил.
Третья надежда на то, что изнуренный войною, обнищавший народ поднимет бунт, но русский народ оказался во все время многолетних войн послушным государю.
Терпенье и страдания только состарили его, князя Курбского, сделали его маловерным, слабым, уже неспособным на дальнейшую борьбу… Да и к чему теперь эта борьба?! Царь Иван дочиста истребил всех друзей князя Старицкого, уничтожил и самого его вместе со всей семьей, а Московская держава окрепла, стала грозой для соседей. И жена, и сын, и мать самого его, князя Курбского, погибли! Теперь душа не лежит и возвращаться в Москву, хотя бы победителем. Не лежит душа и воевать с Москвой в рядах Стефанова войска. Новый польский король Стефан Баторий не раз грозил ему, русскому князю, что его будут судить королевским судом за непослушание. Однажды за сопротивление воле короля и постановлению сейма Курбский уже подвергся штрафу. А теперь над ним висит угроза короля Стефана лишить Курбского уряда и всего имущества по жалобе князя Чарторыйского, на замок которого им совершено нападение.
И теперь… чего можно ждать от короля, если ему донесут о новом непослушании князя Курбского?!
Гайдуки!.. Посылая к нему в имение ротмистра для отбора гайдуков, король ясно показывает, что не признает его ни вотчинником, ни даже ленным владельцем ковельского имения, а только своим «державцею» – управляющим.
Холодный пот выступил на лбу князя.
Он поднялся, взял свечу, стал в нерешительности против двери, ведущей в соседнее помещение.
Осторожно приоткрыл ее, заглянул.
Ротмистр спал крепким сном, оглашая своим могучим храпом комнату.
Курбский, дрожа всем телом, взволнованный, не помнящий себя от охватившего его предчувствия, подошел к ротмистру и с силой стал теребить его:
– Берите! Берите моих гайдуков! Раздевайте меня! Казните! Что хотите – делайте!
Увидев князя, тот изумленно расширил глаза:
– Опять вы? Что вам надо? Почему не спите?
Курбский крикнул что было мочи:
– Берите моих гайдуков! Слышите?! Или я вас убью!
Ротмистр остолбенел. Лицо его перекосилось от негодования, он сжал рукоять пистолета.
– Вы с ума сошли?!
– Да, пан Ляшевский, я – безумец. Мне дальше некуда идти… Я молю Бога о смерти… Я желал смерти царю Ивану, а теперь желаю ее себе.
– В таком случае война вам кстати, – улыбнулся ротмистр. – Вы мне не даете спать… Мы не любим плаксивых людей. Ваш царь-деспот испортил своих воевод, запугал их. Вы находитесь ныне в Польше, будьте бодры и веселы! Ради короля и Польско-Литовской державы вы обязаны пожертвовать всем… Не попусту вы присягали польской короне! А пятнадцать гайдуков – невелика жертва… Стоит ли из-за этого с ума сходить? Спите!
– Спите! – с горькой усмешкой сказал Курбский и, покачиваясь, разбитой походкой вернулся в соседнюю комнату.
Из нее он вышел в длинный коридор, освещая себе дорогу свечой. В одну из дверей он с силою постучал кулаком. Дверь отворилась, и князь вошел в небольшую, заваленную конскими седлами и сбруей комнату.
Из темноты вылез косматый, неопрятный бородач в наскоро наброшенном на плечи кафтане:
– Чего изволишь, князь?!
– Колымет… Иван… Постой!..
– Что с тобою, Андрей Михайлович?! На тебе лица нет! Аль беда какая стряслась?
– Опять война… Опять пойдем на Русь! – простонал Курбский. – Опять… Ко Пскову пойдем… Снова…
Князь не договорил, в изнеможении прислонился к косяку, схватившись за голову.
– Стар становлюсь… Немощен… Жизнь впустую прожил, ничего не добившись. Что имел – и то потерял… опозорил себя. Гласом вопиющего в пустыне остался. Никто меня не слышит. Но я не изменник! Нет, нет! Я люблю свою родину… Я хотел добра…
– Полно, князь! Нужно ли оправдываться?! Да и перед кем? Мы верные слуги короля. Мы проливали русскую кровь. Так и надо. Неужели ты сокрушаешься о том?
– Да, проливали! Мы должны были проливать. За нами следят. Нам не верят. Прости, Господи! – Курбский перекрестился. – Я мстил царю…
– Храбростью своею ты заслужил награды и почет… Гордись этим, князь! Чего же ты?!
– Молчи, Колымет! Не напоминай! Сними у меня со стены оружие, отнятое у русских. Не хочу его видеть!
Склонившись к уху Колымета, Курбский прошептал:
– Не хочу я на войну идти… Не могу! Избави Бог! Не в силах. Псков громить?! Нет… нет… Господи!
Колымет крепко сжал руку Курбского и горячо заговорил:
– Не падай духом, князь! Если ты уронишь себя в глазах короля, что нам-то в те поры делать? Мы тобою токмо и держимся. Негоже, Андрей Михайлович, губить нас. Подумай о том. Соберу всех наших, оседлаем коней – и айда на войну! Нам нечего терять. Не гневи короля. Он не пощадит никого. Чуешь, князь, что нас ждет?!
Курбский задумался.
– Поздно, князь, – зашептал Колымет. – Если мы захотим, ты погибнешь прежде, нежели до тебя доберется король.
Курбский притих, в изумлении глянул в лицо Колымета.
– Иван, что ты говоришь? Ты угрожаешь?
– Говорю то, что знаю. За тобой не так следят королевские сыщики, как твои верные слуги – москвитяне. Говори: идешь?!
Курбский робко произнес:
– Иду.
И помолчав, дрогнувшим голосом спросил:
– Колымет, вы способны убить меня?!
– Да! – глядя в глаза князю, нагло ответил Колымет. – Ты увел нас из Русской земли… И теперь помни прежде всего о нас!
Курбский возмущенно воскликнул:
– Опомнись, Иван! Ты же других подбивал!
– Не будем спорить, Андрей Михайлович! Я сказал то, что думают все московские беглецы. И прошу тебя – не спесивься перед королем и панами. Они – наши хозяева и благодетели.
Курбский, опустив голову, побрел во внутренние покои замка, к себе в опочивальню. По одрябшим его щекам текли слезы.
Часть вторая
I
Из Пернова морем на датском корабле царский посол Леонтий Истома Шевригин со своими спутниками благополучно прибыл в Копенгаген. Здесь дружественные Москве власти оказали послу достойную встречу и снабдили королевской охранной грамотой для дальнейшего следования по Европе.
Через Лейпциг, Прагу, Вену, Мюнхен, Инсбрук и Триест московский посол прибыл в Рим. Везде в дороге Шевригина встречали с почетом, как представителя сильнейшего из европейских государей. Имя царя Ивана произносилось с уважением.
Путешествие было крайне трудное. В попутных городах находилось немало настроенных против Москвы людей, смотревших недружелюбно и даже с ненавистью на русских; немало и опасностей угрожало Шевригину и его спутникам в дороге. Особенно во владениях германских князей, не одобрявших сношений императора Рудольфа с московским царем.
Деловой, смелый, верный слуга царя Ивана – Леонтий Истома Шевригин с суровым упрямством преодолел все препятствия и даже сумел добиться в Праге приема у императора, выполняя попутно тайное поручение своего государя. Императору было поднесено в дар от царя Ивана сорок соболей. Затем Шевригин передал Рудольфу в собственные его руки грамоту, а в ней говорилось:
«Изо всех мест немецких нам сказывают приезжие торговые люди, что ты, брат наш дражайший, им заповедь учинил: кораблей в наше государство ни с какими товарами не пропускать и Дацкому королю Зунтом в наше государство пропускать кораблей не велел, особливо с медью, свинцом и оловом…»
Император Рудольф поблагодарил за подарок и просил Шевригина передать государю, что он никогда таких приказов своим людям не давал и что он отнюдь не желает мешать тому плаванию.
В Рим посольство прибыло раннею весною, в теплое, солнечное утро.
В пяти верстах от итальянской столицы московские люди увидели множество ехавших навстречу колымаг, в которые впряжены были красивые белые кони, покрытые шелковыми узорчатыми попонами. Колымаги окружало более сотни всадников.
Увидев московское посольство, всадники остановились, а из колымаг вышли люди, во главе которых шел одетый в богатую одежду папский архиепископ, назвавший себя кардиналом Медичи.
Первое, что бросилось в глаза русским людям, это его безбородое, безусое лицо, и весь он в своем одеянии скорее напоминал женщину, нежели мужчину.
После обмена приветствиями кардинал Медичи предложил московскому послу с провожатыми пересесть в особо предназначенные его святейшеством папою для посольства три большие, убранные коврами и цветами колымаги.
Не успели посольские люди отъехать и две версты, как увидели скачущих им навстречу тройными рядами многих всадников, предводимых одетым в блестящие доспехи красавцем-рыцарем. Всадники, отдав воинские почести послу, присоединились к толпе ранее встретивших папских слуг.
Франческо Паллавичино стал усердно переводить Шевригину приветствия папы и кардиналов. Медичи заявил, что из уважения к посольскому сану синьора Шевригина его святейшество папа предлагает ему, послу московского государя, стать на квартиру во дворце его сына Якова, который будет к тому же сопровождающим посла вельможею, подобно тому как в Москве назначают для сопровождения и для ухода за иноземными послами приставов.
Шевригин и сопровождавшие его люди, низко кланяясь, благодарили кардинала Медичи за столь радушный прием, оказанный им его святейшеством папою Григорием Тринадцатым.
Папа до этого был предупрежден хорошо знавшими русские нравы и обычаи иезуитами, чтоб царского посла не помещали в такие палаты, где стены украшены изображениями нагих людей или с каким-либо безнравственным мифологическим содержанием, «так как московиты удивительно смущаются такими вещами». Пускай для них по стенам развесят изображения святых, лучше всего с бородами, а также изображения Христа и Богоматери. Заботливые иезуиты наперебой лезли со своими советами. А один из них даже особо предостерег от показа послам Бельведерской Клеопатры.
Иезуиты сообщили папе, что прежние московские послы распространяли в Праге и других городах невыгодные слухи о нравах Ватикана, говорили с негодованием о кардиналах, имеющих сыновей, и о прочем, позорящем якобы священнический сан католиков. Русские люди чересчур строги в своих суждениях о священнослужителях.
И вот теперь Шевригин и его друзья ходили по отведенным им трем большим палатам и с любопытством и удивлением рассматривали обильно развешенные по стенам изображения бородатых праведников, мучеников, великомучеников, кротких праведниц, ангелов и херувимов, порхающих в лазури небес.
– Ну, братцы, мы точно в рай попали, – с трудом отдуваясь и разводя недоуменно руками, произнес Шевригин.
– Зело густо… Будто в монастыре! Э-эх, грехи тяжкие! – покачал разочарованно головою подьячий Антон Васильев, указывая рукой на святых.
– Картины картинами, – хмуро произнес Шевригин, – а лукавого беса все же поостерегайтесь. От баб подальше будьте. Хитры, я вижу, они, да нас не перехитрить. На слова скупитесь. Лучше споткнуться ногою, чем словом.
Подал свой голос и Франческо Паллавичино:
– Коварнее здешних иезуитов едва ли кого найдешь! Вам говорит это итальянец. Прошу хранить в тайне.
Шевригин рассмеялся:
– Какая тайна! Весь божий мир об этом знает. А у меня такая мысль: пусть бы не любили, да только бы боялись. И то ладно. Ну да уж там увидим. Думаю, что не продемьянимся и не прокузьмимся. Заморская мудрость нас не пугает.
Только что успели московские гости перекинуться словами, как в палату вошли слуги и стали собирать на стол.
Появился и сам Яков, сын папы. Объявил гостям, что им будет отпускаться к обеду и ужину по тридцати блюд на человека да овощей по двенадцати блюд в каждую еду.
С великим усердием пообедав, осушив кувшины с вином, посол и его спутники отправились в сопровождении двух чичероне-рыцарей на прогулку по городу. Было весело и приятно идти по солнечному, утопающему в зелени городу.
Через узкий длинный коридор между высоких каменных стен, где только над головой светила полоса ласкового голубого неба, залитого ярким солнцем, вышли они на просторную площадь.
Шевригин сказал весело:
– Благодать!
Рыцари поинтересовались, что произнес посол.
Франческо перевел. Слуги папы самодовольно улыбнулись.
– Знайте, братцы, теперь это мое слово будет передано папе.
Рыцари опять спросили чичероне о словах Шевригина.
Франческо ответил:
– Он сказал: лучше этого города ничего не знают.
Юноши утвердительно закивали головами.
По дороге встречались то боковые переулки, то крохотные площади; на путников обрушивались потоки солнечных лучей и охватывало приятным, ласковым теплом, но стоило пройти несколько шагов и очутиться в тени, как снова становилось прохладно. Долго бродили московские путники по улицам Рима. Свет и тени, шумные места и тихие уголки то и дело чередовались на пути.
Но вот перед глазами предстала гигантская мраморная колонна. Шевригин и его друзья остановились перед ней.
– Что это? – заинтересовался Истома.
– Колонна Траяна.
Игнатий Хвостов рассказал товарищам о том, кто был Траян и каким жестоким преследованиям подвергал он первых христиан.
Шевригин поморщился.
– А тут есть и другое местечко… – вмешался в разговор Франческо. – Колизей… Много там было пролито христианской крови… Ой как много! Земля, думается, на версту в глубину пропитана здесь кровью.
С одной из возвышенностей Шевригин стал внимательно рассматривать окрестности. Все эти холмы, покрытые зеленью и множеством домов и домиков, невольно натолкнули на мысль о Москве. Что за оказия! Куда ни заедешь, на что ни посмотришь – непременно матушка-Москва на ум приходит. И хотя растительность здесь иная: вместо березок какие-то чужие, голые пальмы и кипарисы, и дома, совсем непохожие на московские бревенчатые хоромы, и улицы и площади не такие, как в Москве, – находишься здесь, а душа – дома.
На другой день московским гостям предложили верхом поехать осмотреть древние постройки Рима. Перед москвичами развернулась картина величия некогда всемогущего Вечного города, на которое красноречиво указывали Капитолий, Колизей… Чичероне, которого дал Шевригину Медичи, рассказывал, что Рим можно разделить на три города: новый, старый папский и древний.
– Вот видите, – говорил он, часто моргая своими густыми черными ресницами, – стоят дома, а до них стояли на этом месте другие здания, а до тех пор еще были другие постройки… От того времени, вон видите, башня, а рядом построенный совсем недавно домик. Башня та времен Цезаря. Рим – вечный город, три мира таятся в его стенах. Вон смотрите – между домами виднеются террасы, крепостные брустверы, башни, дворцы, церкви, развалины… А там, глядите, какие громадные, страшные откосы римских фундаментов, а здесь, глядите, фонтаны и кресты… Чудеснее нашего Рима нет городов на свете…
Смуглое красивое лицо проводника-итальянца выражало откровенное восхищение. Черные глаза блестели трудно скрываемым торжеством, когда он замечал на лице московских гостей удовлетворение тем, что они видели.
На каждом шагу взорам Шевригина и его спутников являлись следы глубокой старины.
Начиная с Капитолия и вплоть до Колизея развернулись во всей своей сказочно-причудливой нагроможденности развалины уснувшего вечным сном Древнего Рима. Это обиталище видений прошлого было уже вне деятельного, живущего мира.
– Все, что вы видите, – пояснил проводник, – вмещает в себя Форум, Капитолий и Колизей, а направо, глядите… скала Тарпейская, тут же и развалины дворцов цезарей, налево Мамертинская темница, а те громадины – остатки храма Константина… Здесь было сердце Рима. Здесь кипела жизнь…
У Форума путники соскочили с коней. Потянуло подойти поближе ко всем этим зданиям и каменным колоннам, посмотреть, дотронуться до их холодной поверхности, прислушаться к тишине, к тишине особенной, как будто неслышно о чем-то говорящей.
Некоторые колонны разбиты в вершине, другие у основания; немало их совсем вросло в землю, покрылось плесенью и травой.
– То, что вы видите, разрушалось не раз дикими варварами, нападавшими на наш священный город, – грустно произнес проводник.
При этих его словах московским людям невольно пришла на память Москва, совсем недавно сожженная и разоренная татарами… Сердце сжалось от боли.
Шевригин сказал, что чувствует усталость после всего виденного и просит проводить их обратно во дворец Медичи.
По вечерам в палаты к московскому послу приезжали из Ватикана кардиналы и знатные дворяне. Они привозили с собою много вина и самые изысканные яства, угощали ими московских гостей, да и сами бражничали до того, что уже с большими усилиями возвращались домой, а были и такие гуляки, что даже ночевали тут же, во дворце Медичи.
Однажды с ними приехал бойкий, расторопный католический священник Рудольф Кленхен, знавший хорошо русский язык. Когда папские вельможи, сильно захмелев, вышли из палаты в сад, Кленхен по секрету поведал Шевригину, что папа сам, первый, хотел послать дружественную грамоту к царю Ивану Васильевичу; что его, Кленхена, однажды вызвал к себе кардинал Морон.
– Так как ты бывал в Московии, – заявил он, – избираем мы тебя послом к царю Ивану. Когда, с помощью ангела Господня, ты прибудешь в Москву, отдай царю письмо его святейшества и наше. И жди ответа.
Далее Кленхен сообщил Шевригину, о чем было написано в грамоте папы. Прежде всего папа посылал царю Ивану благословение «святого отца» и затем сообщал, что «его святейшеству известно о добром расположении московского венценосца к Римской церкви и к наместнику Христову – папе. Его святейшество знает о могуществе русского государя, о многочисленных его народах, об обширных владениях, о великих одержанных им победах над врагами христианства, о доблести, о военном его искусстве, благоразумии, великодушии, коими он всех удивляет и пленяет, соединяя все это с живейшею ревностью к вере».
– Кардинал Морон, – продолжал Кленхен, – сказал мне: «Заяви царю, что римские первосвященники издревле привыкли своими отеческими наставлениями возбуждать великих монархов ко всему изящному для славы Божией, как свидетельствуют летописи и памятники всех народов. Упомяни и о знаменитых ополчениях христианских для завоевания Иерусалима, о славной победе, одержанной над Оттоманским флотом при островах Ионических во времена папы Пия Пятого… Внуши царю, что дружество святого отца для него будет зело полезно, что многие властители за их добродетель были удостоены римскими папами королевского сана и титула». А потом кардинал Морон шепнул мне на ухо: «Главная цель твоя будет не только склонить великого князя к политическому союзу с Римской церковью, но и к церковному. Сумей возбудить в нем желание к принятию веры католической!»
Шевригин, объятый великим любопытством, не успевал подливать вино в сосуд Рудольфа Кленхена – с таким увлечением священник поверял Шевригину государственные тайны.
– Ну а еще что говорил кардинал?! – подвинувшись вплотную к Рудольфу, спросил вполголоса Шевригин.
– А еще сказал он, – продолжал Кленхен, – что государь московский может убедить и шаха персидского к соединению с Европою против оттоманов.
– Но ведь шах персидский – язычник!
– Когда дело выгодное, не грех дружить и с носорогом.
– Что же еще говорил кардинал? – не выдавая нетерпения, равнодушно спросил Леонтий Истома.
Совсем уже опьяневший Рудольф произнес хмуро:
– Сказал… сказал… что император Рудольф – ворона… и… глупец… Не любит он цесаря за слабость!..
– Почему он так сказал? В каких мерах папа с цесарем?
Собравшись с силами, тот ответил:
– Император… должен был заключить союз с Москвой, он и сам хочет… да князей своих боится, его надо убить, папа нашел бы на его место достойнейшего. Может быть, его и убьют… Папа сердит на него.
Шевригин, лукаво улыбаясь, откинулся на спинку высокого остроконечного готического кресла и закрыл глаза, что-то обдумывая.
Вдруг, встрепенувшись, он спросил:
– Но ты мне, отче, не сказал: почему же ты не попал в Москву?
– Смешной ты человек! – пьяно расхохотался Кленхен. – Папе уже донесли, что царь собирается тебя послать в Рим к его святейшеству… Тайные люди есть у папы близ московского великокняжеского трона… Через Польшу пришло известие еще в ту пору, как ты и не знал, что тебя пошлет царь к папе.
Не ожидавший такого ответа Шевригин привстал с кресла, пораженный словами попа.
– Тайные люди?! – с недоумением повторил он.
– Что же ты удивляешься? Его святейшество по всему миру рассеял своих приверженцев… Разве ты не знаешь, что на земле божией идет великая борьба католических праведников с еретиками-протестантами? Его святейшество должен иметь при государях своих людей. В Ватикане давно интересуются московским двором. Как же не иметь там своих людей?
В это время из сада в палату вернулась толпа ватиканских дворян. С ними явилось несколько красивых женщин, которые вдруг подлетели к Истоме Шевригину и, грациозно поклонившись, с любезными улыбками поднесли ему букеты цветов, назвав посла «любезным синьором Леонтием».
Шевригин поднялся с кресла, спросил:
– Благодарю… по какой причине оная честь?
Подскочив, Франческо Паллавичино услужливо перевел сказанное Шевригиным, лукаво подмигивая ему.
Мужчины и женщины весело рассмеялись; а одна из них подошла к нему и сказала, жеманно улыбаясь:
– Вы – посол знаменитого монарха… Это достаточно!
Шевригин пригласил всех сесть за стол.
Откуда-то явились музыканты с флейтами и арфами.
Началось с новою силой шумное веселье.
Вскоре глаза всех женщин были обращены в сторону Игнатия Хвостова.
– Какой красавец! – громко сказала одна из них. Это же повторили и все остальные.
Хвостов понял их слова, слегка покраснел, отвернулся.
Хмельной поп Рудольф Кленхен погрозился на женщин пальцем и сказал им тихо, вероятно, что-нибудь непотребное, ибо все женщины смущенно захихикали, закрыв лицо ладонями.
Один из дворян вскочил с места и, подняв свою чашу, громко провозгласил тост за русского великого князя.
Поднялись с места все находившиеся в палате.
Московские люди, не понимая восклицаний, которые то и дело раздавались в толпе быстро опьяневших мужчин и женщин, чувствовали себя великими грешниками. Шевригин крепился, стремясь и во хмелю в полной мере сохранять свое достоинство посла.
Чем дальше шла гульба, тем теснее льнули к московским гостям охмелевшие черноглазые женщины и тем сдержанней становились Шевригин и его друзья. Особенно осмелели они, столпившись около Игнатия Хвостова.
– Неужели, – крикнули они попу Рудольфу, – в Московии все красавцы не умеют пользоваться близостью красоток?
– Москва – не Ватикан! – с пьяной грубостью ответил поп.
Зато Франческо Паллавичино совершенно потерял голову и куда-то исчез с одной из девиц у всех на глазах.
– С него пример не бери, – хитро улыбнувшись, сказал Шевригин. – Он итальянец.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































