Текст книги "Невская твердыня"
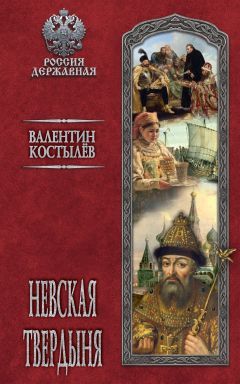
Автор книги: Валентин Костылев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Царевич Иван, робко сутулясь, тихо ответил:
– Играю…
Ивану Васильевичу показался царевич таким беспомощным, несчастным. Он встал, подошел к сыну, поцеловал его в голову.
– Иди! – тяжело вздохнув, махнул он рукой. – Не обижайся на отца. Правду говорю. Добра желаю и вам, и царству моему! Дорожи воинством. Умерь свою гордыню. Помни свою матушку, моего ангела, Анастасию!
X
То, о чем Борис Годунов поведал Андрею Чохову, было встречено Охимою слезами и причитаниями.
Андрей нахмурился:
– Полно уж тебе! Вот какая ты стала! Митрий, не гляди на мать… Я и тебя с собой возьму, обвыкнуть тебе надобно в службе, чтоб и ты был у государя в милости да чтоб не держался вечно за юбку матери.
Слова Андрея еще более усилили скорбь Охимы.
– Охимушка! Постыдись сына! Уж будто бы тебя жизнь не научила терпению? За терпенье Бог даст спасенье. На такое дело плакаться – токмо Бога гневить: не на гульбу еду, а на государево дело.
– Слышала я это!.. Терпенья уж не хватает. Государево дело не переделаешь… Когда жить-то будем?
– Глупая! Да разве это не жизнь?! На Студеное море государь-батюшка меня посылает. Пристанище там большое строят. А я наряд – пушки буду ставить, чтоб вороги к тому пристанищу не подходили. И парнишку мне позволили с собою взять… Надо радоваться тому, а ты ревешь. Не бойсь! Уж не раз я и под святыми леживал, да жив!.. В Ивангороде в те поры едва не сгиб, да вот видишь… Чему быть – того не миновать… А к дорогам, матушка, к нашим я пообвык. И не один я поеду, а несколько сот туда воинских людей едет.
– Так-то оно так! А я все сиди и жди, да около печки возись…
– Милая моя Охимушка! Ты ли это? Цветик мой аленький! Неужели и ты теперь будешь ныть?! Не узнаю я тебя… До сих пор ты бодрость не теряла. Неужели же теперь с ней расстанешься?!
Спокойные, ласковые слова благотворно подействовали на Охиму. Она перестала плакать. Андрей подошел к ней, поцеловал.
– Всякому свое счастье, Охимушка! Роптать да завистничать – стало быть, в сторонке от жизни быть. Есть люди, которые до смерти дома сидмя сидят и ничего не видели, и ничего не знают… По-моему, это несчастные люди. А я, слава Богу, побродил по бел-свету! Много всего видел и божий мир почитаю по-настоящему. Велик он, а мы в замкнутости ничтожны, мелки. Смирись, Охимушка! Не в спанье и не в лежании человек божиим созданием является. Вот и сын наш Митрий Андреевич должен познать мир божий, и не в норе его познавать, а в морях, пустынях, в бурях и страстях небесных.
Беседа кончилась тем, что Охима стала усердно собирать в дорогу мужа и сына.
А через двое суток они уже тронулись с воинским караваном в путь.
Миновали Троицкую лавру, Александрову слободу, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль и наконец приблизились в Вологде. Дорога все время шла лесами, большею частью хвойными. Гигантские сосны в проселках закрывали небо. Красноватый сумрак окружал повозки. Дубы, березы, ольха тоже попадались на пути.
В Вологду приехали утром на рассвете.
День обещал быть сереньким, холодным. Ветерок, налетая со стороны реки, поднимал пыль.
При первом взгляде на город Андрей думал, что это село. Он снял шапку и помолился на видневшуюся вблизи церковь. То же сделал и его сын.
В утренней тишине загудели вологодские колокола, встречая московский караван, о прибытии которого были заранее уведомлены городские власти.
Проезжая по городу, Андрей обратил внимание на множество каменщиков, складывавших высокие каменные стены, и землекопов, рывших около стен глубокие рвы.
Крыши бревенчатых домов, разбросанных в беспорядке по берегам реки Вологды, были, как и в Москве, деревянные.
Ночевать Андрея с сыном позвали монахи к себе в монастырь. При свете огонька плошки с горящим маслом иноки полушепотом рассказывали о посещении Вологды царем Иваном Васильевичем. О том, как он велел воздвигнуть каменные стены в городе и церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в честь дня своего ангела.
Три раза побывал царь Иван Васильевич в Вологде. Он же велел построить и церковь Святого Феодора Стратилата в честь дня ангела царевича Федора. Монахи рассказали о каких-то глубоких подземных палатах, которые царь будто бы предназначал для хранения казны и царских драгоценностей.
– Сам батюшка-государь по ночам ходил со своими телохранителями в те места. При свете фонаря он смотрел, как мужики и стрельцы рыли подземелье… Болтал народ, будто задумал государь престольный град перевести из Москвы в Вологду, будто хочет он оградить свой престол от нападений крымцев. К тому и стены те ныне возводят… И впрямь – крымские ханы не дают Москве покоя. А Вологда стоит подале, да и лесов много по дорогам к ней… Уж и не ведаем: так ли то, что в Вологде царь будет жить… Боязно! Не слыхали ли вы, добрые люди, чего? Может ли то быть? Нам бы того не хотелось…
Говоря это полушепотом и поминутно озираясь по сторонам, монахи испуганно тряслись; лица их, напряженно вытянутые, в свете тусклого огонька были желты, казались восковыми. Монахи подставили ладони, чтобы лучше слышать, что ответит Андрей.
– Одному Господу Богу известно, что и как решит государь. Не наше то дело, – уклончиво ответил он, – но думается мне: ни на какой город не променяет батюшка Иван Васильевич свою древнюю столицу. Быть того не может. Москву жгли, разоряли, но она все же останется на веки вечные Москвой, матерью всех городов. Вот что я вам, святые отцы, могу молвить на ваши слова… А коли государь изъявил желание укрепить да обогатить Вологду, то к тому есть иная причина, как думается мне – малому, простому человеку. Ваш город Божьей милостью поставлен на великом, славном пути к Студеному морю, а это знак! Стало быть, тут и торг большущий будет, не как ныне… и всяческая благодать осенит ваши посады, ваши храмы, ваши гостиные дворы.
Монахи, успокоенные, довольные ответом Андрея, перастали его расспрашивать.
Рано утро московский караван снова тронулся в путь. Воздух огласили рожки стрелецких десятников и голоса начальных людей. Скрип колес, фырканье и ржанье коней – весь этот шум поднял на ноги население Вологды. Опять загудели колокола и умолкли, лишь когда московские гости совсем скрылись из глаз.
Вологодские жители – тихие богомольцы, кроткие обыватели, честные посадские миряне – уже попривыкли к наездам разных людей и из многих мест, немало видели и проезжих чужеземцев; однако настойчивость царя, торопившего воеводу с постройкой крепости и домов для иноземцев, пугала, заставляла задумываться: к добру ли то? Нрав у царя, понаслышке, суровый, непостоянный, недолог час и в опалу попасть.
Стоя у рогатки и провожая взглядом вооруженные толпы стрельцов и работных, даточных людей по пути к Студеному морю, они вздыхали, крестились: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!»
Расходясь, говорили:
– Грозен батюшка-царь, грозен, да и народ Богом не забыт – свое возьмет… Чего уж прежде времени тужить?! Вологда не первый год стоит. Были владыки – их нет, а матушка-Вологда здравствует, да и будет здравствовать и впредь. Бояться нечего ей! Многие московские дворяне приезжали по службе в Вологду, да и денег немало займовали у вологжан, и по сию пору иные из них не отдают… Бог их прости! Известно: «Заемщик на коне ездит, плательщик – на свинье».
После этих разговоров легче становилось.
Тем временем московские воинские люди с обозом скрылись в лесу.
Андрей сказал своему сыну:
– Хотел бы я, чтобы ты на море плавал, на государевых кораблях… Силы наберешься там и мудрости. Благодарю Создателя, что сподобил Он меня посмотреть на просторы морские и города в чужедальних краях… Много всего видел я и понял, что мал и неразумен я и что толку никакого от того не бывает, коли сидмя сидишь на одном месте. Не для того нам глаза, уши, руки да ноги даны, чтобы на куту дремать. Будь смелее! Смелого жеребца и волк не берет.
Дмитрий слушал отца со вниманием. Но тут же он вспомнил мать, которая говорила другое. Напротив, – она учила сына «сидеть на месте и никуда не уходить из Москвы». Парень невольно улыбнулся: мать говорит одно, отец – другое. Вот и пойми!
Сидевший в одной повозке с Андреем странник, назвавший себя Гаврилой, поддакнул ему.
– Дело говоришь, братец! – сказал он. – В Новгороде подобные мальцы хоть куда. Вот теперь едем мы к Студеному морю. А кто первый сел на его берегах? Новгородцы! Много-премного лет тому назад, – может, сотни две, – пришли новгородцы в нашу холодную сторону. Заселили морские берега. Там сызмала ходят в дальние края, тем славен и богат Господин Великий Новгород! Народ там сидмя не сидит. Батюшка-государь то понял… как ни будь сильна Москва, а коли у нее не будет Студеного моря да людей-непосед – захиреет она, в тоске истомится, засушит ее домоседство…
Андрей стал расспрашивать Гавриила о тех краях, куда теперь путь держали.
– Река будет там – Двина, уходит она в то Студеное море. А есть и другая ж река – Печора, – начал свой рассказ Гавриил. – И живет там зверь всякий и птицы и рыбы диковинные… Болтают, будто бы даже из туч на землю падают векши и оленцы малые… Как я сам того не видывал, а старики сказывают. Всего там много. Новгородцы богатый торг ведут с теми местами. Одно плохо стало: московские люди у новгородцев доход отбивают. Дьяки из Москвы понаехали. Теснят новгородцев… Ну да вот будешь там, голова, сам увидишь! А мне и говорить о том не след. Ни к чему мне это. Бог с ними, со всеми! «Куревушка-курева закрутила-замела все дорожки и пути – нельзя к милому пройти!..»
Гавриил махнул рукой:
– Спаси Бог! Не мое то дело, сизый голубок.
Большую часть пути ехали молча – не хотелось говорить, да и дороги мешали, так были ухабисты, так искривлены выпиравшими из земли корневищами, что тут уж не до разговоров. К тому же бурная погода мешала, поднимая в верхушках сосен оглушительный грохот и вой, голосов не слышно.
Иногда, выбравшись из леса, караван двигался вдоль берега Двины. Широкая, многоводная река. В верховьях берега ее лесистые и болотистые, а чем дальше она уходила на север, к морю, тем однообразнее, пустыннее становились они. Изрытые оврагами и глубокими глинистыми ущельями, они были серы, бесцветны, глядели мрачно, как в зеркале отражая хмурое, сумрачное небо.
Устало передвигали ногами впряженные в телеги и арбы татарские лошаденки, смиренно подчиняясь кнуту и ругани возчиков-татар. Нелегко было по болотистому бездорожью тянуть телеги, нагруженные пушками, и громадные корзины с ядрами.
Всадники тоже приуныли, сгорбившись, понуро сидя на конях. За спиной у них болтались на привязи пищали, а у пояса – сабли, шестоперы, кистени.
Воевода, князь Звенигородский, сидел в крытой кожею повозке. Ее сопровождали на больших косматых лошадях стремянные стрельцы, охраняя воеводу.
На открытом месте стало холоднее и ветер был пронзительнее.
– Чего уж теперь ждать? Скоро зима, – как бы про себя сказал Андрей, накидывая медвежий тулуп на плечи сына.
Встрепенулся и Гавриил.
– То-то и есть, сизый голубок! – громко вздохнул он. – Ближе к Студеному морю, тем холоднее станет да и темнее. Прощай, день, в гости к ночи едем! А там, придет время – солнце токмо в полдень будет являться, «зарастай, тоска-кручина, травой-муравою!».
Андрей с грустью вздохнул:
– Слыхал и я, что тьма там зимою, да не верится как-то?
– Чудной народ! – усмехнулся Гавриил. – Воеводе нашему тоже сначала не верилось, а потом привык, будто так и надо. Люблю к реву моря прислушиваться, словно сотни демонов в сарафанах по дну моря скачут, гогочут, озоруют… Весело! Душа радуется, что загнал их Господь в пучину морскую.
– Господи, спаси и помилуй! – сняв шапку, перекрестился Андрей. – А ты, старче Гавриил, не пугай! Митька, молись, – тьфу его!
Паренек тоже скинул шапку и набожно перекрестился.
Еще две ночи провели в дороге.
Становилось все ветреннее и холоднее. Теперь было уже недалеко до Студеного моря. Гавриил сказал Андрею, что не более двухсот верст.
Еще пустыннее, еще суровее выглядели окрестности: глина да песок и бледная, чахлая растительность.
– Незавидное житье, видимо, здесь, – невольно произнес Андрей.
– Мы привыкли, сизый голубок. Господь так сотворил мир, что всякий человек свое место находит, а коли он разумом не обижен, может и счастье свое сыскать. Где живет тюлень – там не живет барс. Посади помора в Москву – затоскует. А почему? Увидишь после… Студеное море – дар великий, небесный дар, море – наша душа, совесть, оно – вечное царство белой лебеди.
И немного подумав, Гавриил сказал:
– Гляди на Соловецкие острова: месяцев восемь, почитай, окутаны лютой мутью… Там люди и во тьме, и в одиночестве живут… Ни входу, ни выходу… Море бушует, ветры воют, леденят кровь… Волны – будто свету конец, страшные, громадные… А то ледяные припаи полезут, облапят острова кругом, этак верст на пятьдесят, стиснут с обеих сторон, словно раздавить их хотят.
Гавриил с улыбкой махнул рукой:
– Что уж тут! Страх! И как ты думаешь? Монахи гордятся! Митрополита Филиппа они родной земле дали. Любят свой монастырь. Насильно их не сгонишь с той земли. Стало быть, радость есть, благодать Божия. Вот уж истинно: не место красит человека, а человек – место! Всему украшение человек. Недаром Бог создал его по образу и подобию своему. Да и недаром человек покоряет ледяное царство… Гордость творца, могущество веры в нем… Понимай! И не жалей помора! А в Москве олени учены, да рога спилены. У нас народ свободней: охотники, рыболовы, мореходы, а у них лямки строчены, тобурки[6]6
Обувь.
[Закрыть] точены. То-то, не вздыхай о нас. Вздыхай о Москве, сизый голубок! Боюсь я Москвы! Государь запугал. Но теперь ему спасибо. Прозрел.
Вдруг Гавриил спохватился и замолчал.
– Спаси, Господи! Наложи на уста мои узы молчания! Болтун я. Надоедливый. Много говорить люблю. Отроду такой. – И как бы переводя разговор на другое, сказал: – Поморы говорят: «Море – наше поле, даст Бог рыбу, даст Бог и хлеб».
Короткие дни стали сменяться бесконечно длинными ночами, когда, наконец, московский караван подошел к Холмогорам, на левом берегу Северной Двины, недалеко от того места, где впадает в нее Пинега.
Гавриил пояснил, что сто двенадцать верст отделяют Холмогоры от Студеного моря.
Едва перевалило за полдень, а солнце уже скрылось за горизонтом и в небе выступили звезды.
Все же Андрей разглядел окружавшие Холмогоры холмы и раскинутые на них деревеньки с высокими колокольнями. Сердце его радостно забилось при виде человеческих жилищ: длинный, утомительный путь по лесам и пустынным пространствам от Москвы до Холмогор утомил.
Он и его сын сняли шапки и помолились на видневшуюся вблизи церковь.
– Оттерпимся, сынок, и мы людьми станем… Дело – не коромысло, плеч не отдавит, – говорил Андрей, вылезая из повозки. – Привыкай, паренек.
Подошел дьяк, сопровождавший воеводу, – Леонтий Вяткин, которого воевода полюбил за бойкий, веселый нрав. Шлепнул Андрея по плечу:
– Отдохнем здесь, чарочку выпьем, да и к морю-окияну… Любопытен я, грешный человек. Далее Александровой слободы нигде не бывал… Подьячие пошли избы нам готовить… Обожди малость… Ночлег найдется.
Сказал и быстро отошел в сторону, окликнув стрелецкого сотника Семена Черного.
До Андрея донеслись его слова:
– Скоро, скоро, Семен!.. Воеводу на ночлег устраивают… Не ты один тут…
Невдалеке, в ожидании ночлега, столпились стрельцы, возницы.
Надвигался темный северный вечер.
XI
Не нежна горлица порхает,
Летя к дружочку своему,
А красна девица вздыхает
О милом, сидя в терему…
Анна поет, а у самой слезы.
И думает она, и придумать ничего не может; и будто сожалеет: зачем повстречались с Игнатием и зачем сходились они тайком и обнимались! И жаль того времени; кажется, что это уже никогда не повторится, и все случившееся, пережитое оборвалось, как неоконченная сказка. Но неужели это так? По ночам не спится! Анна спускается с постели на пол и, став на колени, молится, а о чем – сама не знает. Пускай будет так, как Богу угодно; одного хочется, одно желание сильнее всего, даже сердце сжимается от боли: чтоб он, Игнатий, благополучно совершил свое странствование, чтоб жив и здоров остался.
Впрочем… Довольно ли этого?! Может ли она совсем не видеть его? Будет ли она в силах отказаться от новых встреч с ним? Нет!
Думается ей, она меньше страдала, когда отец ее лежал раненый в Ярославле. Тогда она не так тосковала. Грешно сознаваться, но… От Бога все равно не утаишь ничего. Да и не радуют ее отцовские и материнские ласки теперь так, как радовали его ласки в ту пору. Почему? Разве мать и отец не дороже ей всего на свете? Разве она не убивается, когда хворают они? А мысли об их смерти она даже и допустить не может.
Отец и мать ей дороже всего, однако… нет с ними той особенной радости, нет того счастья, нет того скрытого, волнующего чувства, которое приводит ее в сладкую дрожь при встречах с Игнатием. И мыслей тех, горячих, красивых, в голове теперь уж не бывает, как тогда… в те дни и вечера…
Медвежонок уныло смотрит маленькими черными глазками из своего убежища… Уж не так часто теперь приходит к нему Анна. Ее не забавляет ублажать бедового зверюгу.
Отец и тот заметил это и сказал:
– Забыла ты его… Совсем забыла, Аннушка! Аль тебе он уж и не люб стал? Обождем малость да и в лес его пустим… Согласна ли?
– Нет, не согласна я, батюшка… Буду ухаживать за ним пуще прежнего, – сказала она испуганно.
Убрать медвежонка? Ну а когда он приедет да увидит, что нет его, нет и конуры и что уже выходить во двор, как прежде, ей незачем? Тогда как?!
Поняла Анна, что не теряет надежды, тайно ждет Игнатия, что она вовсе не отказалась от него и не может отказаться, что он стал ей дороже жизни. Без него что за жизнь?!
Однажды в большой праздник отец и мать взяли ее с собой в Кремль, в собор Успенья, к церковной службе. Второй раз в жизни ей довелось побывать в нем. Службу совершал сам митрополит. Видела Анна много бояр, князей, ратных людей.
Ей почему-то особенно грустно стало в этой нарядной, вельможной толпе. Стояла она по левую сторону, на отгороженном для боярынь, боярышен и посадских женщин месте. Все ей казались счастливыми, и от этого еще глубже чувствовалось свое одиночество, зашевелились в голове и другие мысли, жгучие, острые, заставившие ее тяжело вздохнуть. Сколько нарядных красавиц в драгоценных кокошниках видела она около себя! А почему он, Игнатий, не может вдруг встретить и полюбить одну из них?! Молодецкое сердце изменчиво. Старая ключница постоянно твердит ей: «Молодой дружок – что весенний ледок!»
Сквозь узкие окна соборного купола, с вышины, падают косые лучи на женскую половину богомольцев, расцвечивая радугой жемчуг и камение головных украшений и одежд боярынь и боярышен.
Высокие столбы и громадные, тяжелые своды собора, как бы покоящиеся на этих столбах, теперь давили, пугали робко ежившуюся девушку.
– Скорее бы кончалась служба!.. Прости меня, Господи, – едва слышно шептала она про себя.
Со стен большими, строгими глазами глядят на нее лики святых, и она старается не смотреть на них.
Переводит взгляд на стоящее на особом помосте, сооруженное некогда по приказанию царя Ивана деревянное кресло, украшенное тонким кружевом затейливой резьбы. Вся Москва ходила любоваться на искусную работу мастеров, создавших хитроумное сплетение косиц, зубчиков, городков, ложек, желобков, звезд, дынь, грибков, репок…
Рассматривает Анна все это с нарочитым вниманием, чтобы рассеяться, чтобы отогнать от себя мрачные мысли, затем она поднимает взгляд кверху, смотрит на изображение седого Бога, окруженного ангелами.
Опускает взгляд на иконостас перед собою, на иконы удельных княжеств, Новгорода, Смоленска, Владимира. Отец говорил, что царь Иван Васильевич, разгневавшись на уделы, увозил из них иконы. Те иконы он велел вставить в иконостас Успеньева собора, как знак единодержавия…
И вот, когда она осматривала иконостас, стараясь забыться, – среди богомольцев началось волнение. Вдруг кто-то неистово крикнул:
– Царевич Иван занемог!
Сначала все притихли, Богослужение прервалось. И вдруг с амвона раздался дрожащий голос митрополита:
– Чада мои, сотряслось великое горе: тяжело занемог царевич Иоанн Иоаннович! Станем на колени, вознесем молитву о его здравии.
Крики и причитания огласили храм многоголосым воплем. Затем началась суматоха. Богомольцы бросились к выходу, давя друг друга…
Голоса митрополита, останавливавшего народ, не было слышно среди шума людей, столпившихся у выхода из собора.
Никита Годунов пробовал стать у двери, но его оттиснули в сторону; на глазах у него блестели слезы. От тяжело вздохнул:
– Худо, чадо мое, худо… Чую беду!
* * *
В узкую щель двери государевой палаты в Александровой слободе, затаив дыхание от страха, оцепенело глядели мамки царевны Елены Ивановны. Царь стоял на коленях около корчившегося на полу окровавленного царевича Ивана.
– Обожди!.. Не надо! – теребя за плечо сына, чужим, визгливым голосом восклицал царь. – Говори!.. Говори!..
– Отец… Государь… Помилуй!.. – простонал царевич.
Иван Васильевич начал неистово креститься на иконы.
– Помилуй! Помилуй! Помилуй!.. – скороговоркой, захлебываясь слезами, громко произносил он, а затем, приникнув к лицу сына, дрожащим голосом, умоляюще заговорил: – Нет, нет! Я – окаянный!.. Ты… ты… прости меня! Иван!.. Иван!.. Очнись!.. Жив ты? Жив?
Вскочив с пола и сотрясаясь от ужаса, царь попятился своею громадною, сутулой спиной к стене. Широко раскрытые глаза его впились в струйки крови, сочившиеся из виска царевича.
– Не надо! Не надо!.. Не смей! Господи, что же это такое?! Иван! Иван! Поднимись! Горе! Боже мой, горе!..
Оглядываясь в растерянности по сторонам, царь подхватил под мышки царевича, с силой поднял его, стараясь усадить в кресло. Налитое кровью от натуги, его лицо осенила ласковая улыбка.
– Ваня! Садись, садись! Милый… Прости!
Потный, в слезах, со слипшимися на лбу волосами, царь, склонившись над сыном, покрывал поцелуями его залитое теплой кровью лицо, прижимая к его виску ладонь.
– Сын мой! Иван! Я не хотел того… Не хотел… Я… Умру я… Ты будешь!.. Люблю тебя… Анастасия говорила… Она!.. Господи… Анастасия, я не хотел!.. Прости!
И вдруг, упав на колени, царь обхватил ноги царевича и уткнулся в них головою.
Воющим, жалобным голосом он выкрикивал какие-то непонятные слова. Окровавленными руками он сжимал свою голову, сам весь в крови, страшный, обезумевший… Одно только слово ясно разобрали мамки: «Анастасия!»
Царевич полулежал в кресле с закинутой на спину головой, с закрытыми глазами. Он не шевелился, странно неподвижный, чужой, далекий…
Иван Васильевич подвинулся вплотную к его лицу, прислушался, и страшный крик его разнесся по комнатам дворца:
– Лекаря! Лекаря! Лекаря! Умирает! Спасите!
Мамки в паническом ужасе бросились в покои царевны Елены.
Обессилевший, почти потерявший сознание, царь приблизился к двери, выходившей на рундук[7]7
Рундук – здесь: высокое крыльцо, балкон.
[Закрыть].
Ветер, бешено вырвавшийся откуда-то снизу, со стороны озера, вместе с вихрем ледяного дождя, обдал холодом и пронизывающей тело сыростью.
Царь, прижавшись к холодной, склизкой стене, уцепился за каменные перила рундука.
Ночь! Мрак! Небытие!
У самых ног в диком смятении стонут деревья.
Смерть!.. Вот она!.. Пришла опять!.. Опять! Опять!
Она только что глядела на царя сквозь потухающий взор царевича: только сейчас, сию минуту, он всем существом своим ощутил ее – ледяную, непреклонную, страшную…
«Как жалок ты, царь московский!..» – слышится Ивану Васильевичу со всех сторон.
«Снова смерть напоминает тебе о твоем бессилии, о твоем ничтожестве!»
Трясясь от охватившего его ужаса, царь шепчет:
– Иван!.. Ванюшка… Пощади отца!.. Спаси нас, Господи! О-о-х!
Обессилевший от горя, от страха, царь медленно сползает вниз, на мокрый, холодный пол рундука. И кажется ему, что это могила, – он медленно, против своей воли, уходит в нее вслед за сыном…
– Спасите!.. – хочет крикнуть он – и не может… черная, шумная муть бушующей Вселенной всасывает его в себя…
Только перед рассветом царедворцы нашли лежащего без сознания царя Ивана на рундуке.
* * *
Четыре дня прожил царевич Иван. Четыре дня лекаря и знахари суетились около его ложа. Поили его овечьим молоком; разбавленной в воде медвежьей желчью и водой яичной с сахаром. Знахари повесили на шею царевичу ладанку с тертым хреном и чесноком.
А когда царевич терял сознание, зажигали две восковые свечи и одной из них «подкуривали под нос».
Юродивый Большой Колпак неотлучно находился в горнице, где лежал царевич Иван. Сам царь хотел этого.
На голове юродивого дрожал большой железный колпак, все тело обвито было тяжелыми веригами. Полунагой, седобородый, он стоял в темном углу и, обратив свои большие бесцветные глаза к небу, повторял бесконечно одно и то же:
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Земля, ты мати наша, не пей крови, не губи души! Железо, брат мой, выйми из тела недуг и от сердца щекоту! Всегда, ныне и присно.
Царевичу становилось все хуже и хуже.
Тогда знахари насильно оттолкнули иноземных лекарей от постели царевича и, обнажив его догола, натерли горячее, как огонь, тело его теплым тестом.
А в соседней моленной палате монахи день и ночь служили каноны святым угодникам. Тут же находился и сам царь.
Стоя на коленях в черной монашеской рясе, он посиневшими губами говорил:
«Славлю Тебя всем сердцем моим, поклоняюсь пред святым храмом Твоим!»
«И славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою!»
«В день, когда я взываю к Тебе, услышь меня и всели в душу мою бодрость!»
«Прославят Тебя все люди, когда увидят благость Твою!»
«Если я пойду посреди напастей – Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя!»
«Да будет милость Твоя ко мне, окаянному, не отнимай у меня чадо мое возлюбленное, единокровное!.. Не отнимай!..»
Царь замолчал. Вдруг монахи унылыми голосами запели:
Бдите и молитеся,
Не весте бо, когда время будет,
Кого час наступит…
Царевич перестал дышать.
Стояла красноватая мгла в палате от благовонных масел, воскуряемых перед гробом царевича.
Глядя на душевные страдания царя, монахи пели с еще большей скорбью в голосе, еще более надрывно, пропитывая слезами каждое слово.
И еще четыре дня и четыре ночи царь Иван не отходил от гроба, не ел и не пил ничего, не смыкал ни на минуту глаз.
По площадям и около храмов Александровой слободы днем сенные девушки царевны Елены по приказанию царя оделяли нищих грошиками, кормили голубей освященным зерном, дабы птица небесная, взлетая ввысь, доносила до неба печаль государя и его мольбы о прощении.
Мрачные, темные облака в небе слагались, проплывая над слободою, в громадные, черные страшилища.
Ночью на площадях беспокойно метались на ветру огни костров, а около них молчаливо обогревалась конная стража, расставленная Бельским по всем площадям, заставам и окрестным дорогам.
Обыватели слободы в смертельном ужасе забились в свои углы, боясь зажигать даже лучину в каморках, боясь и думать о том, что случилось. Страшно было произнести даже самому себе, что «царь убил своего сына Ивана», а это уже каким-то путем, какими-то непонятными звуками, дошло до слуха всех слобожан.
Стража неизвестно по какой причине ожесточилась, озверела, гоняясь за ни в чем не повинными людьми, стегая их нагайками, хватая их на дорогах и бросая в тюрьму. За что?! Получалось: будто царевы слуги вымещают зло на народе, мстят народу за смерть царевича.
Страшно стало и в церковь ходить; между тем унылый протяжный гул колоколов с тоскливой настойчивостью звал слобожан к службе молиться об упокоении души несчастного царевича.
Сидишь дома и думаешь: не почли бы и то за преступление, что ты спрятался и не идешь в храм? А как пойдешь, когда те же царские слуги, словно на воров, нападают, бьют. И конечно, – думает слобожанин, – это не иначе, как по наущению самого грозного царя. Таков уж обычай появился у людей: что в слободе ни делается – плохое ли, хорошее ли, – все исходит от самого царя, все от него, от батюшки. И то правда, насмотрелись за эти двадцать лет такого, чего ни в сказке сказать, ни пером написать: «Дай, Господи, и детям нашим того не видеть!»
Вздыхает обыватель, места себе не находит: «Как же это так, Господи, спаси и помилуй: государь, царь, да своего родного сына, царевича, порешил?! Того и в черном народе-то слыхано не было. Уж не лишился ли рассудка грозный царь?!»
Мысли клокочут, бушуют в головах, обжигая души, приводя их в неистовое томление, охватывая какою-то внутреннею жаждою… Невольно человека тянет к ковшу, – но сколько ни пей, а все горит внутри, не перестает сосать горючая тоска.
В беззвучной темени ночами из-за туч выглядывает печальный лик луны; на все ложится ее таинственное серебристое сияние. И кажется: башни государева дворца застыли с раскрытыми от ужаса слюдяными глазницами.
На рассвете мирно бредут монахи в монастырь, низко опустив головы, равнодушные к остервенелому лаю подворотных псов.
В лощине, недалеко от слободы, среди диких лесных зарослей в этот час начинает поблескивать своею поверхностью, похожей на вороненую сталь, большое круглое озеро, на котором некогда в широкой, богато убранной галере совершал свои прогулки с царевичами Иваном и Федором чадолюбивый государь…
Оно пустынно и покрыто клочьями разорванной мглы тумана, обволакивающей лесные озера… Медленно выползает она из соседнего громадного болота, вдавившегося в вековой бор. Волки любят это место, и нередко можно слышать их леденящий душу вой… Они осмелели в последние дни, подходят к самым дворам на слободе. Недавно волчица уволокла в лес ребенка. Мать, на глазах которой случилось это несчастье, лишилась ума.
Строгие, хмурые конные ратники объезжают узкие улочки слободы, пристально приглядываются к каждому, кто по какой-либо надобности выходит из дома. Бабы, завидев их, бросают бадьи у журавлей и бегут, чтобы спрятаться во дворе. Мужики ворчат на баб, а сами топчутся на месте в сенях, не решаясь выйти на улицу.
Разговор в избах не вяжется. О чем говорить?! О злосчастной кончине царевича? Что о том говорить – дело царское. О своей судьбе?.. Один Бог ведает, что дальше будет. Хорошего ничего не предвидится, а плохого – так и жди! Народ истомился, разбегается из деревень… ропот повсеместный против помещиков-дворян. Об этом тоже много не поговоришь. Лучше помалкивать.
«Эх-эх, и зачем такое несчастье случилось в слободе! И чего в такой лютый осенний холод сюда пожаловал со своей семьей государь?!» – вздыхали придавленные царевыми строгостями жители Александровой слободы.
XII
После погребения царевича Иван Васильевич долгое время не появлялся на людях. Суды и пересуды о смерти царевича Ивана не прекращались и после похорон. Говорили по-разному. Одно особенно было принято на веру. Это то, что при убиении царем сына Ивана в палате находился Борис Годунов. Он хотел будто бы защитить царевича, но Иван Васильевич в страшном гневе ударил Годунова несколько раз острием посоха, нанеся ему глубокие раны в бока. Этому можно было поверить. После несчастия с царевичем Борис Годунов долгое время не выходил из своего дома по болезни.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































