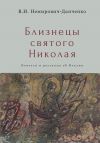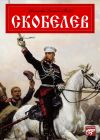Текст книги "Исповедь женщины"

Автор книги: Василий Немирович-Данченко
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
С Окромовым было весело… Он, по крайней мере, в то время был очень живым человеком. О чем бы не заговорили, он всему умел придать яркие краски, отыскивал в самых сухих, по-видимому, предметах незаметные пульсы жизни. Этот человек, чем больше я в него всматривалась, чем внимательнее вслушивалась в его рассказы, оказывался таким контрастом моему мужу во всем, во всем! Говоря, он ласкал своим взглядом, голос его приобретал удивительную задушевность, модуляции его были так приятны, что я иногда, откидывалась на спинку кресла, закрывала глаза и внимала только им, не видя его самого. «Правда чувства» была в нем развита удивительно. Самый юмор его, а он им владел вполне, носил оттенок какого-то добродушия… И этот голос! Я думаю, что он таблицу умножения читал так, что его можно было заслушаться. Есть такие счастливые голоса, у некоторых певцов они. Глуп, не образован, груб, и не понимает, что поет, а в каждом звуке так и слышится душа помимо его. Окромов соединял с этим чуткую душу. Невольно в этот день мне не раз приходило в голову, отчего я не встретилась с ним раньше, чем с моим мужем. Может быть, тогда бы вся жизнь моя сложилась иначе. Он прав, что я экзотическая. Мне, действительно, для моего счастья нужны были уход и теплота. Ледяной ветер убивал меня. Я думаю, что в тот первый год моего замужества, в эту сырую петербургскую осень я в первый раз получила зародыш чахотки, от которой теперь так медленно и скучно умираю здесь одинокая…
Вечером пришел муж, усталый и раздражительный. Увидев Окромова, он ему обрадовался. Они ушли в кабинет, пока я возилась с чаем. Все время они проговорили обо мне, как мне рассказывал потом мой султан, и, выйдя в столовую, он пристально начал в меня всматриваться. Даже голос его – этот звучный, но холодный, стальной голос, как я называла, стал нежнее.
– Ты что, Анна Александровна, дурно себя чувствуешь?
– Нет, почему ты спросил меня?
– Так, вообще… Твое здоровье как?
– Сегодня не хуже, чем все эти дни, все это время.
– Вот Окромов находит, что ты очень изменилась. Я этого не замечаю. Когда живешь каждый день с человеком, перемены в нем как-то сливаются, становятся неуловимыми. Ты, пожалуйста, береги себя. Я страшно занят все это время, – обратился он к Окромову, – ты знаешь ведь у меня была с Фишером, с веймарским профессором, такая схватка. Ну, я заставил его все-таки замолчать. Он отбивался всеми способами. Надо ему отдать справедливость, он мне ужасно много крови испортил, представь себе…
И он пустился в подробности своих полемических баталий с задорным ученым. Я была бы забыта, если бы Окромов, воспользовавшись тем, что муж замолчал на минуту, не обратился ко мне.
– А вы когда в Ялту или в Крым вообще, Анна Александровна?
– Не знаю, спросите у него.
– В этом году едва ли удастся. В Германию, пожалуй, придется съездить.
– Нет. Твоей жене, по-моему, необходим юг, именно юг. И чем дальше, тем лучше. Я бы даже на твоем месте повез ее в Алжир или в Египет.
– Ну вот еще. У меня на это лето свои планы. Я хочу поработать у немцев. Там за последнее время в нашей области знаний замечается такой прогресс.
Окромов удивленно взглянул на него, потом перевел глаза на меня, стараясь незаметно сделать это, и имей он дело с мужчинами, это бы ему удалось. С нами труднее. Мы, особенно такие, как я, нервные и страдающие, делаемся удивительно чуткими и наблюдательными. Я во взгляде нашего гостя прочла: «Что же это он, Ларионов, все о себе да о себе?»
– Что же вы делали все это время? – обратился он ко мне.
Я начала лихорадочно быстро, чтобы загладить дурное впечатление, произведенное на него мужем, рассказывать ему мои попытки найти себе какое-нибудь дело. Даже преувеличивала их смешную сторону, сама смеялась им, но, к моему удивлению, Окромов вовсе не улыбался и все время, слушая меня, смотрел вниз. Только когда я дошла до пятидесятилетнего херувима, поющего куплеты для аржана, Окромов усмехнулся, а над «сценою страсти» даже расхохотался, но лицо его тотчас же опять стало серьезно и даже печально.
– Разумеется, вам нужно дело… И большое дело, чтобы всю вас захватило, – невесело проговорил он, бросая взгляд на мужа.
– Вот, вот, что я и говорю, – подтвердил и он. – Я то и дело советую ей читать, читать и читать.
– Э! Книги не наполняют женской жизни, мой друг. Книги – это антракт для женщины.
– Ну, тогда я уж не знаю. Скажи, пожалуйста, знаком ты с произведениями англичанина Мориссона, о которых я вчера прочел в известиях Берлинской Академии наук?..
Окромова передернуло. Но он живо оправился и ответил мужу самым обстоятельным образом.
– Я тоже считал это пустяками! – задумчиво поговорил последний, выслушав его.
Воспользовавшись этим, Окромов опять заговорил со мною, начал мне рассказывать об Одессе, где он жил в это время, о калейдоскопическом населении этого города. С большим комизмом схватывал особенности греков, евреев и итальянцев, поселившихся там, пустился даже в скандальную хронику черноморской столицы, в мелочи, заставлял меня не раз хохотать, забывать даже, что передо мною, с другой стороны, сидит, не улыбаясь, тень Банко[5]5
Банко – персонаж пьесы Уильяма Шекспира «Макбет».
[Закрыть] – мой супруг, с лица которого не сходило снисходительное выражение.
– Знаешь, что, заговорил он вдруг, обращаясь к Окромову, – ты незаменим для женщин. Удивительный мастер! Вот бы, Анна Александровна, ему быть твоим мужем.
Я даже побледнела, точно от удара в сердце.
Окромов вздрогнул, с недоумением посмотрел на мужа моего, но тот уже думал, о чем-то постороннем, по своему обыкновению постукивая пальцами о стол и ногой об пол… Окромов еще раз перевел взгляд на меня и, заметив мою бледность, вспыхнул, взялся за шляпу и стал прощаться.
– Я бы тебе советовал беречь жену, – сказал он Ларионову в передней, думая, что я не слышу.
– Да, да, – как-то безразлично ответил этот, запирая сам за ним двери.
Посторонний видел и замечал то, что для него, близкого мне человека, проходило бесследно. Эта мысль меня приводила в отчаяние!
Я, не ожидая мужа, пошла к себе в спальню. Теперь, в эту минуту, его появление было бы для меня даже неприятно. Но я напрасно боялась. Я скоро услышала его шаги в кабинете, шум подвигавшегося к столу кресла и шорох книг… Он занялся – и сегодня я его, разумеется, не увижу. Чисто женский инстинкт сказал мне: под влиянием разговора с Окромовым, я бы не хотела, чтобы муж зашел сюда, но и отсутствие его оскорбляло меня тоже. Я, кстати, вспомнила удивление гостя по поводу перемены, совершившийся во мне, и, взяв свечу, подошла к зеркалу. Я стала внимательно всматриваться в себя: глаза ввалились несколько глубже и горели ярче прежнего, я бы сказала даже лихорадочно. Щеки тоже впали, и рот выдвинулся вперед. Вокруг него лег какой-то синий оттенок, резче стали очертания носа. Я похудела – это ясно: похудели и плечи, и грудь. Очевидно, вся эта жизнь была для меня отравой. Нет, во что бы то ни стало, но я вырвусь, уйду от сюда. Как? Куда? Я все-таки еще любила мужа, мне казалось страшным оставить его. Жаль было даже этого угла.
Я вдела ноги в туфли и начала бесшумно ходить по ковру моей спальни, спустив фитиль в лампе и прикрыв огонь абажуром.
Весь этот год, начавшийся так хорошо, проносился передо мною, с его обидами и разочарованиями, бесплодными попытками, ничегонеделанием, с этими безмолвными, томительными днями, бессонными ночами, со слезами, пролитыми тайком, с неопределенными порывами. Надо сказать правду, в нем мало было за последние месяцы светлых проблесков, зато тени ложились широко и густо. Муж с его наивным эгоизмом не замечал ничего. Его жизнь была, разумеется, полна. Его дело захватывало его вполне, его лекции в университете, работы дома наполняли почти каждую минуту его существования. Для редких антрактов ему оставалась я. Стоило только бросить платок мне, чтобы я явилась с улыбкой на лице, с радостным волнением в сердце к его услугам. Он не видел моих томлений, не замечал этого будничного мученичества. Его не поражало то, что по целым дням я молчала, или нет – его бы поразило противное. Ему же было думать и работать лучше среди этого безмолвия. Я уже не подходила к нему сама, не просила ласки, мне страшно было этого вечного «не мешай мне, пожалуйста!» Он со своей стороны не сделал ничего, чтобы скрасить мою жизнь, примирить меня с моим положением, чтобы дать мне какое-нибудь дело. Он взял меня для себя и удовольствовался этим. Они все на вопрос о деле отвечают нам: «Не выдумать же нам для вас дела, находите сами». И в то же время запирают свое святое-святых перед нашим носом. Для них женщина – вопрос комфорта, а ее душа, ее сердце их интересует настолько же, насколько бы меня интересовала моя туфля, если бы она могла думать и ощущать… И рядом с ним, с этим наивным эгоизмом, возникал передо мною другой образ, – образ человека, легче понявшего меня издали, чем мой муж понял меня вблизи. Да!.. Какое бы это счастье было встретить Окромова раньше. Теперь, все равно, поздно и думать, значит, нечего.
Я немного устала. Вообще к этому времени чаще, чем прежде, я начинала чувствовать усталость.
Я сбросила с себя корсаж, надела пеньюар. Мне было немного холодно. За окном свистал ветер, и крупныи каплями дождь стучался в мои стекла. В камине были положены дрова, я зажгла их, положила ноги на решетку. Меня всю разом охватило теплом, и, верно, под влиянием его я заснула в глубоком и мягком кресле, в котором и до тех пор часто проводила ночи. Огонь ли, проникавший своим светом сквозь полу смежившиеся веки, жар ли камина, чувство ли покоя, охватившее меня разом, – не знаю, но мне почудилось, что я далекодалеко – в яркий и солнечный день брожу по серым скалам Симеиза, останавливаясь в мягких лощинках, заполненных цветами и зеленью. Небо голубое, чистое – эта бездна прозрачной лазури раскидывалась надо мною, и я с улыбкой, – со счастливой улыбкой следила за реявшими в нем птицами. Запах южных цветов обвивал меня всю своим фимиамом. Один уголок мне понравился особенно: тут цветы были крупнее и ароматнее, тополь над ним поднялся в высоту, почему-то среди безветрия трепеща своими чуткими нервными листами. Отсюда было видно бесконечное, в полувоздушное марево уходившее море. По нему плыли корабли – под солнцем, по голубым волнам. Плыли, казалось, лениво с негою и медлительностью. Счастливые!.. Я легла на эту полянку и загляделась в небо… Мне скоро начало казаться, что я вишу над ним, что вот-вот, еще одно мгновение, и я полечу в его таинственную глубь. От страха у меня уже начало кружить голову. «Сорвусь, сорвусь», повторяла я про себя… И все, и тополь рос вниз, и скалы опускались, а не подымались, и орлы реяли не над ними, а под ними. И ящерица зелено-золотистая, с любопытными рубиновыми глазками, казалось, зигзагами бежала по нагретому камню, точно отыскивая, куда бы и ей запрятаться, куда бы залезть, чтобы не опрокинуться все в ту же голубую бездну… Но что это? Между мною и этой бездной что-то темное. Смутное, необъяснимое на первых порах. Его контуры расплываются как туман, сливаются с окружающим воздухом. Я силюсь все-таки рассмотреть его, и мне больно от этих усилий, но туман мало-помалу сгущается, в это «что-то» середина делается темнее, точно стягивая к себе края. В темном пятне появляются краски. Очерчивается что-то! Блеснули и на меня устремились чьи-то глаза. Я хочу узнать их, но не могу… Но эта улыбка? Чья она? Боже мой, да ведь это Окромов смотрит на меня. Мне ужасно стыдно, что я лежу. Я пробую встать, и не могу. Я знаю, что я лежу на этой лощинке с открытыми глазами, он замечает, что я его вижу, но я не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой. Я хочу крикнуть, но голос точно умер во мне. Горло даже не делает усилий, и только грудь начинает болеть от натуги. Голова Окромова делается все ближе и ближе. Вот она уже смотрит мне глаза в глаза. Руки его обнимают меня, губы ищут моих, я уже совладала с собою, я могла бы отвести свои в сторону, но я не делаю этого, я, напротив, жадно раскрыла их и жду. Вот его уста коснулись моих, и точно теплом повеяло на меня от этого поцелуя… Нежно коснулись… Нежно слились с ними и не отрываются уже… и я не дышу. Мы оба не дышим, мы как-то странно вдвоем составили одно существо, с одним сердцем, которое замерло со сладостною болью. Поцелуй все жарче и жарче. Я разгораюсь в этих все теснее и теснее охватывающих меня объятиях. Он уже жжет меня, мне кажется, что он огнем меня палит всю… И от чувства боли я разом проснулась и вскочила.
Искра из камина упала мне на ногу и обожгла ее…
Я опять, отодвинув кресло, села в него. Мне стало тяжело. Знакомое удушье. Медленно забилось сердце. В горле перехватило дыхание. Тоска, какая-то убийственная тоска, точно жесткими руками давила мне шею… Неужели я люблю Окромова? Нет, этого не может быть… Не может и не будет. Что он? – совсем посторонний мне человек, чужой. Как же мне жить всем этим? Как мириться? И мне стало вдруг так страшно, так невыносимо страшно, что, не понимая сама, что делаю, я сорвалась с кресла и побежала в кабинет к мужу.
– Милый мой, дорогой! – приникла я к нему. – Спаси меня… Мне дурно. Очень дурно.
Он было совсем остолбенел, но потом притянул меня к себе и посадил на колени.
– Ради Бога… Не оставляй меня одну, не оставляй!
И я сама обвила руками его шею, с преувеличенной страстностью искала его губы, впивалась в них, схватывала его голову и не давала оторваться от моей, до тех пор, пока он не поднял меня на руки и не перенес меня на диван. Но – увы! – закрыв глаза, я представлял себе другое лицо, слыша не его голос!..
VОжидание ребенка спасает женщину и от хандры, и от недовольства собою и другими.
Мысль ее занята все время. Она начинает жить будущим. Чувство, если оно до тех пор и замирало, вспыхивает с новою силою. Я как-то говорила уже, что мужчина любит своего ребенка, если он любит его мать, женщина ради ребенка начинает любить даже опостылившего ей человека. К этому еще присоединяется умиление, нечто благоговейное перед той великою тайною природы, которая совершается в ней. Это не одно ожидание. Это самоуглубление, самосозерцание. Она становится нежна ко всем, она смягчилась и примирена, она как будто вперед у всех старается заслужить любовь и покровительство к ее будущему дитяти. Она забывает сделанные ей оскорбления. Я бы назвала ее состояние молитвенным.
Даже мой муж и тот невольно оживился и, несмотря на свой ум, начал мне задавать совсем глупые вопросы.
– Как ты думаешь, кто будет – сын или дочь?
– Почему я знаю, – улыбалась я ему.
– Хорошо, если сын… Дочь мне не надо. Что я с нею стану делать? А сын, ты знаешь, я уж решил. В России ни за что воспитывать не буду. В Германию и именно в Берлинский университет. Не иначе! Гейдельбергский тоже хорош, но насколько я знаком с берлинскими студентами, они…
– Постой, постой, дай ему родится сначала.
– Да, правда, но все равно. В свое время будет.
Он меньше сидел у себя за делом, чаще проводил время со мною, садясь против меня и глядя с нескрываемым удивлением на мою особу.
– Вот поди же! – восклицал он иногда. – Кто бы мог ожидать!
– Что ж тут необыкновенного?
– Очень рад, очень рад. Мы с ним займемся впоследствии, вместе начнем работать. Ларионовы отец и сын. Как это я читал когда-то, Домби и сын… Ну, да. То купцы были, а это будет ученая фирма. Сын станет продолжать дело отца. Ты только, пожалуйста, смотри, будь осторожнее. Вы все, женщины, никогда ни о чем не думаете. Да, я никак не предполагал этого никак!.. – И он с комической гордостью посмотрел на себя в зеркало.
Я не только перестала скучать, но даже поздоровела. Румянец опять вернулся ко мне, зловещая синева вокруг глаз исчезла. Муж тоже не давал мне покоя. Он советовался со всеми врачами, возил то их ко мне, то меня к ним. Мне это начинало надоедать, но я покорялась. Все это было лучше прежней его невнимательности, когда я по целым дням и неделям оставалась одна, не слыша от него ни слова. К несчастию, кто-то сообщил ему, что во многом наклонности ребенка зависят от впечатлений и образа жизни его матери. Я говорю «к несчастию», потому что, задавшись целью приготовить из своего сына не иначе как знаменитого ученого, он начал приставать ко мне, чтобы я читала и как можно больше. Он выходил из себя, видя меня без книги.
– Ты, верно, хочешь, чтобы у тебя сын дурак был… Ах, несчастье с этими женщинами!.. Пожалуйста, читай.
Самые книги, которые я читала, теперь подвергались строгому его контролю. Романов он терпеть не мог, стихов – тоже.
– Он твой сын будет. Значит фантазия и без того у него будет преобладать. Все твое горе в том, что у тебя слишком много воображения. В нем надо будет подавить это. Читай книги исторические, ну, путешествия наконец.
Раз он застал у меня в руках книжку стихов.
– Вот, так я и знал. Как это глупо, право!
– Ты посмотри, что я читаю, ведь это Бойто[6]6
Арриго Бойто – итальянский композитор и поэт.
[Закрыть].
– Бойто, так что же, что Бойто?
– Хочешь я прочту тебе? – и я начала знаменитое:
A una mummia
Mummia fasclata In logon
Papin sontuosi,
Mummia che sul sudario
Porti I’apoteosi,
Perdona se i nepoti,
Piu culti che deuoti,
Fan del tuo frale eterno
Si misero governo и т. д.
– Ты видишь сам – это о мумиях, почти научное стихотворение.
– Да!.. Ну тогда пускай.
Он заставлял меня сидеть по целым часам теперь в кабинете, – в том самом кабинете, куда прежде мне не было доступа, и смотреть, как он работал. Ему хотелось путем моих впечатлений вселить в будущего своего наследника страсть к тем же самым занятиям. Почти каждый день бывавший у нас врач, приятель мужа, сначала смеялся над ним, а потом, наконец, встревожился за меня и с обычною своей находчивостью вступился в дело.
– Что, ты хочешь из своего сына офицера, что ли, воспитать?
Он знал, что большего ужаса для моего мужа не существовало.
– Как офицера? Ты с ума сошел.
– Да как же? Ты со своими книгами так надоедаешь Анне Александровне, что вызовешь в ней отвращение ко всему печатному, а разве ты не знаешь, что матери передают чувства детям?
– Ты прав, в самом деле. Я это упустил из виду. Кто же сообразится с ними, с женщинами!..
И он стал меньше приставать ко мне.
Я очень много ходила и гуляла, и делала все, чтобы укрепить свои нервы. Боялась ужасно, чтобы мое дитя не стало такою же нервною дрянью, как его мать. Лучше всего для этого было путешествие, и вскоре по окончании экзаменов мы, действительно, отправились, согласно первоначальному плану мужа, в Германию. Мы решили посетить Берлин, Франкфурт, провести небольшой курс лечения в Эмсе, затем поехать в Кельн и оттуда уже сделать экскурсию по Рейну и в Швейцарию…
Германия и особенно Берлин оставляли по себе тяжелое впечатление. Я томилась в прусской столице, не зная, куда мне деваться, куда уйти от этого царства грубой силы… До сих пор я даже не предполагала возможности таких людей. Уродливые типы, с каким-то мрачным оттенком, неуклюжие, суровые, ушедшие сплошь в свое дело и нимало ничем иным не интересующиеся. Я бродила по выставкам и между чудными картинами Габриэля Макса, Шефера видела тех же выпученных, суровых гуннов, по-видимому, недоступных никакому человеческому чувству. Их грубый животный смех раздражал меня, их самодовольствие, стадность были противны. Я себя опять почувствовала скверно, и муж потому решил увезти меня поскорее в Эмс, воздух которого был мне полезен.
– А жаль, что ты не выносишь Берлина, – задумчиво говорил он.
– Почему жаль?
– Для нашего будущего питомца это было бы превосходно. Ты ведь заметила, какие у них сильные люди. Вот здоровая раса, точно их на заказ отливают из чугуна где-нибудь.
____
А эти здоровые и сильные люди только и говорили тогда, что о войне с нами.
В вагонах слышались отзывы о России, полные ненависти, самой дикой и необъяснимой. Я раздражалась, злилась, даже капризничала и, надо отдать справедливость мужу, он ко всему этому ввиду будущего знаменитого ученого (не забывайте фирмы: Ларионов и сын!) относился с ангельским терпением. У него здесь повсюду были друзья. Они встречали и провожали его с кружками отвратительного пива в руках, с выпученными глазами и с криком hoch! Он тоже, вспомнив свое студенчество в Германии, чокался с ними такими же кружками, так, в вагон возвращался залитый пеною от пива и столь же энергично кричал им в ответ hoch и vivat! Все эти почтенные бегемоты и гиппопотамы непременно заявляли желание видеть меня, окружали, глядели на меня налитыми кровью глазами, орали что-то и так энергично жали руки, что я уходила к себе совсем больная; они поднимали кружки за мое здоровье с таким видом, точно собирались ими разбить мне голову, а в Галле, где Ларионов слушал когда-то курс, его встретил ферейн с флагами, знаменами и пением, и каким пением!.. Стадо ревущих быков не могло бы перекричать этих господ, ужасно добросовестно старавшихся и заезжавших в такие невозможные регистры, что я едва удерживалась от хохота. Со всеми этими монстрами мой муж состоял в самых дружественных отношениях.
____
Я очнулась только в Эмсе. Тут я что называется отошла!
Наши окна выходили в сад «Anlagen». Густые и ветвистые вершины его деревьев совершенно закрывали от меня тихую и мутную реку Лан, делавшую тут извив между рядами крутых и до самых макушек поросших свежим зеленым лесом гор. Такого леса, такой обильной зелени я не видела на юге. На юге солнце слишком сушит природу, здесь, на влажной почве и в сыром воздухе, все распускается обильно и пышно. Липы были в цвету, и аромат их свободно лился в наши комнаты. Я уходила гулять по окрестностям с мужем, который излагал мне теперь одну за другой различные системы воспитания. Сидя у себя дома, я целый день слушала птиц. Иногда казалось мне, что каждый лист этого дерева пел и кричал, так много было здесь этих крылатых певцов. В жаркие дни случалось, что вся долина реки Лана звенела бесчисленными трелями, щебетанием, чириканием, унылыми криками иволги, веселым и задорным пением зябликов и чижей, вдохновленными одами соловья. Сидевшие в саду буквально тонули в волнах этих звуков. Уходя на горы, в леса, поросшие на их склонах, я слышала те же мириады голосов. Это птичье царство смолкало только в дожди, когда на горы и парки спускались сквозные серые занавеси. Но стоило только тучам уйти за Рейн и солнцу весело загореться в осыпавших листву дождевых каплях, как птицы начинали свой гомон. Даже ночью, когда вся долина погружалась в мрачное молчание, какая-то крохотная пташка бросала в темный воздух свой, точно полный недоумения, вопрос: «Что это?.. Кто тут?.. Где я?..» Она смолкала на минуту, на две, потом начинала опять то же самое. Когда мне не хотелось спать, я засиживалась долго у окна слушать эту ночь, ловя издали грохот проносившихся за Ланом поездов, следя за звездами – увы! – не южными крымскими звездами, а робкими и бледными очами севера!.. Это обыкновенно продолжалось до тех пор, пока муж не являлся, не запирал у меня под носом окна, не брал меня за руки и не уводил в спальню. Он теперь успокаивался только тогда, когда я ложилась в постель, под громадную и мягкую перину, которою немцы покрываются даже среди самого жаркого лета. Спалось мне здесь отлично, чувствовала я себя тоже хорошо. Нервы молчали совсем, и когда мне пришлось ехать отсюда, я увозила сожаление с собою. Мне так не хотелось оставлять эти мирные долины с их старыми и маленькими городками, точно столпившимися вокруг своих громадных и мрачных соборов. Глядя на последние, мне казалось, что если все эти дома и домики войдут в громадные порталы этих средневековых соборов, то города не останется, а в соборе их присутствие будет совсем незаметно. Мне жаль было этих полуразрушенных старых башен, затянутых плотными покровами плюща, этих зубчатых стен, терпимых между новыми постройками, как молодость терпит и выносит ворчливого, разбитого параличом дедушку и сторонится, давая ему место на солнышке. Мне было жаль этих замков, которым даже лень уже стало торчать на верхушках гор и давно хотелось рухнуть и улечься на покой грудами серых камней. Они и сделали бы это, если бы неугомонный человек, то там, то здесь не выводил бы новые стены и не мешал бы старикам уйти со свету в тихое царство смерти и разрушения. Жаль было этих деревень, счастливых и чистеньких, глядящих в синие воды реки. Мы полюбовались на Кельн с его громадным собором, таким громадным, что город все растет и ширится, но никак не может уйти из-под его тени… Издали только его одного и видно среди зеленой равнины над Рейном. Все эти дворцы и монументальные постройки города исчезают, и только один собор высится, одинокий и царственный, с двумя своими громадными башнями, словно только на короткий отдых приостановившимися, чтобы тотчас опять идти вверх, за эти тучи, за это небо… Глядя на эти башни, мне иногда казалось, что тут сама земля вытягивается в недосягаемую высь, что это небо притягивает ее, а труд и творчество человека во всей этой дивной каменной фантазии ни при чем…
Муж, разумеется, начал мне весьма пространно рассказывать о том, кто и когда строил этот собор. Года следовали за именами, имена – за годами… Я совсем запуталась в них.
– А кто строил эти горы? Эту реку? Кто построил это голубое небо? И когда и при каких обстоятельствах?
Муж на меня посмотрел было с недоумением, но потом покачал головою и вздохнул.
– Это все твое воображение, – сказал он. – Какая жалость, что при всех твоих достоинствах ты женщина с воображением.
Воображение, по его убеждению, было одним из самых величайших недугов человечества: почти вроде проказы!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.