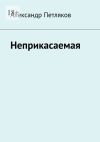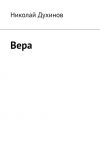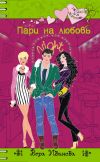Автор книги: Вера Миносская
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Что читаете? – спросил Георгис, стоя в дверях.
– Ничего, у меня и книги-то с собой нет.
– Вы очень деликатны, – улыбнулся он.
– Спасибо. Еще я невольно подслушала ваш разговор с братом, его последнюю часть. Похоже, Лукас не очень-то поверил, что со мной можно пойти на охоту?
– Ну, он же не знает, какой у вас хук правой.
Я засмеялась.
– Пойдемте ужинать, – позвал он.
Вся кухня была заставлена пакетами и мисками, перекочевавшими сюда из таверны Лукаса. Их принесла Катерина. В качестве обеденного стола Георгис выдвинул на середину низкий столик, перед которым мы уселись прямо на полу. Все принесенное на него не поместилось, часть пришлось убрать в холодильник.
– Даже не знаю, как благодарить Лукаса и Катерину, – сказала я, кусая хрустящий бок дакоса4343
Дакос – критская закуска: на размоченный в воде и оливковом масле сухарь кладут тертый помидор, сыр и все это посыпают орегано.
[Закрыть].
– У вас будет такая возможность. Завтра у брата именины. Вы не против пойти? Это вечером. Мы уже вернемся из Арадены. А послезавтра утром уедем в Аликианос на старом пикапе крестного. С тех пор как Лукас подарил ему новый, этим он почти не пользуется, так и стоит тут в гараже.
– Звучит чудесно… Вот только подарка у меня нет.
– Ничего, у меня есть. Правда, я не думал, что удастся подарить его день в день.
– Что за подарок, если не секрет?
Георгис поднялся в свою комнату, вернувшись, положил передо мной критский нож – с широким лезвием и узкой костяной рукояткой. Нож носил следы аккуратной реставрации. По блестящей стали вилась выгравированная надпись:
Два друга у Сфакьи всегда:
Клинок и лира.
– Какой старый! Сколько ему лет?
– Его носил еще дед Луки. Семейное предание утверждает, что сделали его во время восстания 1821 года4444
Восстание критян против турецкой оккупации.
[Закрыть]. Надпись, конечно, позже.
Он принес с дивана две большие подушки и бросил их рядом со столом. На одной свернулась я, на другой растянулся на спине, закинув руки за голову, Георгис.
– Расскажите про свое детство. Наверное, оно было… вольным? – спросила я.
– Вольным… по сравнению с детством городских детей. У крестного была таверна, и работали в ней все – от мала до велика. В 70-х туристы как раз начали активно осваивать Сфакью. Мы с братом ловили рыбу, обслуживали посетителей. И учились. Хотя это больше ко мне относилось.
– Почему?
– Ну, с Лукой все было ясно: он продолжит дело отца, унаследует таверну. Я же был сыном священника и, будь родители живы, получил бы иное воспитание. Крестный старался не нарушить этого положения дел и дать мне неплохое, по здешним меркам, образование. Это заключалось в том, что, когда Луку отпускали играть с приятелями, меня заставляли зубрить задания, – засмеялся он.
Мы помолчали.
– Сколько вам было, когда погибли родители? – осторожно спросила я.
– Три… Я жил здесь, в Хоре, с крестным. Мама боялась брать меня на Кипр, там было неспокойно с самого начала, когда они приехали. Отец отправился служить в общину выходцев с Крита, в том числе из Сфакьи. Межэтнические распри между греками и турками шли уже вовсю, и однажды ночью случилась резня… Говорят, что за этим стояла ЭОКА4545
ЭОКА (греч. Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών) – «Национальная организация освобождения Кипра».
[Закрыть] – радикалы, выступающие за присоединение Кипра к Греции. То есть сами же греки. И действительно, после резни, в которой погиб священник с женой, протесты греческой диаспоры Кипра усилились.
– Соболезную, Георгис…
– Спасибо.
Он повернулся на бок и продолжил:
– Я быстро превратился в маленького героя здесь. Вы ведь неплохо знакомы с историей Крита. И в курсе, что за регион Сфакья. Да, никто не смог завоевать нас: ни венецианцы, ни турки, ни немцы. Но также верно и то, что ненависть к туркам у нас на генетическом уровне. Теперь представьте мальчишку, чьи родные пали от рук турок в наше время. Пусть даже многие понимали, что не все здесь так очевидно. Мне прощали то, что не спускали другим. Последней каплей стал случай с лодкой. Как-то мы с Лукой и его другом тайком взяли лодку старого рыбака и поплыли к подводным гротам возле Лютро. В общем, лодку мы разбили и утопили. Родители приятеля Луки и крестный, конечно, скинулись и купили деду новую. А нас троих привели к нему – просить прощения. Луку и его друга старик отругал, но, поворчав, извинения принял. Я же не извинился. И главное, старик от меня того и не ждал. Взглянул… и все. Ничего не сказал. Вскоре после этого крестный отправил меня в военное училище.
– Я думаю, это было мудрое решение.
– Да, он был мне хорошим отцом, – улыбнулся Георгис.
– Знаете, сегодня мне не хотелось уплывать от него.
– Скажу ему, он обрадуется. Уверен, что производит на женщин особое впечатление и любит учить обращению с ними. Хотя после смерти жены тридцать с лишним лет назад так и не женился.
После полуночи мы вымыли посуду и разошлись по комнатам.
Во сне я видела маму в коротком грязном халате, всклокоченную и в слезах. Она протягивала мне маленького мальчика, голова и руки его безжизненно висели.
Мне стало не хватать воздуха. Я проснулась. В углу комнаты мрак был плотный. Сверкнули два глаза, зашевелились на корявом теле корни-змеи, черные – темнее, чем сама ночь. От ужаса сердце глухо стукнуло и остановилось. Я не могла дышать. Подавившись криком, на который хватило оставшегося в легких кислорода, я дернула за шнур прикроватной лампы.
Никого. Открытое окно и тьма за ним.
Дверь распахнулась. Появился Георгис в одних джинсах.
– Что случилось?! – Он охватил взглядом комнату. – Вера!
Я по-прежнему не могла вдохнуть.
Видеть за бегающими перед глазами алыми лепешками тоже перестала и чувствовала только, как сильные руки встряхивают меня за плечи.
– Да господи, Вера, что?!
В ушах шумело. Наконец кто-то невидимый перестал душить меня. Я закашлялась от воздуха, ободравшего горло при судорожном вдохе. Из глаз потекло, из носа тоже. Пришлось закрыть лицо ладонями.
Георгис резко отпустил меня. Подышав теплом, исходящим от кожи, кашель удалось усмирить. Одну руку мне отодвинули, губам стало холодно.
– Пей!
Выстукивая зубами по краю бокала, я сделала глоток. От коньяка спазм в горле совсем прошел. Неэстетично вытерев мокрые нос и глаза, я сказала:
– Это было оно.
– Кто?
– Существо в углу. Я его видела среди четверых за столом. Это оно.
Лицо у Георгиса, сидевшего на крае кровати, посуровело. Наверное, не мог решить – полночный бред это или уже шизофрения. Он встал, дошел до страшного угла, выглянул в окно. И повернулся ко мне, засунув руки в карманы.
Вместе с выравнивающимся дыханием стал возвращаться разум. Об руку с ним в меня входила смертельная тоска, предвестница которой явилась ко мне сегодня утром у Франгокастелло.
Хотелось выть и забиться в угол под диваном.
Глотнув коньяка из бокала, я пояснила:
– Мне приснился сон.
– А существо? Тоже?
Не желая сейчас объяснять, я кивнула.
– Что вам приснилось?
– Мертвый ребенок.
Георгис подошел, взгляд у него смягчился:
– Это просто реакция на последние события. И сирокко…
Я покачала головой:
– Как только приедем в Аликианос, позвоню брату. Надеюсь, с моим маленьким племянником все хорошо.
Коньяк творил внутри меня добрые дела: расслабил сведенные мышцы и приглушил ужас. Веки отяжелели, голова опустилась на подушку. Свет выключили, я уснула.
Проснулась поздно. Заплела косу. На кухне Георгис читал новости с ноутбука, принесенного братом. Разговаривать мне не хотелось, под сердцем еще сидел полночный кошмар.
Солнце висело на самой макушке небосклона, когда мы сели в пикап. Дорога быстро увела нас в горы, прочь от моря. И вот уже далеко внизу: зигзаги серпантина, как росчерки шпаги, белая деревушка и бесконечная синь, обнимающая их.
Мы переехали грохочущий мост над ущельем Арадена, спаянный из стальных балок и деревянного настила. И припарковались рядом с указателем Aradaina, сплошь покрытым пулевыми отверстиями. Пальба из ружей по указателям – любимая забава критских горцев. Особенно в Сфакье.
За антиовечьей сеткой лежали каменные развалины домов заброшенной деревни.
Жители покинули Арадену в конце 40-х годов XX века из-за вендетты. Просто один из мальчишек назвал другого в пылу спора мазилой. И тот всадил ему пулю в лоб. Началась вражда между семьями. Мост через ущелье тогда еще не построили, с Хорой Сфакион деревня соединялась тропой через крутые отроги Араденского ущелья. Горы, каньоны да каменистые тропки до таких же затерянных деревень – вот и все, что здесь было. С точки зрения сопротивления захватчикам – идеальный ландшафт. Но для враждующей общины – что котел с кипящим маслом. Те, кому удалось уцелеть в межсемейной войне, покинули Арадену.
Отворив калитку, мы вошли. Отрадно, что некоторые дома начали восстанавливать. Не доходя до приземистой церкви Архангела Михаила, Георгис свернул и огляделся.
– Все еще ждете преследователей, Георгис?
– Все еще в них не верите?
Он так резко повернулся и остановился, что я едва не налетела на него.
– Я тоже под подозрением? – вырвалось у меня.
Георгис поморщился:
– Подозрение совсем не то слово. Я хочу понять, почему нас так быстро нашли в Астерусии. Вы никому не проговорились перед отъездом? Это просто вопрос. Не желание обвинить.
– Нет, никому. А если бы и проговорилась, сказала бы вам. Потому что… видела последствия.
Под соседней оливой засверлила цикада.
Подумав, Георгис кивнул:
– Да, наверное, сказали бы.
И пошел по едва заметной стежке к развалинам дома. Войдя в дверной проем, вынул шатающийся кирпич из-под порога и вытянул уже знакомый предмет – пенал, обернутый в полиэтилен.
Сев на остатки каменной ограды в тени оливы, мы склонились над листом. Цикады к тому времени сколотили хор и грянули во всю мощь.
Синхронный перевод на греческий получался у меня не таким гладким, как у Вани. Я часто делала паузы, пытаясь подобрать слова, как можно точнее. В такие моменты Георгис вскидывал на меня глаза.
«Иван!
Тайник находится в ущелье Агиофрагго, что рядом с монастырем Одигитрия.
И знаешь, я ведь видел ее, Софию. В монастыре Мони Одигитрия местами сохранились старые фрески. Среди них есть лик Богородицы столь живой и нежный, что нет сомнений: он принадлежал реальной женщине и был написан влюбленным в нее мужчиной.
Ты, наверное, думаешь, что дядя твой становится сентиментален. Возможно. Но я в последнее время часто думаю об этих двоих. Буквально вижу их перед собой. Вот недавно подумалось… Если бы Софию и Георгиса после смерти спросили: что вы помните о земной жизни лучше всего? Ужасы захваченной турками Ханьи, крики детей и женщин, сталь на горле Георгиса и в сердце Софии?
Нет. Я думаю, что лучше всего они помнят бухту Диктинна, где целых три дня принадлежали только друг другу. Помнишь, как она сказал в письме духовному отцу: «В словах апостола будем жить мы. И наша любовь».
Ведь писала это София уже отправляясь на гибель… Может быть, не так уж не правы полагающие, что есть нечто, со смертью не заканчивающееся?
Усмехаешься, наверное. И с некоторым цинизмом, который тебе свойственен, мой дорогой мальчик, думаешь: что монах может знать о любви? Но ведь я не всегда был монахом. Конечно, я не скажу столь емко, как апостол Павел: «Любовь – самое сильное из проявлений Бога». Я всего лишь иеромонах. Но поверь, я знаю, что такое любить.
Любить – это значит не помнить, как дышал иначе».
Мы молчали под буйство расходящихся цикад.
Я протянула письмо Георгису. Убрав лист в пенал, он резко захлопнул его, сунул за пазуху и, не оборачиваясь, зашагал к выходу из деревни. Напряжение и раздражение, сидевшие в нем, уже когда он говорил о преследователях, сейчас были настолько очевидны, что я растерялась. И невольно отстала.
Один из домов почти восстановили из руин: на окнах – ставни, на стенах – штукатурка. Взгляд невольно искал дымок над печной трубой. Скоро вражда превратится в легенду. Люди вернутся сюда.
Горло мне сдавило, и не в силах сдержаться я расплакалась.
Обернувшись, Георгис быстро подошел:
– Вера, вы что?!
Изо всех сил я пыталась взять себя в руки и отвернулась от него:
– Слова Софии, что они будут жить в Евангелии апостола, – это просто горячечный бред женщины, потерявшей любимого. Не более. Рано или поздно мы все сгинем со своими слезами, как сгинули София и Георгис. Мы очень хрупкие в мире. А мир – нет, совсем не хрупкий. Кто-то покрасит твой разрушенный дом и будет в нем счастлив. Потому что мир всегда возрождается. Но уже без нас.
Цикады, взяв верхнюю пронзительную ноту, разом заткнулись. Тишина стояла звенящая. Солнце било нещадно.
– Какого черта вы вообще во всем этом участвует? – с тихой яростью спросил Георгис.
Вздрогнув, я повернулась:
– Считаете меня слишком нежной?
– Считаю.
– Надо же. Вы прям как Маша…
– Это вряд ли. Я с самого начала говорил, что поиски – не женское дело. Но если бы можно было выбирать, кому из вас их продолжать – вам или Марии, я бы выбрал ее.
Отерев с щек слезы, я резко выпрямилась:
– Что ж, в следующий раз берите в попутчики Машу.
– Вера, вы правда не понимаете или делаете вид? Если наши преследователи хоть немного нас изучили, они видят то же, что и я. Каждый раз, когда Иван нарывается на пулю, вы бежите его спасать. И никого ближе к нему, чем вы, нет. Так что…
Доставая из кармана ключи от пикапа, он закончил:
– Если появятся хоть малейшие сомнения, не стесняйтесь поделиться ими со мной. Даже если кто-то просто остановится под вашим балконом.
Засигналил джип. Из него Георгису махали и кричали:
– Йоргос! В Агиосе Иоаннисе! Костас, у него ружье! Езжай скорее, я – туда!
Мы затворили за собой калитку, запрыгнули в машину и понеслись в горы. Мелькали сосны. Все выше. Облака стекали с гор. В полусумерках по обочинам трясли рогатыми башками козы и овцы. Тянули удивленное «э-э-э» нам вслед.
Дорога с разгону нырнула в деревушку с таким же расстрелянным указателем, что и в Арадене. Посреди улицы перед одним из домов кричала и волновалась толпа. В огороде, спиной к односельчанам, стоял мужик в высоких сапогах и целился в окно.
Георгис подошел к седой женщине, прижавшей ладонь к сердцу. Она ближе всех находилась к ограде. Послушав ее, кивнул и вошел в огород. Я совсем неживописно раскрыла рот. Но меня вряд ли кто видел.
Подняв руки, Георгис подошел к человеку с ружьем, что-то сказал и скрылся в доме. Через пять минут вышел смеясь.
– Принеси нам вина! – крикнул он женщине, державшейся за сердце, очевидно матери смутьяна.
И, подходя к нему, сказал:
– Он пьян, Костас.
– Пьян?! Да он просто… – последовало крепкое ругательство.
– Когда у тебя будет пуля здесь, «просто» для матери не будет. – Георгис резко дернул дуло одной рукой вниз, а пальцем другой стукнул по лбу мужика. При этом он стоял так, что заслонял его от невидимого партизана за окном.
Мать Костаса вошла во двор с бутылкой вина и двумя стопками на подносе.
– Эла, эла, рэ!4646
Давай, давай, ну! (греч.).
[Закрыть] – засмеялся Георгис, обхватывая локтем шею мужика и пригибая ее. – Кубарэ4747
Здесь: приятель (греч., разговорное). Также кум.
[Закрыть], тебя ждут! У брата именины, ты забыл? Катерина не начинает делать без тебя пирог!
Выпив с Костасом вина, он обнял его за плечи и усадил в наш пикап. Что-то быстро проговорил собравшимся, кивнув в сторону дома, и мы тронулись.
Дядька на заднем сиденье понурился.
Пока мы скользили вниз по серпантину, он жаловался на жизнь:
– Ты говоришь – мать! А что они понимают, матери?!
Вспомнилось, как однажды отец, возвращающийся поздно после заседания кафедры, плавно перетекшее в отмечание 23 февраля, заснул в метро, вышел на конечной, был ограблен и избит. Ночь провел сначала в милиции, потом в скорой и пришел только под утро. Мы с мамой обзванивали полицейские отделения и больницы. К утру мама состарилась. Лицо стало морщинистое. С мешками под глазами и серой кожей.
Длинная непечатная фраза на русском заставила обоих мужчин уставиться на меня. Одного – в зеркало, другого – в глаза, когда я обернулась к нему. Перейдя на греческий, спросила:
– Ты никогда не ждал, да? И у тебя потом никогда не лезли волосы? Ты просто счастливый идиот. Идиот, потому что не понимаешь. Счастливый, потому что у тебя такая мать!
Дядька, кажется, не решался возражать. Георгис смотрел на меня в зеркало.
– На дорогу смотрите, – важно кивнула я.
Он беззвучно засмеялся. Не желая портить воспитательный момент для пассажира на заднем сиденье, я уставилась в окно, но губы, конечно, предательски разъезжались.
Приехав в Хору, мы сдали бузотера на руки Катерине, готовившей столы на набережной. До начала праздника оставался час.
Припарковавшись возле дома, Георгис спросил:
– Так что вы ему там сказали?
– Вам не понравится…
– Повторите!
Я повторила.
– Звучит, – кивнул Георгис.
– Вы ж не поняли ни черта! – сказала я уже по-гречески.
Он снова засмеялся, глядя на меня.
Улыбаясь, спросила:
– Сможете раздобыть мне фен?
Он кивнул.
Когда я вышла из душа, фен лежал у двери в комнату.
Что ж, подобьем активы. У меня нет подарка для Лукаса. Но у меня есть синее платье. Оно относилось к разряду идеальных макси – по щиколотку, то есть длинное, но не волочащееся по земле. И похоже на греческую тунику: разлетающееся от ветра, спадающее потом по бедрам. На талии перехватывалось витым поясом.
И были босоножки.
С помощью фена и расчески получилось волнистое облако волос. Ни браслета, ни других украшений у меня не было. В косметичке только зеркало и тушь для ресниц. Пусть. Ярко-синее платье плюс загар. Белые волосы, темные ресницы – достаточно.
Я вышла на лестницу. В открытую дверь было видно Георгиса. Поджидая меня, он сидел на краю стола в беседке.
Так. Белая рубашка с закатанными рукавами. Верхние пуговицы расстегнуты. Голову перехватывает знакомое сарики.
Мне надо подышать.
«Вера, – строго сказала я себе, – ты здесь, чтобы помочь Ивану. Все остальное – пустое».
И спустилась.
Сладко-сладко пахнет земля! Наверное, критским душистым табаком.
Георгис повернул голову, и я привычно опустила глаза. Да что же это такое!
– Добрый вечер, – поздоровалась с его коленкой.
В ответ было молчание. Он смотрел на меня.
«Прекрати! – приказала я себе. – Ты – человек, выставлявшийся в дружеском коллективе Союза художников Москвы и год проживший в двушке со свекровью, заведующей детсадом. Чего тебе на этом свете бояться?»
Сжав вытянутые вдоль тела руки в кулаки, сказала:
– Отлично выглядите. Не забыли подарок?
Безрезультатно.
Присела на край стола рядом с ним. Оглядев небо, мы одновременно повернули головы. Никогда так близко ему в глаза я не смотрела. Его рубашка пахла свежестью. И был еще один запах – трудноуловимый, его тела. Из расстегнутого ворота. Нельзя на этом концентрироваться, нельзя!
– Мария говорит… Говорит, это смилакс. Пахнет. Лиана такая. А я думаю, табак. Душистый. Мария – это мой друг. А не та, которую вы бы оставили вместо меня.
Облизнув пересохшие губы, я опустила голову. Тишина стояла жуткая. Хоть бы одна цикада заголосила!
Взяв лежащий на столе сверток, Георгис показал его мне. Нож для Лукаса, обернутый в бумагу.
– Хорошо, – кивнула я. И сама не поняла, что «хорошо»: обертка или что подарок не забыт.
Георгис встал. Подождал, когда поднимусь я, и, не глядя друг на друга, мы пошли по улице вниз. Там светились фонари и слышался смех.
На набережной я оглохла, ослепла. И растерялась.
К нам шагнул гигантский именинник, протягивая два бокала вина:
– Вчера я говорил – статуэтка. Сегодня я говорю – богиня!
Место Лукаса было во главе длинного стола, что стоял вдоль парапета. По правую руку сидела Катерина, по левую – Георгис.
Рядом с ним – я. За столом было шумно и весело. Давешний задира из Агиоса Иоанниса в окружении двух дев, кажется, забыл обо всем.
Когда Лукас заговорил со мной о Москве, Георгис отпил вина, опустил взгляд на мои губы и медленно поднял его к глазам.
В горле пересохло, но я машинально продолжила рассказ про превратности получения шенгенской визы подданными Российской Федерации. Хорошо, что текст я знала почти наизусть – привыкла писать то же самое на форуме.
Ни за что на свете я на тебя не взгляну. «Слишком нежная». Надо же. Хоть обсмотрись теперь, окаянный. В жизни не посмотрю!
И, резко повернув голову, уставилась в самую сердцевину темнеющих глаз.
Господи, когда это случилось? Всего несколько дней назад все было по-другому. Или нет? Как там сказано в письме: «Любить – это значит не помнить, как дышал иначе».
Все закричали и подняли стаканы. Георгис протянул бокал ко мне, словно не видя устремленных к нему со всех сторон стопок, в том числе братской.
«Вера! Приди в себя! Вино вином, но девушкам важно не терять голову. Разбитое сердце может оказаться для нас смертельным».
Черта с два! Рука уже протягивала стопку к его бокалу. Что касается сердца, то больше всего ему хотелось услышать биение другого сердца из прижатой вплотную груди. Пальцы же пульсировали от желания скинуть сарики и зарыться в его волосы.
– А сейчас я хочу выпить за вернувшегося, я надеюсь насовсем, брата. И за его спутницу. Катерина, – обратился к жене Лукас, – давай, поддержи меня. Видела ты кого-либо прекраснее, чем эти двое?
– Адерфе, – улыбнулся он, – поцелуй ее, и поднимем бокалы!
Я тоже улыбнулась и подставила щеку. Почувствовала легкое касание губ.
– Э нет! Так не годится!
Не задумываясь над тем, что делаю, повернулась к Георгису и чуть запрокинула голову. Сделав короткий вздох, закрыла глаза.
Почувствовав его губы на своих, я невольно их приоткрыла. Кончики наших языков соприкоснулись. Кровь затопила тело. Несколько секунд мы пробовали друг друга на вкус. После чего Георгис отпрянул.
Дышать было тяжело. Меня окружала плотная тишина, как под надвинутым капюшоном.
Скосила глаза. Он сидел, опустив голову.
Самый главный вопрос, думала я, вовсе не в том, найдем ли мы рукопись. И не в открытии, сделанном для человечества, как говорили митрополит и отец Тимофей.
Самый главный вопрос – что у него сейчас с дыханием? Если оно ровное – мне конец.
Именинник был уже захмелевший, темные кольца волос прилипли к смуглому лбу. Обнимая брата за плечи, тихо говорил ему:
– Ты же видишь, Йорго, твое место тут… Это лишь вопрос времени, когда сфакиоты возвращаются.
Мы уходили ночью, и Катерина, потянув меня за локоть, прошептала на ухо:
– Послушай, он никого еще не приводил в дом отца.
Дома, перед дверью своей комнаты, Георгис сказал:
– Спокойной ночи.
Это были первые его слова, адресованные мне, за весь вечер.
Проснулись мы поздно. В молчании выпили кофе, съели раскисший дакос и поехали дорогами меж гор вверх, к Аликианосу.