Текст книги "Лягушка на стене"
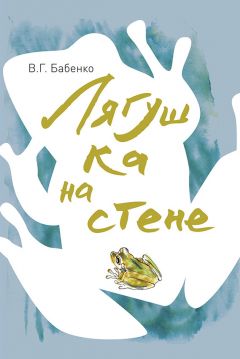
Автор книги: Владимир Бабенко
Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Хозяин острова
Серо-зелёная волна медленно вздыбилась в лёгком морском тумане и застыла над синим горизонтом: лодка подходила к низкому острову. Показалась чёрная изба с посеребрённой морскими ветрами дощатой крышей. Чуть поодаль от дома кособочился сарай.
Нос «Прогресса» заскрипел по гальке, стих мотор. И сразу же, будто рёв «Вихря» глушил не только звуки, но и запахи, с этой полоски суши повеяло нагретым солнцем сосновым бором, свежим сеном и торжественным ароматом роз. Над островом пронёсся ветерок и подмешал в эту чудесную палитру земных благовоний йодистую сладость выброшенных прибоем водорослей.
Рыбак, привёзший меня, помог перенести вещи к сараю – пустой базе зверобоев. Это было незатейливое, сколоченное из досок сооружение, обитое снаружи чёрной толью и от этого похожего на катафалк. В нём мне и предстояло обитать.
Прощаясь со мной, морской возница остановился на пороге и спросил:
– Хозяина острова видишь?
– Нет, – ответил я.
– Вот он, – и рыбак показал рукой на крышу соседнего дома.
Там рядом с трубой, распластавшись, лежал человек. Голова его временами испускала ослепительные лучи.
– В бинокль смотрит, – пояснил рыбак этот странный оптический эффект «ореол святого». – За нами наблюдает. Это и есть Яша, хозяин острова. Единственный коренной житель Чкалова. Ты с ним ещё познакомишься. Легендарная, между прочим, личность. Хотя и тунгус, но и за границей был, и в кино снимался. Он к тебе обязательно заглянет, вот ты его и расспроси. А я поеду.
Лодка, добавив к розовому благовонию запах непредельных углеводородов, удалилась.
Внутри строение, которое на этот раз стало моим домом, было таким же, как и на других становищах. На столе лежали алюминиевые ложки и вилки с почему-то разведёнными зубцами, под нарами медленно прорастали клубни картошки, в углу коснел мешок с солью, а из стенных пазов торчали полоски бурой сухой травы, похожей на обрывки магнитофонной ленты.
Я положил на нары рюкзак, собрал ружьё, взял бинокль и пошёл на первую орнитологическую экскурсию через остров: от залива к морю.
Оно, невидимое, стонало за пахнущим смолой пушистым ковром кедрового стланика. Тяжёлый аромат розового масла источал шиповник. Он цвёл везде – и в низинах (там его кусты были пышными, раскидистыми и высокими), и среди стланика, где он сплетался с ветвями ползучей сосны, и его пунцовые цветы лежали на бархатистой зелени, как ордена на сукне защитного цвета. А на продуваемых ветрами гривках, где росли лишь северная ягода шикша и лишайник, там шиповник принимал карликовую форму с двумя-тремя листочками и одним прижавшимся к земле алым цветком.
Узенькая тропка, вьющаяся среди кустов, по-немецки аккуратная, казалось, была специально посыпана мелким гравием (ложное впечатление, так как весь остров был сложен этим строительным материалом). Дорожка совсем заросла. Иногда она упиралась в глухую зелёную стену, и мне приходилось шагать прямо в колючий куст. Я раздвигал пружинистые смолистые ветки; за зелёными колючими кулисами скрывалась микроскопическая полянка, благоухающая хвойным бальзамом и розовым маслом. Здесь рос какой-нибудь особо неистовый шиповник, так жизнелюбиво усыпанный цветами, что даже просолённый морской ветер не мог выполоскать его одуряющий, въевшийся и в сосновые иголки аромат.
Я поднялся на поросшую редкой травкой гривку, на которой лежали принесённые осенними штормами и полузанесённые песком белые стволы деревьев, и увидел море.
По берегу в обе стороны тянулись бесконечные ровные пляжи. Солнце бесцветно спускалось через далёкие облака к горизонту. Волны набегали на прибрежную отмель, вздыбливались над ней белыми гребнями и, уже обессиленные, растекались прозрачными дугами по берегу, аккуратно раскладывая бурые валики морской травы.
Я сел на матово-белый ствол плавника и прислонил к нему ружьё. Приклад заскользил по песку, оставляя за собой тёмный влажный след.
Удивительна сила морских пространств! Здесь можно и сосредоточиться, и забыться. Такие места с беспредельным окоёмом располагают к размышлениям и к бездумному созерцанию мятущихся волн. А впрочем, может быть, моменты такой медитации и есть самые осмысленные минуты экспедиции, да и жизни вообще.
Вода прибывала. Вдалеке, на лайде – мелководье, обнажившемся во время отлива, – дремало с десяток нерп. Среди зверей чернело два орлана. Птицы, вероятно, подсели к нерпам в надежде, что среди зверей есть не только спящие, но и дохлые, а значит, и съедобные. Прилив на этой эфемерной суше подтоплял его обитателей, и проснувшиеся нерпы начали медленно сползать в море. Орланы, как бессменные часовые, терпели до конца. Уже давно уполз последний тюлень, а птицы всё стояли в прибывающей воде, сначала приподнимая лапы, потом расправив и подняв крылья, и наконец, когда вода дошла им до «пояса», взлетели.
Крачки не воспринимали остров как сушу и летали над курчавыми зарослями стланика, как над гребнями волн. На острове крачек ждали поморники. Они сидели группами на травянистых гривках. Как только поморники чувствовали позывы голода, они расправляли свои длинные крылья и сразу же приобретали силуэт хищной птицы. Поморник не спеша летел с неестественным для такого довольно крупного животного, каким-то просящим щебетанием к ближайшей, возвращающейся с моря крачке. Крачка пыталась тревожно кричать, но клюв у неё был занят рыбой, и полноценного зова о помощи не получалось. За ней неотступно следовал поморник, и эта пара – белая точка и преследующее её тёмное пятно – то проносилась над самыми кустами стлаников, то падала к волнам, то взмывала высоко вверх. Обе птицы, казалось, хорошо знали, чем кончится эта погоня. Крачка как-то нехотя уходила от преследования, поморник с заметной ленцой догонял её.
Наконец жертва разбоя, видимо, решив, что она сопротивлялась положенное время, бросала добычу и вновь летела к морю, на рыбалку. А поморник, сложив крылья, у самой земли на лету ловко ловил брошенную рыбёшку и возвращался на свой наблюдательный пост.
Пустынность ровного пляжа нарушал огромный, как царь-колокол, ржавый, и от этого красный, как кремлёвская стена, котёл прежнего рыбного заводика. Его бок был изрыт пулевыми оспинами. Видимо, хозяин острова часто не мог сдержаться и не выстрелить в такую удобную мишень. Соблазнился и я, и скол ржавчины бурой бабочкой слетел с котла.
Я прошёл километра два по побережью. На острове, метрах в трёхстах от берега виднелось какое-то сооружение. Я свернул к нему. На разъеденном кубическом бетонном основании был установлен металлический штырь с прикреплённым к нему силуэтом самолёта. На зелёной медной доске, вмурованной в бетон, можно было прочесть следующее:
«На этом месте 22 июля 1936 г. в 13 часов 45 минут в сплошном тумане с исключительным мужеством и мастерством Валерий Чкалов произвёл посадку самолёта АНТ-25 ¹ 025, закончив первый в истории авиации сверхдальний беспосадочный перелёт протяжённостью 9374 км, из них 5140 над морями Северного Ледовитого Океана и Охотским морем. Время перелёта 56 часов 20 минут. Шест установлен в 1936 г. Реставрирован в 1981 г. НАО ДВГУГА».
Я оглядел штырь, бывший, по-видимому, некогда антенной АП-25, пустые бутылки и стреляные гильзы от ракетницы – свидетелей юбилеев славного перелёта – и возвратился на берег.
Солнце садилось. Нельзя сказать, что жизнь на побережье била ключом. Я встретил лишь торопливо убегающего по пляжу зуйка, пролетевшего у самого уреза воды, мелкого серого буревестника, выброшенного штормом дохлым, основательно объеденного собаками дельфина и плывущее вдалеке судно, расцвеченное огнями, как новогодняя ёлка. Да ещё на матово-сизой, муаровой от ряби поверхности моря периодически беззвучно появлялись гладкие, блестящие спины белух. Скоро серые сумерки съели их белые тела, залив суриком горизонт и смешав к ночи небо с морем.
Пора было возвращаться. Дорожку среди стланика совсем не было видно в зелёной мгле. Лишь редкие белые камушки на тропинке указывали путь.
К вечеру каждый сосновый куст распускался, каждая веточка раскрыла бутоны иголок, вобрав в себя таинственную объёмность ночи. И я уже шёл сквозь серый, пружинистый, пахнущий смолой и розами колючий туман.
* * *
Когда ярким приморским солнечным утром я вышел из своего барака, меня встретили с десяток лаек хозяина острова. Это были разномастные, но все очень крупные псы с огромными медвежьими головами, ободранными в драках ушами и страшно худые. Позже я узнал, что Яша кормил их только зимой, когда собаки таскали нарты. В бесснежный период нарты бездействовали, и лайки стаей голодных волков рыскали по острову в поисках пропитания. После моего появления на Чкалове собаки стали дежурить у становища зверобоев. В некоторые моменты, особенно когда я привык оставаться в одиночестве, десять пар внимательных глаз меня сильно нервировали.
Из окна своего дома я тем же утром увидел Яшу. Он задумчиво постоял у своей избы, потом прошёлся по тропинке метров пятьдесят и остановился у одинокого креста. Ветерок шевелил цветы росшего рядом шиповника. В утренних лучах пролетающие над Яшей крачки казались розовыми. Яша, качая головой, постоял в раздумье у могилы, медленно опустился на колени и стал гладить невысокий зелёный холмик. Такая сентиментальность не часто встречалась мне на Дальнем Востоке. Я, твёрдо сознавая, что поступаю дурно, подглядывая за человеком в самые интимные моменты его духовной жизни, тем не менее, снял с гвоздя бинокль. Яша продолжал так же ласково водить руками по могильному холмику: он собирал и ел шикшу.
К вечеру, когда я, вернувшись из похода по острову, растопил печку и стал разжаривать на сковородке макароны с тушёнкой, в гости пришёл хозяин острова. Он был в старой промасленной телогрейке, широченных шерстяных галифе, резиновых сапогах и шапке-ушанке с кожаным верхом. У Яши на подбородке росла седая щетина, редкая, как у всякого монголоида. Лицо его совсем не было похоже на лица нанайцев, ульчей и орочей, которых я привык видеть в Нижнем Приамурье. Яша был из вымирающего племени нивхов.
Выпить у меня не было (точнее, было, но экспедиция только начиналась, и я решил попридержать свой спиртовой НЗ). Я пригласил Яшу поужинать со мной. Макароны он есть не стал, а от чая не отказался.
Разговор начался по схеме, привычной для меня за многие годы экспедиционных скитаний и общения с местным населением.
Яша, как и другие, спрашивал, откуда я, неужели из самой столицы (странно, но почти все аборигены считают, что все, кто называет себя москвичами, безбожно врут и на самом деле живут в соседней деревне или, на худой конец, в пригороде), зачем я изучаю птиц, почему не исследую лахтаков, нерп, белух или в крайнем случае калугу или горбушу.
Я уже привык к такого рода вопросам и последующим рекомендациям такого же плана. В зависимости от географической точки, где происходил разговор, мне советовали заниматься сайгаками, северными оленями, косулями или архарами. Я так же стереотипно отвечал, для чего существует наука орнитология, и какие выгоды она приносит народному хозяйству, ну и мне заодно. Постепенно разговор с птичек перешёл на остров Чкалов, на залив Счастья, Приамурье, на судьбу Союза и Яши.
* * *
Яша был родом из стойбища Коль. Из воспоминаний детства у него остались шаманы с бубнами и медвежий праздник. Он вспоминал, как отец с другими мужчинами рода ходили в море на длинных лодках-гилячках ставить сети на кету и калугу и бить из берданок и карабинов лахтаков и акиб. Он помнил, что давным-давно в посёлке на берегу стояла бревенчатая вышка. Во время осеннего хода кеты и горбуши, в сезон, когда за косяками рыбы шла белуха, на наблюдательный пост поднимался человек. Когда белые дельфины приближались, на вышке появлялся знак – красный революционный флажок, и в прибойную волну сталкивались узкие тупоносые лодки, в воду врезались остроклювые вёсла, и судёнышки неслись к вздыхающим зверям.
Селение, где родился Яша, было самое последнее нивхское стойбище – дальше шли земли эвенов. Своеобразный нивхский форпост закалил характер тамошних мужчин. Недаром по всему низовью Амура говорили: «Колинские гиляки – злые гиляки».
В этом посёлке Яша научился ловить и разделывать красную рыбу и морзверя, привык есть морскую капусту – ламинарию, «путь-путь» и «пук» – носовые хрящи живой кеты и горбуши.
Яшина семья перебралась южнее, на остров Удд, в 1936 г, именно тем летом, когда на эту полоску суши сел, вернее, почти упал огромный самолёт.
Лётчики были поселены в лучшие дома в колхозе (тогда здесь были и большой посёлок, и рыбоперерабатывающая фабрика). Скоро героев увезли в столицу. Позднее пришла баржа с лесом, прибыли военные чины, и всех колхозников согнали строить длиннющий деревянный настил, чтобы подправленный механиками чкаловский самолёт мог свободно, не зарываясь колёсами в мокрый гравий, разбежаться и взлететь.
Результатом этого перелёта было переименование трёх островов: Удд, Лангр и третьего, названия которого сейчас уже никто не помнил, в острова Чкалов, Байдуков и Беляков. Последнему авиатору досталась самая маленькая, округлая, возвышающаяся над морем часть суши. В народе его новое имя не прижилось, и он стал зваться Коврижкой.
Залётные герои не забыли гостеприимства нивхов, и однажды из Николаевска на катере им привезли столичные подарки от отважных авиаторов: женщинам – швейные машинки, мужчинам – винчестеры (вскоре, впрочем, отобранные НКВД).
Яша вырос, повзрослел, и его призвали в армию. Нивха, как представителя малой коренной народности, оставили служить на родине, и он строил стратегическую лиственничную лежнёвку от Николаевска до Стасьева, а потом рыл окопы на самом берегу Охотского моря.
От устья Амура до самого Владивостока по берегам Охотского моря, Татарского пролива и Японского моря тянулись линии окопов, подземных галерей, таились спрятанные в прибрежных скалах крепости, по своей мощи на много превосходящие военные укрепления вокруг Москвы. Японцев, которые так и не напали на Советский Союз, ждали и у Стасьево – маленького посёлка в Заливе Счастья. Там на морском берегу, в сыром торфянике мне попадались заплывшие траншеи и сгнившие столбы с колючей проволокой. В лесу встречались заросшие толстыми пихтами и елями окопы, глубокие блиндажи и землянки с осевшими бревенчатыми перекрытиями, в которых даже в середине лета не таял лёд. Возможно, что их-то и строил Яша.
После службы Яша пробыл дома недолго: началась война, и его призвали снова. Неторопливое существование Яши в заливе Счастья было прервано, и дни стремительно понеслись. Яша, видевший в своей жизни только один большой город – посёлок Пуир, попал сначала в Николаевск, а оттуда – в Хабаровск. За четыре месяца Яша окончил военную школу и вышел оттуда пулемётчиком. Появилось у него и новое воинское звание – сержант, которым Яша очень гордился.
Боевое крещение Яша получил под Москвой в ноябре 1941 г. Он был в так называемых сибирских частях.
О начале своей военной карьеры он вспоминал не то чтобы неохотно, но как-то буднично, рассказывая мне о войне, как о рыбалке или о промысле морского зверя. Больше всего ему запомнились не блиндажная жизнь, не разведка боем, не артобстрелы и вообще не немцы, а коварные мартовские морозы, когда пригревающее днём солнце скрывалось к вечеру за горизонтом, и на пехотный полк опускалась по-февральски лютая ночь.
Яша прервал свой рассказ, закатал рукав и показал мне след старой раны. На неожиданно белой для монголоида коже розовел шрам.
После госпиталя Яшу за полгода переучили на танкиста – он стал механиком-водителем. Сам Яша рассматривал свою новую военную специальность с чисто практических позиций.
– Когда я служил в пехоте, пулемётчиком, было хуже, – говорил он. – Хоть пулемёт и стреляет не в пример шибче карабина, но тяжёлый, зараза! Поноси-ка его станок в пешем строю! Он тридцать два килограмма весит! А танк сам тебя возит! Красота!
И вообще, у Яши был оригинальный, совершенно новый для меня взгляд на Великую Отечественную войну.
– Не будь этого Гитлера, – говорил бывший пулемётчик и гвардии механик-водитель, – я всю жизнь на острове и просидел бы. А так я на своём танке где только не побывал. И Европу посмотрел, и Китай.
Яша раз горел в танке, раз был легко контужен, сменил машину и командира. В Европейском театре военных действий он закончил свой боевой путь на берегу курортного озера Балатон.
В июле 1945 года Яшин полк погрузили в эшелон и повезли туда, откуда он пришёл своим ходом, на «тридцатьчетвёрке». Поезд шёл стремительно, без остановок. Эшелон достиг столицы, миновал её и так же безостановочно заспешил на восток, всё ближе и ближе к родным местам Яши. Но поезд не довёз танкиста до дома, а, свернув где-то у Читы на юг, остановился на станции Даурия. Там танкисты разгрузились и маршем дошли до посёлка Дурой. Только здесь личному составу объявили, что Советский Союз будет воевать с Японией.
Яшины воспоминания о пребывании на севере Китая были тоже довольно тусклыми. Видимо, война ему порядком надоела, да и Маньчжурские леса и сопки были похожи на знакомую дальневосточную тайгу, в отличие от европейских парков и дубрав, что также снижало яркость восприятия.
Я смог вытянуть из него лишь несколько эпизодов, относящихся к этой кампании.
Как только танковый полк занял плацдарм и личный состав был построен на плацу перед машинами для уяснения боевой задачи, командир приказал Яше:
– Старшина Таркун (к тому времени Яша был уже старшиной)! Старшина Таркун, выйти из строя на пять шагов!
Яша шёл и думал: «За что же это меня? Награду давать – вроде ещё рано (у него было уже 4 медали), взыскание накладывать – пока ещё не за что».
Яша сделал свои пять шагов и развернулся лицом к строю. А подполковник разъяснил личному составу, зачем он вызвал Яшу.
– Товарищи бойцы, – сказал командир. – Вот примерно так выглядят японцы, наши противники. Но это не японец, а тунгус (подполковник не слышал про такую национальность – нивхи), наш боевой товарищ. Запомните его и не путайте с самураем. А ты, – он обратился к Яше, – держись своего взвода и ходи всё время с друзьями, а то кто-нибудь слишком бдительный тебя пристрелит или будет таскать в штаб как вражеского лазутчика. Встать в строй!
С такими напутствиями 9 августа 1945 года началась Яшина служба в Манчжурии; а уже 10 августа их полк занял город Хайлар.
Яша ничего не рассказывал мне о военно-этнографической экзотике, о смертниках, прикованных к пулемётам, о людоедских самурайских обычаях, об изощрённых пытках при помощи бамбуковых палок. Не говорил он ни об изображении цветка сакуры на самурайских мечах, ни даже о хаси – палочках для еды. Зато он с удовольствием вспоминал о посещёнии кабаков и публичных домов.
В одном питейном заведении чёрт дёрнул попросить у хозяина приглянувшуюся бутылку. Танкиста прельстил не только насыщенно-зелёный цвет жидкости, но и форма бутылки. Сосуд имел облик слона. Нивх уже успел перепробовать в Европе множество крепких напитков. А здесь, в Азии, его потянуло на хоботных.
Дегустация эта вышла Яше боком. Хозяин кабачка, скрытый гоминдановец, увидев своего соотечественника в форме советского танкиста, не стерпел и что-то тайно подсыпал в Яшино пойло (что-то типа купороса, как говорил мой собеседник). Нивх, выпив слоновой настойки, обжёг себе горло и пищевод и попал в госпиталь. Только теперь я понял, почему при разговоре Яша как-то странно сипел.
Кончилась эта история прозаично. Полк уходил из города, а на прощание Яшины боевые товарищи бросили в окно негостеприимному гоминдановцу противотанковую гранату.
А ровно через два месяца после её взрыва поправившийся, но навсегда потерявший способность громко говорить Яша распрощался с полком, пересёк границу Советского Союза и уже на цивильном транспорте: поезде, пароходе и, наконец, на лодке-гилячке добрался до дома.
Мы ещё долго разговаривали с хозяином острова о войне, потом снова перешли на залив Счастья, коснулись его обитателей и наконец дело дошло до птиц.
– А у меня несколько птичьих колец есть, – вспомнил Яша. – Они тебе нужны? Пошли ко мне, они у меня дома лежат.
Мы миновали его огород, сплошь замотанный рыболовной сеткой от чужих ворон и своих собак, сарай, все стены которого были увешаны красными тушками сушащейся юколы, и вошли в низкую избу.
С притолоки единственной комнаты длинными мухоловными бумажками спускались сушащиеся листья морской капусты. Посреди комнаты стоял стол, заставленный грязной посудой. На краю стола лежала единственная в доме, страшно потрёпанная книга – «Валерий Чкалов».
Яша пошарил на подоконнике и достал пригоршню алюминиевых колец.
– На, – протянул он мне их. – Только охотинспектору не говори, он давно подозревает, что у меня незарегистрированное ружьё есть.
* * *
Через неделю я вновь на попутной лодке рыбака, а может, просто браконьера (в устье Амура это всегда одно и то же) плыл среди прядей ползущего с моря тумана на другой остров, в селение, названное в честь друга и соратника Чкалова. Там был магазин.
Возможно в далёкие времена, посёлок, переименованный позднее в Байдуково, и был центром цивилизации. Сейчас же девять из пятнадцати домов были разрушены, а на единственной улице, длиной около двухсот метров четыре кобеля задумчиво обнюхивали суку, а в конце проспекта вопил безмозглый кулик-травник, сообщая всем и каждому, что у него там находится гнездо.
На «набережной» – песчаном берегу – лежала гигантская шестерёнка корабельного двигателя. На ней, словно на пуфике, сидели три пожилых местных жителя, тоже из племени нивхов, и задумчиво созерцали пасмурное устье Амура. Наше появление не исказило аскетических лиц приморских аксакалов.
– Водки нет, – грустно сообщил рыбак, хотя мы ещё не дошли до магазина. – Те трое, что на берегу, сидят дожидаются, когда катер придёт, – пояснил он свою прозорливость.
– И долго они так будут сидеть? – полюбопытствовал я у знатока местных обычаев.
– А катер без расписания ходит. Раз в месяц. Вот они и ждут его всё время. А что им ещё делать? Ну иди отоваривайся, я тебя на улице подожду.
Купив в магазине масла, макароны, зелёного горошка, рыбных консервов и подозрительной карамели (сахар на острове был дефицитом по причине его простейшего трансформирования в огненную воду), а также копеечную польскую фланелевую рубашку апельсинового цвета и поседевший от времени томик Плутарха, я вышел на собачий проспект. Свадьба была в разгаре. Браконьер лениво её комментировал.
Мы вернулись на берег. Один из нивхов, сидевший на шестерёнке, оторвался от стального седалища и подошёл ко мне.
– Ты со Чкалова? – спросил он.
– Оттуда.
– Как там Яшка, наш председатель?
– Председатель? – насторожился я, почувствовав, что открывается новая страница Яшиной биографии.
И скучающий нивх, временами сглатывая слюну и вглядываясь в пустынный горизонт, поведал мне следующее.
* * *
Только через полмесяца Яша добрался от китайской границы до своего посёлка. Здесь всё было по-прежнему. Низкие морские облака, больше похожие на туман, наползали на берег с Охотского моря. Штормы разбрасывали по бесконечным пляжам брёвна, бочки, деревянные ящики, кухтыли с оборванных сетей, а временами – и дохлых дельфинов. Осенью в устье Амура, как в огромную воронку, древний инстинкт загонял серебристые косяки кеты и горбуши, а следом за ними плыли лупоглазые нерпы и тяжело вздыхающие белухи. И люди продолжали рыбачить и охотиться, согласуя свою жизнь с жизнью моря, залива и реки.
От войны на родном Яшином острове остались лишь воспоминания о тяжёлом угаре путин, да ещё туманная молва о фантастическом спецзаказе. За четыре месяца до окончания войны по всем засольным чанам Дальнего Востока по чрезвычайному распоряжению из Центра искали самую большую Красную Рыбу. Через шесть часов после получения приказа огромную чавычу нашли где-то на Камчатке и срочно, на военном самолёте отправили на запад, в Ливадию.
Как говорили, английский премьер-министр, гостивший в Крыму, обронил в присутствии Хозяина несколько слов об этом знаменитом русском деликатесе. И через день ему сделали подарок: два лейтенанта внесли в белый зал Ливадийского дворца поднос, на котором лежала колоссальная рыбина.
По возвращении к родным пенатам Яша пропьянствовал целую неделю. Тяжёлый ритуал был прерван председателем колхоза. Бывшего танкиста вызвали в контору и огласили решение, принятое правлением: Яша, как один из немногих имеющий среднее образование и две специальности (правда, обе – военных) и бывший за рубежом, назначался заведующим магазина и продавцом одновременно.
Он успешно проторговал целый год. За это время он пообвык, медленно отходя от цивилизованных благ Восточной Европы к первобытной дикости Дальнего Востока.
Летом он, вспоминая стародавнее приморское существование, ставил аханы на калугу, осенью сетями ловил знаменитую по всему Амуру байдуковскую кету, такую жирную, что её на сковороде можно было жарить без масла, зимой из-подо льда добывал навагу. А весной, сразу же после ледохода, в Амур шла сладкая, пахнущая свежими огурцами корюшка. Засолённая и провяленная, она давала сто очков вперёд знаменитой волжской вобле.
Яша за время военной кампании не забыл, как обращаться с веслом и сетью, помнил основы прохода между лайдами, мог правильно надеть ялык на собаку и одним движением ножа распластовать даже самую большую кетину, готовя рыбу к засолке. Но в голове у него зрели какие-то планы.
Об этом стали поговаривать, когда Яша собрал у своих приятелей восемь собак, и купил у старика-соседа за бутылку водки сломанные нарты.
Собак он начал интенсивно откармливать юколой и всячески заботился о них (к старости эта привычка, по моим наблюдениям, очень сильно редуцировалась), а нарты починил.
Пошёл второй год царствования Яши в магазине. Поздней осенью ветки кедрового стланика, словно почуяв близкие морозы, пригнулись к самой земле. Когда выпал снег, оказалось, что весь невысокий, распластавшийся лес скрылся под белыми сугробами. Именно в это время односельчане, придя однажды в магазин, увидели его открытым настежь. Сам Яша отсутствовал. Продавца заменяло белое полотнище, склеенное из страниц трёх школьных тетрадей. На полотнище аршинными буквами хозяин магазина информировал односельчан, что он на месяц отправляется по замёрзшему заливу в тайгу, на материк. На охоту. А если кому что надо в магазине, то пусть берёт, но деньги платит. Для денег Яша поставил на прилавок пустой бидон – видимо, вспоминая европейские церковные кружки.
Нивхи удивились нововведению – первому в Советском Союзе универсаму – и сперва даже не решились зайти внутрь. Послали гонцов к Яшиному дому. Там не было ни его, ни собак. А старик-сосед сообщил, что вчера продавец погрузил припасы в нарты, запряг собак и отбыл в неизвестном направлении.
Народу ничего не оставалось делать, кроме как внять призыву Яши и перейти на самообслуживание и саморасчёт, вспоминая лозунг «Совесть – лучший контролёр».
Эксперимент в Байдуково по введению прогрессивного метода торговли наверняка бы прошёл успешно. Зимой селение было изолировано от пришлых людей, а соотечественники относились к бывшему фронтовику с большим уважением и искренне не хотели его подводить.
Но ни Яша, ни его односельчане не учли одного: честными и рассудительными нивхи были только в трезвом состоянии. А в магазине Яши стоял весь зимний запас водки. С него-то местные жители и начали производить закупки, а потом и просто изъятие товаров. Бай-дуковцы уже после первой распитой тут же, в магазине, бутылки водки забывали опускать деньги в кассу-бидон.
Председатель колхоза тоже не проявил должной бдительности и спохватился только после того, как на улицах посёлка во множестве стали появляться бесчувственные тела односельчан. Спешно назначенный заместитель Яши был поражён мерзостью расхищения магазина. Пьяные нивхи помародёрствовали на славу, украв, кроме водки, массу товара, в том числе и единственный на острове велосипед.
В общем, когда, радостный, после удачной охоты Яша на сытых собаках приехал в посёлок, он только и успел похвастаться соседу трофеями – лисьими и соболиными шкурками, как его во второй раз в жизни повезли в Хабаровск. На этот раз под конвоем.
Факт преступной халатности был на лицо. Яшке грозил весьма реальный срок, заметно превышающий его военную эпопею. Но всё обернулось иначе.
Материалы Яшиного дела попали к какому-то ненормальному следователю, который отнёсся к продавцу по-человечески. Яша рассказал ему о своей фронтовой судьбе. Следователь, оказывается, тоже воевал в Манчжурии. По документам он знал о Яшиных ранениях и наградах. Представлял он и жизнь на Байдукове. И белый человек понял азиата. Он сказал:
– Ну вот что, Яков Степанович. Вы, конечно, виноваты. Но советские законы – гуманные законы. Возвращайтесь к себе на остров и живите там. Только, ради бога, не устраивайте больше коммунизма. Нам до этого ещё ох как далеко.
Сказав это, он отпустил Яшу. И продавец вернулся на остров.
– Амнистию дали, – объяснил он председателю колхоза.
Естественно, после попытки Яши организовать на острове взаимоотношения «каждому – по потребностям», из-за того, что потребности в водке оказались неограниченными, бывшего танкиста к материальным ценностям больше не подпускали.
Яша перебрался на соседний остров Чкалов, устроился там на рыбоперерабатывающую фабрику и женился.
Шли годы. Рыбы в море стало меньше, фабрику закрыли, колхоз распался, а Яша ушёл на пенсию. Люди стали покидать Чкалов и селиться в соседних посёлках. Жена Яши умерла, и через несколько лет он остался один на острове, в единственном уцелевшем доме у единственного сохранившегося колодца с пресной водой. Поселок разрушился, на месте рыбоперерабатывающей фабрики остались лишь огромные, вкопанные в землю деревянные бочки – засольные чаны, которые заполнялись трупами случайно свалившихся туда лисиц. Да на берегу лежал треснутый ржавый котёл, такой огромный, что море ничего не могло с ним сделать: ни унести, ни замыть песком. Яша изредка навещал котёл, стрелял в него пулей и смотрел, как отскакивает от проржавевшей стали слоистая ржавчина.
* * *
Нивх вернулся на свою наблюдательную шестерёнку, а я пошёл к стоящим в стороне деревянным домикам, где жили зверобои. Там два оборванных субъекта перебирали огромный невод. Ещё двое мужиков пиратского вида точили напильниками ржавые гарпуны. Повсюду валялись канистры и бочки из-под бензина, обрывки сетей и якоря, сваренные из гнутых ломов. У стен сараев рядами стояли лодочные моторы. Собаки грызли обрубленные хвосты белух.
Главарь этой компании, мой давний знакомый, сидел на берегу за дощатым столом и смотрел на море, как мне показалось, тоже в ожидании катера. Но я ошибся: он наблюдал за оранжевым шаром – буем, который качался на волнах метрах в ста от берега. Шар неожиданно дёрнулся и, как поплавок огромной удочки, ушёл под воду.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































