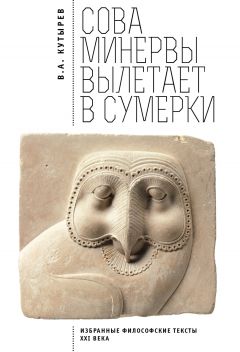
Автор книги: Владимир Кутырев
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Как видим, несмотря на отрицание Бытия, означающего и означаемого, этно-фалло-фоно-логоцентризма, текстуалистский этап деконструкции не является движением к абсолютному ничто. Но к какому-то новому нечто. К какому? Здесь следует опасаться, что найдется «проницательный читатель», по нынешним временам любитель детективов, который захочет ответить на данный вопрос раньше конца сюжета. Скажет: хватит морочить голову метафорами «ризомы», «книги», «текста». Если когда-то они и были нужны, то сейчас очевидно, что все это слепок с С… Стоп. А деконструкция есть идеология функционирования К… Рано. Не надо торопиться. Открытость и прямота суждений – нет ничего более бесполезного в аналитике постмодернизма. Он их отбрасывает как то, что само подлежит деконструкции. Вас обвинят в связях с реальностью и заподозрят в стремлении к истине. Его можно освоить только изнутри, входя и выходя из него. В мыслительной сфере силу и власть дает не разрушительная атака, а понимание. Begreifen ist behershen – говорят немцы. Путь к усыпальнице постмодернизма не пройден, хотя печальная процессия вышла на парадную аллею. Проницательному читателю пора отдохнуть. Кофе-брейк.
Вселенная текста просторна и однородна. Кругом знаки, знаки, знаки. Вещи? Это «неудачное наименование знака». Человек, личность? Это «самоинтепретирующийся текст». Хотя знаки кроме себя ничего не означают, они коммуницируют и внутри текста кипит «жизнь», циркулируют имеющиеся и вырабатываются новые знания. Для рассмотрения этого мира нужна какая-то другая философия, с «неметафизическим» категориальным аппаратом или без такового в его привычном теоретическом смысле. Вообще, какое-то особое «алогоцентричное» мышление, или, может тогда не мышление вовсе. Но деконструктивизм еще не готов не мыслить, хотя к этой цели стремится. И не боясь парадокса лжеца, утверждая, что нельзя утверждать, ищет субстанцию антисубстанциализма, конструирует механизм возникновения и модель «неприсутствия» в присутствии. Желая выразить Вселенную текста в терминах сущего, интепретирует последнее так, чтобы оно представало подготовкой к ней. Или было ею изначально.
Субстанциально, а не реляционно, самостно, а не функционально, сущностно, а не коммуникационно понимаемый текст предстает как Письмо. Оно тоже абсолютное, универсальное, т. е. существовало всегда или по крайней мере возникло не позднее «слова». Ж. Деррида для демонстрации этого базисного положения предпринимает обширные экскурсы в событийную и текстологическую историю, объясняя причину всеобщей недооценки письма по сравнению с речью «логоцентристской репрессией». Ставя задачу его реабилитации, он усматривает первичность письма в иероглифических культурах Востока, а потом, жонглируя хронологией, пытается провести ту же идею применительно к любым, когда-либо существовавшим обществам. Столкнувшись с непреодолимыми трудностями, принципиальной недостаточностью трактовки письма как фиксации устной речи для доказательства того, что требуется доказать, он переопределяет его, делая универсальным и вечным «по определению». Оно не продукт истории, а сама ее возможность. Как возможность существования объективной, «неэтноцентрической» науки и конструируемого ею нового мира.
«Отказавшись от понимания письма в узком смысле слова – как линейной, фонетической записи, – можно сказать, что всякое общество, способное вырабатывать или, иначе говоря, стушевывать собственные имена и играть классификационными различиями, уже владеет письмом как таковым. Таким образом, выражению «бесписьменное общество» не соответствует никакая реальность и никакое понятие. Это выражение – этноцентрическая галлюцинация… Презрение к письму (буквенному) как орудию порабощения речи, грезящей о своей полноте и самоналичии, и отказ признать письмом знаки, не являющиеся буквами, – это один и тот же жест. Мы видели его как у Руссо, так и у Соссюра».[102]102
Там же, С.252.
[Закрыть] Мы видим, что у Деррида письмо не есть запись звуков, слов или что-то производное от мышления. Оно не материализация слова-логоса, не обусловлено им; оно не фонетическое, даже не буквенное (?!). И называется теперь археписьмом (первописьмом, пра, прото, изначальным, вечным письмом) – статус, аналогичный древнегреческому «архе» как причине всего – культуры, общества, мира. В дальнейшем, в рамках специфически постмодернистской теории письма – грамматологии, археписьмо, вбирая в себя «естественную» словесно-буквенную форму, отождествляется с письмом вообще. Речь, язык, иероглифы, ручная запись звуковых слов – его разновидности. Разновидности новой субстанции мира, ее первого этапа. А точнее, субстанции Нового мира, дверь в который открывается (с) письмом.
Письмо – первопричина всего. Было: огонь, вода, атомы, кварки, знаки, а теперь – письмо. Письмоцентризм! То, что письмо преодолевает огонь и воду, атомы и кварки – понятно. Они – элементы метафизической картины мира, категории присутствия. Но со знаками придется повозиться, ибо это отказ от языка и текста, философских завоеваний ХХ века, отказ не только от бытия, но и от его Книги. Новый постлингвистический поворот? Да! Ибо поглощая присутствие, «лингвисты» не ликвидировали его последнее прибежище – логоцентризм. Знак – это все-таки знак чего-то. Присутствие в нем подразумевается, сохраняется как интенциональный феномен. Прогресс посылает запрос на отсутствие, в том числе смысла – на грамматологию как финишную прямую письма. Грамматологический поворот! На этом этапе происходит последний, роковой разрыв со всем «человеческим, слишком человеческим». Если лингвосемиотический поворот был поворотом от природы, от предметной реальности, то грамматологический – и от «зеркала природы», от сознания. Его значение до сих пор не оценено. Одно дело – дискредитация онтологизма, от которого презентистски ориентированные теоретики отреклись давно, за первым поворотом (к чему, показывая природе и Богу язык, привыкает и широкая общественность), другое – гносеология, вселенная знаков, текст. За нее (его) они боролись и продолжают бороться с феноменологизмом и консерватизмом. Даже с неклассической наукой, если она все еще естественная. Тем не менее, чтобы понять явление по сути, надо брать его в связи со всей целостностью. «Знак и божество родились в одном и том же месте и в то же время. Эпоха знака по сути своей теологична. Быть может она никогда не закончится. Однако ее историческая замкнутость (cloture) уже очерчена».[103]103
Там же, С.128.
[Закрыть] Деконструктивизм по своему месту в развитии человеческого духа как раз занят закрытием данной эпохи и разглядыванием, очерчиванием, пропагандой контуров новой, постчеловеческой. За смертью Бога следует смерть знака. Точнее, это завершение смерти Бога в его третьей, разумной ипостаси. Общая смерть Бытия, существовавшего «неслиянно и нераздельно» в виде природы, человека и их духа.
В мире письма знаки сами по себе не несут никакого смысла. Они – «пустые» и больше не составляют семиосферы. Теперь это «не-знаки». С точки зрения метафизики они – ничто, которое невозможно мыслить. Особенно трудно помыслить, что знаки не мысль, что письмо не буквы. Это самоотрицательные действия, но положение обязывает: доведя логоцентризм до ничто, но желая объяснить необходимость подобной процедуры на логическом языке, приходится искать окольные пути. Желая понять море, соляная кукла вошла в него. И растворилась. Она совершила опрометчивый поступок. Для понимания моря достаточно стать рыбой, хотя, правда, утратится представление о суше. Деконструктивизм все чаще и надольше заходит в море, плавает в нем и по нему, некоторые его представители превратились если не в рыб, то в двоякодышащих и любя его больше суши, выражают интересы мира (моря) рыб (письма). От имени морских и земноводных насельников они соблазняют людей присоединится к ним. Сами рыбы давно не молчат. Они (архе)пишут. Просто мы их не понимаем. Вот почему, передавая послание рыб земным, то есть, по старинке дышащим, словомыслящим и буквопишущим существам, деконструктивизм вынужден прибегать к намекам, аналогиям, рисуя и перечеркивая «знаковые» слова или должен изобретать термины, которым бы в наличном мире ничего не соответствовало. Благодаря этому, однако, все «топчущиеся внутри бытийно-метафизического загона» могут кое-что увидеть за его оградой. На большее, чем кое-что, рассчитывать не стоит. Так всегда коммуницируют с теми, кто плохо воспринимает передаваемое – с глухими или ино-странцами.
«Пустые знаки» – вид, элементы ничто, но именно они, перестав быть «носителями мысли, покорной голосу бытия» (М. Хайдеггер), являются строительным материалом письма. Они носители заключенного в них содержания, его «алфавит». Единицы такого алфавита определяются как граммы. Их отличие от букв и знаков в том, что они не несут смысла. Состоящая из подобных единиц грамматология есть зрительное выражение нигитологии. Первым и последним словом грамматологии, ее основополагающими грамма-категориями являются 1) trace и 2) differance. По-русски это 1) след, черта, рисунок на кальке (см. Словари), 2) примерно, поскольку это авторское изобретение Ж. Деррида – различание, промежуток, отсрочка, пауза. След-черта и промежуток-отсрочка ничем не обусловлены, они существуют сами по себе, как все письмо. Нельзя указать того, что они обозначают. Они causa sui, субстанция, только без субстрата, поскольку относятся к области отсутствия, небытия. Небытия не вообще, а для этно-фалло-фоно-логоцентристов. Значит – к инобытию. Пустые знаки пусты в области присутствия. Для нас они – «вещи в себе». В письме они – все: субстанция, сущее, феномен, структура, правда, не вещей, а отношений, которые «старше» вещей. Граммы являются кирпичиками становления какой-то другой, не «макро» реальности. Какой-то.
Посредством грамм происходит «стирание имен собственных», артикуляция, дробление ничто=хаоса на элементы. Осуществляется сущностное условие его организации и самоорганизации: чувственное снимается рациональным, вещи превращаются в концепты, естественное в искусственное. Происходит окончательный отказ от связи текста с человеком как его причиной. Текст саморазвивается и самофункционирует. Автомат/изм/ – вот обнаженное тело письма. Грамматология есть теория автоматизированного, потом полностью автоматического писания, пред-писания, про-граммирования. Автоматическое письмо – машинопись. В ее свете видно, что догадки насчет трактовки борьбы с логосцентризмом как борьбы с истиной поверхностны. Это борьба именно со словоцентризмом, со Словом, с языком. Естественным. С мышлением, каким сих пор живет, обладает Homo sapiens. С sapiens ради Постsapiens как Гиперsapiens постhomo. Немыслимо. Если это правда, то она чудовищна. Неужели ее удастся доказать?
Избавиться от дурной привычки думать, рассуждать употребляя сразу или для закрепления результатов слова (сотни тысяч лет!) очень и очень тяжело. Однако приходится. В ключевой для генезиса мышления ситуации «стирания имен собственных» метафизическое сознание, боясь взглянуть в лицо своей печальной судьбе, услужливо подсказывает, что это другое название процессов отождествления и различия, обобщения и классификации, абстрагирования и конкретизации. То есть обычная языковая практика овладения бесконечным многообразием единичного, и что под маской письма речь идет о том же Логосе. Тогда были бы понятны утверждения о первичности, безосновности, немотивированности письма. И можно облегчено вздохнуть, ибо благодаря малому оппортунистическому злу в виде отказа от постановки вопроса на полную глубину, удается уйти от ответа за большое преступление против фактов истории, которые говорят или ( «пишут») что она в основном состояла из бесписьменных обществ. Вздохнуть прежде всего идеалистам, считающим, что в начале было «слово», которое тоже ничем не мотивировано. А опосредованно и тем, кто полагает, что хотя в процессе стихийной жизнедеятельности выделялись вещи, они по мере возгонки чувственных впечатлений в верхние этажи сознания «метились», обозначались, получали имя и становились пред-метами, которые и являются содержанием собственно сознания. Это так и не так. Так, потому что в обоих случаях речь идет об основе, генезисе и формах овладения миром. В том и другом случае описывается механизм производства знания. Но миры – разные. Механизмы возникновения и способ функционирования знания – иные. Отождествление – различение приводят к образованию предметных образов и понятий, которые далее взаимодействуют по законам человеческой логики и психологии, обусловленных природой означаемого и означающего, то есть «присутствием». Это мыслящее Бытие. След-отсрочка, черточка-промежуток открывают возможность обработки хаоса посредством бесчисленных комбинаций грамм безотносительно к присутствию. Они в нем не нуждаются. Это бытийствующая Мысль. Обработка хаоса есть его организация, образование порядка. И следовательно – рационализация. Рациональность – конечная цель чистого мышления. Но она несоразмерна человеку, замкнута на себя и выходит за пределы его логики (формальной и «диалектической»), не говоря о том, что чисто логически этно-фалло-фоноцентричные существа не мыслят. Их рассуждения всегда обременяют чувства, образы, метафоры и прочие до-мыслы. В том числе и сейчас у пишущего эти строки насчет грамматологической=постлогической=постче ловеческой рациональности. Чувства ему подсказывают, что он начинает запутываться, домысливая за грамматологию то, чего в ней нет.
На самом деле, в натуре, для не имеющих прямого органа восприятия письма, его реальность состоит в том, что мы видим какие-то нанесенные на поверхности штрихи, значки, фигуры, рисунки и пропуски. Разной формы и калибра. Бесконечный ряд интервалов как отрицаний, говорящих о нетождественности одного отрицаемого другому. И не больше, на что торжествующе указывают критики постмодернизма, возмущаясь, что их дурачат: накрыли толстым терминологическим одеялом и делают темную. Мы видим игру различий вместо игры вещей и физических сил. Программирование вместо теоретизирования. Дошедшее до автоматизма писание вместо мышления. Вме. сто философии – грамматологию. Иначе говоря, осуществленную деконструкцию. «Чем деконструкция не является? – да всем! Что такое деконструкция? – да ничто!»[104]104
Деррида Ж. Письмо японскому другу. // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 57.
[Закрыть] За/со/вершенный постмодернизм! На самом деле.
Если цель достигнута, это значит – победа. Или поражение. По мнению тех же назойливых критиков, мы свидетели торжества паразита, который после гибели хозяина умер сам. От истощения. Пиррова победа – момент истины, раскрывающий бессмысленность всей деконструктивистской затеи. В этом источник слухов о смерти постмодернизма. Были обещания оставить за философией хотя бы «разговор», литературный жанр. Многие, вроде нас, им поверили. Теперь просто нет слов. Но кроме «шока и трепета» победа грамматологии, порождает споры. В разгар одного из них на белой стене аудитории откуда-то появился черный транспарант:
Да здравствует 11000101117423894646 =:[] ж:-):-7
Скорее всего это «подсказка» того же проницательного любителя детективов, что-то в духе «мене, мене текел, фарес» во время пира Валтасара. Письмо: «Исчислил Бог царство твое и положил ему конец. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Дни твои сочтены». Адрес: Чело-век XXI. Измерен, со-считан, у-ничтожен. Кого приветствует = кому угрожает данный типично постмодернистский жест? Своей загадочностью он усиливает шум и смятение общества, доводя споры до выхода из-под контроля. До всеобщего столпотворения при столкновении миров. Мы считаем его выход/ кой/ом за пределы дискурса. Он (она) требует адекватного ответа.
2. Философия Иного, или небытийный смысл трансмодернизма[105]105Перерыв на обед.
Вопросы философии. 2005. № 12.
[Закрыть]
Деконструкция – генеральная линия постмодернизма в философии и теперь, пожалуй, его классика. Это первый этап – «бури и натиска» нигилистичской (нигитологической) революции в отношении существующего Гомо сапиенс, его вещно-событийного мира, телесного бытия и словесно-теоретического мышления. Деконструкция – постмодернизм in nuce, хотя ее нередко отождествляют с постмодернизмом вообще, из-за чего и делается вывод о его смерти. Но генеральная линия это тенденция, пунктир, реальное движение представляет собой множество ветвящихся течений, поворотов и отклонений. Некоторые первоначально захваченные деконструктивизмом теоретики предпочли «отстать от поезда» до его прибытия на конечную станцию «грамматология». Среди ехавших и слепо восторгавшихся новой философией вдруг явились люди, раздающие пассажирам листовки с предупреждением о движении к концу света. Который действительно состоялся, пока, к счастью, теоретически, для небольшой части человечества, его авангардного авангарда, тем или иным образом соглашающейся уйти на «тот свет». Остальные миллионы землян продолжают быть консервативными этно-фалло-фоно-логоцентристами, нуждающимися в «рассказах», различении субъекта и объекта, означаемого и означающего, в феноменологическом реализме, мудрости и даже мифологии. Они чувственны, пристрастны, у них слабо технологизированные души и до трансформации в автоматически пишущих производителей интеллектуального текста должна пройти целая нигитологическая эра, которая явно не пройдет гладко. Сами проповедники деконструкции человеческого бытия несут в себе его «родимые пятна» в виде естественно-телесных потребностей. Это их ахиллесова пята и драма всех обитателей грамматологического мира, но для тех, кто не безнадежен – надежда.
Помимо общей пролиферативности постмодернистского философствования, в нем, как после всякого революционного взрыва, наступил этап реставрации. Заговорили о необходимости «возврата к метафизике» и «воскрешении субъекта». На первый план выдвигаются концепции авторов, не доехавших до последней станции, а те, кто прибыл и не знает, что дальше делать, занялись расконсервацией пропущенных точек роста. Провозгласивший смерть человека М. Фуко в конце собственной жизни обратился к герменевтике субъекта. Внимание привлекают высказывания Ж. Деррида типа того, что лично, как человек, он «метафизику всегда любил» и утешения Р. Рорти, что пока есть библиотеки и праздный досуг, «анормальный дискурс будет порождаться также спонтанно, как летят искры горящего костра». Возникли дискуссии о способах преодоления оппозиции между субъектом и объектом, означаемым и означающим без ликвидации самих этих сторон. Вместо радикального ниспровержения присутствия возобновляется интерес к гуссерлевской методике его «эпохе» и теории интенциональности. С 90-х годов во французской философии длится своего рода феноменологический бум (См.: Винсент Декомб. Современная французская философия. М., 2000), в англоязычной укрепляется вектор неоклассики. Слышны голоса о неосубстанциализме, правда, с невнятной смысловой квалификацией. Эти возвратные процессы хорошо вписываются в понятие «позднего постмодернизма» или after-postmodernism-a. В нашу литературу этот термин тоже вброшен и хотя выглядит диковинно, нет сомнения, что как понятие он будет осваиваться. Содержательное развитие мысли идет в его направлении: констатации кризиса деконструкции, одновременного признания кризиса ее критики с позиций ее непризнания, поиск новых подходов к «восстановлению проблемных полей».[106]106
Пишут: послепостмодернизм, пост-постмодернизм, в «Новейшем философском словаре» Минск, 2001 г. дано без перевода как after-postmodernism. Думается, что на данном этапе выражением духа времени был бы языковый кентавр (химера, монстр): afterпостмодернизм (его недостатком является нетехнологичность при компьютерном письме, которая может быть сглажена аббревиатурой: АПМ), хотя в дальнейшем, после конкретизации этих «пост», мы постараемся выйти на более содержательный термин.
[Закрыть]
В АПМ, кроме того, что под ним подразумевается все, что не вошло, не дошло или больше не желает участвовать в деконструкции метафизики, логично включать и тех, кто, соглашаясь с тупиковостью дальнейшей борьбы с ней, предлагает на освободившемся месте возводить новое мировоззрение. Проблемные поля восстанавливаются, однако занимать их надо чем-то другим. «Послереволюционная» обстановка похожа на то, как если бы неистово рубившая лес толпа вдруг бросила топоры и стала раскаиваться в содеянном, хотя по-разному. Одни ушли с обезображенной территории, поклявшись больше не брать в руки орудий разрушения, вторые вокруг чудом сохранившихся островков деревьев выставляют охрану, третьи тащат из дальнего леса молодую поросль, намереваясь засадить ею опустошенные площади. А кто-то пытается приставить срубленные бревна к их персональным пенькам. На эту реставрационную, консервативно-экологическую и природолюбивую суету скептически смотрят, кто снисходительно, кто с презрением наиболее научно оснащенные и философски продвинутые лесорубы. Они предлагают единственно по их мнению разумное решение: уж коли так случилось и чем-то надо заниматься, то целесообразно, проведя дозачистку пустыря, начать на нем что-то проектировать, строить, создавать. Например, технопарк. Парк почти тот же лес, тем более когда вспомним, что после лингвистического поворота язык признается значимее чувственно-предметного восприятия. Важно не то, что видят глаза, слышат уши или нюхает нос, а то как это названо. Короче говоря, хватит отрицать, рубить и корчевать. Деконструкция закончена, забудьте о ней. Пора переходить к «позитивному постмодернизму», а результаты предыдущей деятельности пригодятся как материал. Это будет действительный afterпостмодернизм. Новый, перспективный этап в развитии философии.
Если вопрос с реставрационной трактовкой (компонентой) АПМ довольно ясный и схематично уже обрисован, то предлагаемая новационно-прогрессистская линия требует анализа. Пока непонятно, как она вписывается в afterпостмодернистское философствование и какой технопарк будет проектироваться на месте лесопарка. По этому случаю я позволю себе высказать оценочное суждение: в России центр философского постмодернизма, его авангард находится в Санкт-Петербурге. Там «свил гнездо», сформировался «видимо-невидимый колледж», а может, не побоюсь нелиберального слова, коллектив единомышленников и ис/по/следователей. Мы видим не отдельные, не связанные друг с другом публикации, переводы и выступления, а некую целостную программу, «питерский эгригор» постмодернизма. Если в стадии деконструкции его идеи в основном отслеживались и пересказывались, то проблематика АПМ развертывается вполне оригинально. Ставится прямая задача тематизации новейших явлений мировой теоретической жизни. «В предлагаемом издательством (Алетейя – В. К.) серии (Тела мысли – В. К.), – пишут в предуведомлении члены ее редакционного совета, – предпринимается попытка осмысления и обоснования новой парадигмы гуманитарной культуры, приходящей на смену постструктуралистско-деконструктивистскому подходу. Потребность в таком парадигмальном сдвиге вызревала по мере того, как, с одной стороны, критика деконструкции, исходившая из традиционных и сциентистских представлений, все более явно обнаруживала свое теоретическое бессилие, а с другой – не менее явным становился переходный характер деконструктивизма и постмодерна в целом. Главным вопросом становится не после чего они, а перед чем и в обосновании чего.[107]107
В поисках новой гуманитарной парадигмы. // Перспективы метафизики (классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков. С-Пб, 2001. С. 5.
[Закрыть]
Да, перед чем и в обоснование чего – вот в чем смысл философского рассмотрения afterпостмодернизма, его соотношения с исторической метафизикой. Мы полагаем, что он шире проблематики гуманитарной культуры. Это вопрос о сохранении бытия человека или торжестве в мире чего-то иного.
Впечатляющая попытка преодоления метафизики не через отрицание, а содержательно, через замещение мышлением принципиально другого типа предпринята российско-американским автором М. Эпштейном в книге «Философия возможного» С-Пб, «Алетейя», 2001. Всякая метафизика, справедливо подчеркивает он, опирается на тождество, на нечто, существующее с необходимостью и субстанциально – бытие, жизнь, идею, феномен и т. п. Деконструкция, опираясь на различие, стремится уничтожить эту самость, но как таковая существовать без нее не может. Размыкая метафизический круг, она в нем остается, так или иначе разделяя судьбу многих антиметафизических проектов ХХ века, оказавшихся малоэффективными, потому что заключали в себе «обратную метафизику». Выступая против бытия, они делали это в его плоскости, борясь за свободу, провозглашали «истинный» взгляд на мир, т. е. рассматривали собственную деятельность как необходимую и реальную. Деконструкция тоже мировоззрение и предполагает, хотя критическую, но единственную модель мира. «Следы» не материальны, атопичны, «граммы» пусты и ничего не отражают, но они находятся в горизонте существования, характеризуясь предикатом «есть». Между тем «философия вовсе не обязана связывать себя с миром сущего и должного, с действительностью и с необходимостью. Призвание философии, которое открывается перед ней в посткритическую эпоху – третья модальность, мир возможного. Философия до сих пор старалась объяснять или изменять мир, тогда как собственное ее дело – умножать возможные миры».[108]108
Эпштейн М. Философия возможного. С-Пб, 2001. С. 53–54.
[Закрыть]
Сущее и должное – изъявительное и повелительное наклонения языка. С ними можно соотнести классический, описательно-объяснительный и модернистский, деятельностно-проективный этапы развития метафизики. Сейчас человечество устремилось в сослагательное наклонение. Интерпретируя деконструктивистские тексты, М. Эпштейн замечает, что их авторы, весьма часто апеллируя к категории возможного, не придавали ей парадигмального смысла. Деконструктивизм вплотную подходит к нему – и останавливается. Останавливается перед тем, чтобы вместо отправленных в оставку онтологии и эпистемологии стать потенциологией; перед «гиперметафизикой» как формой снятия метафизики; перед концептивизмом как позитивной деконструкцией. Другими словами, хотя сам автор таким термином не пользуется – перед afterпостмодернизмом. Нужно, наконец, перешагнуть от «пост» к «прото», после чего мы выйдем на простор неограниченной условности и игры. «Философия третьей эпохи не скрывает своей чистой условности. Эта открытая форма значимости лишена всякого определенного значения. Она ничего не значит ни для мира, ни для индивида, ни для общественного благополучия».[109]109
Там же, С.142.
[Закрыть] Она создает собственную, чисто мысленную, не зависящую от эмпирических фактов историю событий и «космософию возможных миров». Плюрализм внутренне обусловлен потенциализмом, другие модусы мешают его последовательной реализации. «Не держаться определенного взгляда на вещи – это, пожалуй, и есть подлинное миро-воззрение. Видеть – значит менять точку зрения. Один взгляд на вещи – почти что слепота».[110]110
Там же, С.153.
[Закрыть]
Значение потенциализма видится в том, что он открывает перед философией невиданные, небывалые перспективы: 1) выводит из тупика грамматологии; 2) избавляет от связи с реальностью; 3) ограждает от воздействия других форм сознания. Никто ей больше не нужен.
Так это свободное, ничем не стесненное творчество – обрадованно воскликнет представитель креативно-деятельностного модернизма. И сильно ошибется. Если творчество есть актуализация замысла и говорит «будь» чему-то сущностному, то потенциализм создает произвольные конструкты, переводящие творческий акт в сослагательное наклонение. В плане модальности они противоположны: первое делает возможное действительным, а второе превращает действительность в возможность. Конструкт – своего рода неудача творчества, его деконструкция и одновременно творческий выход за ее пределы. В отличие от творения, подчеркивает М. Эпштейн, конструкт не может быть «живым существом и частью Божьего мира» – это искусственное или естественно-искусственное образование, некая химера как ступень к иномодальным порядкам универсума. Конструкт есть завершение критики реальности, позитивность которого превосходит логоцентрические формы ее познания или преобразования.
АПМ, преодолевая метафизику на путях ее «преизбыточности», наряду с предметно сущим избавляется и от мысленного как трансцендентного. «Трансцендентные вещи – другие не только по «локусу», но и по «модусу» своего существования, т. е. не только обретаются за пределом существующего мира, но и за пределами модальности существования» (курсив мой – В. К.) как таковой»[111]111
Там же, С.172.
[Закрыть]. Трансцендентное как и сущее не актуально, а потенциально, отличие же в том, что оно высшая, предельная потенция. Этот взгляд на трансцендентное прямо противоположен и «реализму», и «идеализму», всей классике, особенно с Аристотеля, у которого Бог обладает высшей актуальностью – и любому теоцентризму монистических религий. Иерархия бытийности переворачивается. Трансцендентное не «возможный опыт», как у Канта, а «опыт возможного». Опыт как продукт мышления – не больше. Иерархия не просто переворачивается, она исчезает – вместе с бытием, ибо максимумом возможного обладает, как известно, ничто. Это предельное воплощение чистых возможностей, абсолютная потенция, исходя из которой мир есть «все по имени ничто». Вот фундаментальная гарантия от «фундаменталистской угрозы»! Потенциализм по своей тенденции – нигитология. К ней приходит, хотя об этом не объявляет, М. Эпштейн.
К похожему результату философия возможного ведет в любом, даже не столь радикальном варианте, так как распределяя бытие и небытие по разным модальностям, отвлекается от того, что они друг без друга не существуют и всегда опосредованы «нечто», по отношению к которому и можно определять меру действительного, степень напряжения в его противостоянии отсутствию. Филологическое снятие диалектической противоречивости вещей уводит от раскрытия их процессуального характера, пронизанности у-ничто-жением с сохранением тож-дества как «пребывания посредине». Оно пропускает, оставляет без внимания наиболее драматическую сторону их судьбы и уходит от принципиальных для человеческого мышления трудностей, которые метафизика так или иначе решала или пыталась решать. Отдавая дань трактовке бытия через овозможение и перевод в сослагательное наклонение как важному этапу на пути самотрицания человека, борьбы с ним, мы должны ограничить претензии потенциализма на передовую и последовательную «прото-философию». Оно скорее подготовительное, поисковое. Территорию, расчищенную деконструкцией, более успешно осваивает родственный овозможению тип сознания и деятельности, но не обремененной пережитками (знания) метафизики и произрастающий из самой эмпирии научно-технического прогресса.
Кроме возможного как непроявленного, противопоставляемого актуальному и действующему: realis – вещество, материя, существующее (зародыш – потенция ребенка), по латыни есть «другое возможное» – виртуалистское. В нем на первый план выступает нереальное, сверхсубстратное, идеальное: virtus – доблесть, энергия, воображаемое (потенция как выражение мужской силы). В истории культуры эти тонкие различия переплетались, менялись, утрачивались. Постмодернистское сознание движется в сторону виртуальной интерпретации возможного при его одновременном «склеивании» со своей противоположностью – реальным. Образуется «виртуальная реальность» – гибрид, который с монистической точки зрения кажется воплощением абсурда, жареным снегом и деревянным железом. Насчет снега утверждать трудно, но техническая обработка дерева, придающая ему качества железа, существует. Как есть генетические методы наделения живых организмов взаимоисключающими в естественной среде свойствами. Также и в сфере духа происходят сочетания и мутации, понимать которые невооруженному человеческому уму все сложнее, а технологии понимания быть не может. Если технология – то это знание, которое опять надо понимать, то есть придавать ему ценностный смысл, переживать и субъективно оценивать. Образуется так называемый герменевтический круг – спаса/и/тельный, если умело им пользоваться, замкнутый, когда его пытаются разорвать силой, особенно машинной.









































