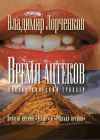Текст книги "Кукурузный мёд (сборник)"

Автор книги: Владимир Лорченков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
– Ты, впрочем, баран, один хер ни хера не понял, – сказал он.
– Ну так налей мне еще, – сказал он и протянул кружку.
Пастушонок нацедил вина в кувшин, принес Лоринкову и вдруг на неплохом русском языке сказал:
– В село приходить несколько человек, спрашивать про твоя, – сказал он.
– О-ла-ла, – сказал Лоринков, мгновенно протрезвевший.
– Твоя есть француз? – спросил пастушок.
– Кто моя есть, пусть тебя не парит, антисемит проклятый! – обиделся Лоринков.
– Почему о-ла-ла тогда сказать? – спросил пастушок.
– Много непониманий, – сказал он.
– Почему не учить румынский? – спросил он.
– Молдавия жить, учить румынский, гость гребанный, – сказал пастушок сурово.
– Гм, виноват, – сказал Лоринков. – Так что там с гостями?
– Несколько человек, крепкий, физически развитый, интеллектуально также вполне, – сказал Сашка, как раз ночью слушавший по «Маяку» урок русского на тему «Описать облик человека».
– Чего хотели? – сказал мужчина.
– Спросить где есть прятаться ты, – сказал пастушок.
– Вы, – сказал Лоринков.
– Почему вы? – сказал пастушок.
– Есть один твой, значит ты, – сказал он.
– А что твоя им сказать? – спросил слепец, перенимая манеру разговора мальчика.
– Моя сказать правда, потому что правда есть высший добродетель всякий мыслящий и уважающий себя человек, – процитировал радио-урок русского, цитировавший Чехова, пастушок Сашка.
– Твоя есть дебил, – горько сказал Лоринков.
– Еще они передать тебе один предмет, – сказал пастушок, не обидевшись на незнакомое слово «дебил», которое, видимо, служило Лоринкову подобием английского «соу», так часто он его произносил.
– Какой? – сказал Лоринков и от страха даже перестал притворяться слепым.
– Вот она, – сказал пастушонок и протянул руку.
Лоринков, замерев от ужаса, увидел на ладони пастушка оранжевый кружок, в позапрошлой жизни служивший номерком в какой-то раздевалке.
– Етическая метка, – прошептал он в страхе.
– Етическая метка, – кивнул пастушок.
– Так они и сказать, – сказал он.
– Передать еще, твоя отдавать карта где есть зарыт тумбочка, тогда тебя оставлять живой, – сказал он.
– Фу блядь, ну и вонь! – сказал он.
– Пардон, – сказал Лоринков.
– А говорить не француз, – сказал осуждающе пастушок.
– Малец, слушай меня, – схватил его за руку Лоринков и жарко задышал в лицо луком, фасолицей и вином, отчего Сашке Танасе снова стало плохо.
– Люди эти разбойники, – сказал он.
– Смерти моей хотят, – сказал он.
– Русские фашисты гребанные, расисты и русофобы! – сказал он.
– Антисемиты на ха! – сказал он.
– Ты хоть понимаешь что я говорю? – спросил он.
– Твоя ругатья, – сказал Сашка.
– Верно, а твоя слушать, – сказал Лоринков.
– Ночью я соберусь, и тихонько из села уйду, а ты ничего не говори тем злым людям, что пришли, – сказал Лоринков.
– А когда они поймут что я ушел, скажи, что я в сторону Приднестровья побрел, – сказал он.
– И что слепой я понарошку, тоже не говори, пусть думают, что за инвалидом охотятся, – сказал он.
– Все понял? – сказал он.
– Моя помочь твоя, ладно, – сказал пастушонок.
– А твоя мне за это подарить своя блокнота? – спросил он.
– Это еще зачем? – спросил Лоринков.
– Моя мечтать стать писатель! – сказал пастушок.
– Моя тоже! – сказал Лоринков.
– Ладно, половину блокнота тебе, – сказал он.
– По еплу! – сказал мальчишка.
– В смысле по рука! – сказал он.
Лоринков, в мыслях перенесшийся в Москву, где он намеревался схорониться в Литинституте, глубоко вдохнул кислый, вонючий воздух подвала, и сказал с чувством:
– Прощай, немытая Молдова, страна рабов, страна мудил!
* * *
Но честолюбивым планам псевдо-слепца не суждено было сбыться.
Ночью Лоринков, собравшийся бежать из села, услышал, как отпирается дверь подвала. От страха у него случился удар, который он поначалу принял за обморок. А когда все понял, было поздно… Лоринков лежал на полу без движения, остывал, и жалел лишь, что случилось все в подвале, а не под чистым небом. Хотелось перед смертью увидеть звезды. Нестерпимо болела левая рука. Боль разливалась по телу и стискивала грудь. Лоринков даже голову не мог поднять, чтобы посмотреть, кто это шуршит рядом с ним. Мышь, устало подумал псевдо-слепец. Но это оказался пастушонок Саша Танасе…
Деловито обшарив тело, пастушонок, торжествуя, вытащил из кармана Лоринкова блокнотик. Перелистал, светя фонариком, улыбнулся. На поступление в Литинститут и место второразрядного русского писателя хватало. Значит, это уже уровень лучшего молдавского классика, знал подкованный в литературе пастушонок. О-ла-ла, неожиданно весело подумал он.
– Сашка, ты? – слабым голосом спросил Лоринков.
– Моя, моя, – сказал пастушок, погасив фонарик.
– Они ушли? – спросил Лоринков.
– Они не есть существовать, – сказал пастушонок.
– Они есть мой оргазм то есть фантазм, – сказал он.
– Моя есть играть воображений, чтобы все получаться как в рисованный кинофильм «Остров сокровищ», – сказал он.
– И ты сдохнуть, а моя получить все! – жестко сказал он.
– Корочка член Союза Писателя Молдова, бюст на Аллея классик, почет и уважения, гребанный рот! – сказал пастушонок.
– Дастархан не вынести двоих! – сказал он красивую, услышанную где-то, фразу.
– Дастархан это скатерть… – сказал, умирая, Лоринков.
– Не тебе, русская чурка, учить меня узбекский язык! – сказал пастушок.
– А как же гуманизм?! – спросил, страдая, слепец.
– Умирать ты сегодня, я завтра! – сказал Сашка Танасе.
– Это есть гуманизм природа, – сказал он.
И пошел к выходу.
– Во имя Господа всемилостивого и всемогущего! – сказал Лоринков.
– Глоток вина перед смертью! – сказал он.
* * *
…Позже, глядя на свой бюст на Аллее классиков, установленный за Нобелевскую премию, полученную за произведение «Табор уходит на ПМЖ» – переписанное из блокнотика Лоринкова, – бывший пастушонок Сашка Танасе задумчиво улыбался. Вспоминал, как – услышав предсмертную просьбу, – вернулся к бочке, нацедил стакан вина, и поднес кружку к губам умирающего. Как тот, булькая и сплевывая, отпил чуть-чуть, и умер на руках у мальчишки. Как пастушонок закопал его под бочкой – чтобы несчастный напился уже хотя бы после смерти, – и присыпал песком. Как никто ничего не заподозрил, потому что каждый житель деревни давно уже мечтал убить чужака и украсть все его деньги. Значит, кому-то повезло, думал каждый в деревне. Интересно, кому, думали деревенские.
Думая об этом, Сашка Танасе часто вспоминал фразу, которую слепой произнес, выпив вина, после чего умер.
Кажется, она звучала так.
– Драгоценный мой! Брынза не бывает зелёного цвета! Это вас кто-то обманул.
Что это значит, и какое отношение имеет к истории слепого, Саша так до сих пор и не понял.
На балу у Залупашки
– Залупашка, сюда!
– Залупашка, туда!
– Залупашка, воды и булавок!
– Залупашка, а теперь фату!
– Залупашка, ноги в руки и бегом!
И когда бедняжка Залупашка, приняв буквально идиому, перекочевавшую в молдавский язык из русского в ходе многовекового гнета, разрушенного ветром национал-освободительных движений лишь в конце 20 века, – как красиво говаривал учитель Лупу, – взяла ноги в руки и попробовала идти, смеялась вся деревня. Хохотали до слез все, а особенно мамаша Залупашка и две ее сестрицы. Конечно, не родные они были девчонке: настоящая мать Залупашки, Вера Павличенку, давно уже работала в Италии горничной, выносила горшки из-под какой-то старой итальянской дебилки, да присылала домой каждый месяц по триста евро. За это отец Залупашки не гнал ее из дому, кормил – пусть плохо и нерегулярно, – и давал приют. Да, это была его родная дочь, но толку в ней не было никакого. Ведь Залупашка была дурочкой. Разговаривала она плохо. Скорее, мычала. Да, грудь у ней была тяжелая, наливная, но ноги – толстыми и короткими. Это, в принципе, не портило ее обычную для сельской местности фигуру, но Залупашка была обычно так грязна и замарана, что трогать ее брезговали даже изголодавшиеся по бабам – те ошивались в Европах да Подмосковьях – молдавские мужики. Девушке было пятнадцать лет, она пасла сельскую скотину – и колхозную, и частную, да еще и стада зажиточного фермера Плахотнюка, – и была очень несчастна. Как это часто бывает с детьми от родственных браков, – отец Залупашки был троюродным братом ее матери, что для молдавской деревни дело нормальное, – она немножко приволакивала ногу. Но, конечно, мечтала о принце. Ведь Залупашка была девушкой. А всякая девушка, – даже если она приволакивает ногу, и пасет скот, – мечтает, что рано или поздно компанию ей составит настоящий принц. Залупашка так и мечтала.
– Вот поведу я отару овец на пастбище, – думала она, потому что думать у ней выходило складнее, чем говорить.
– А навстречу мне Он, – думала она.
– Красивый, стройный, как Фэт-Фрумос, – воображала Залупашка.
– Обязательно в костюме и чтобы очки были, – думала она.
– Ну, конечно, без недостатков, – соглашалась про себя Залупашка.
– Пусть… ну, пусть, к примеру, он приволакивает ногу, как я, – придумывала Залупашка недостаток для своего принца.
– И вот он подходит ко мне, волоча ногу, берет меня за руку, и мы идем вместе пасти овец, приволакивая каждый свою ногу, – мечтала Залупашка.
– Отныне вместе и навсегда, – обрекала она себя и принца на бессмертие.
История была такой красивой и от нее так сладко щемило сердце, что Залупашка думала даже записать ее. Да вот, беда. Писать девушка так и не научилась, потому что ее со второго класса забирали со школы в поле. Табак убирать, кукурузу сеять, еду готовить. А когда в доме появилась новая женщина – злая ведьма Аурика Патрунджел, – житься бедной Залупашке не стало. У новой жены отца были свои дочери, так что несчастной Залупашке доставались одни ошметки, да объедки. Мучилась она страшно. Недоедала, мерзла, плакала… Работала за троих. Поэтому сельчане и прозвали ее как киноактрису О. Орлову из одноименного фильма про такую же девушку – Залупашка…
А на самом деле звали ее Настика.
* * *
– Залупашка, ну ты и дура! – отхохотавшись, сказал учитель Лупу.
– Руки в ноги это такой словесный оборот, – сказал он, поправив очки.
– Это, буквально, идиома, – сказал он важно.
– Перекочевала она в молдавский язык из русского в ходе многовекового гнета, – продолжил учитель Лупу.
–… разрушенного ветром национал-освободительных движений лишь в конце 20 века! – воскликнул он.
Все, кто были в комнате, помолчали, как на похоронах или торжественной паузе в честь жертв советских репрессий – БАМов всяких, целины… Потом продолжили наряжать невесту. В комнате были одни женщины. Ну, не считая учителя Лупу. Но тот был настолько самовлюбленным, – знали все в селе, – что при нем можно было свободно раздеваться. Все равно учителя Лупу возбуждал только один человек на свете. И это был учитель Лупу. Поэтому подружки невесты легко и непринужденно одевали счастливицу прямо при учителе. Тем более, что тот всегда много и забавно болтал, скрашивая времяпровождение в ожидании вечерней свадьбы, танцев, и драки… Залупашка, всхлипнув, встала и потерла бок.
– Принеси обувь, – зло сказала ей мачеха Патрунджел.
Выдавали замуж ее старшую дочь, так что Аурика нервничала. Отобьют ли новобрачные кредит, который взяли под свадьбу в банке столицы, беспокоилась Аурика. Кредит так и назывался «Свадебный». Процент был небольшой – всего – то сорок годовых…
Залупашка принесла сапожки. Красивые, ярко-розовые, в блестках. Они удачно гармонировали с поясом – семицветным, присыпанном позолотой, маленькими зеркальными бусами и даже булавками (искали все, что блестит). Ну и само платье – шикарное, турецкое, с открытой грудью, открытой спиной, открытым задом и слегка прикрытым лобком, – вызывало в молдавской деревне настоящие волны самоубийств среди незамужних девушек. Все невесты села хотели такое платье. А вот хер вам на воротник, думала Аурика злорадно. Ведь платье это ей прислала из Турции дальняя родственница, которая трудилась там в министерстве контрразведки и секретных материалов. Так она писала, по крайней мере, в редких открытках на родину. По английски министерство называлось «Official Brothel of Izmir». Такие оттиски, по крайней мере, стояли на конвертах…
В комнате что-то хлопнуло, и Аурика отвлеклась от завистливых мыслей о судьбе родственницы. Что там? Ну, конечно, Залупашка! Идиотка разбила вазу… Внезапно все напряжение, скопившееся в Аурике за месяцы подготовке к свадьбе дочери, хлынуло из нее диким криком.
– Как же достала ты меня, тварь ты поганая! – кричала Аурика падчерице.
– Лопни твои глаза, – говорила Аурика, избивая девчонку.
– Разрази тебя гром, паскудница вшивая, – говорила она.
– Сдохни и разорвись пополам! – восклицала она.
Комната, замерев, слушала. Собак и Залупашку били и ругали часто. Но сегодня Аурика блистала. Учитель Лупу, поправив очки, объяснял тем, кто поближе, что молдаване не ругались матом и не пили водки, пока в Бессарабию не пришли русские. После этого пить водку и ругаться матом в стране стали даже евреи…
– Вот такая муйня, – добавлял учитель Лупу.
* * *
–… Бум, бумц, бумц, бумц! – играла веселая музыка оркестра, приглашенного из города.
Залупашка с тоской поглядела во двор, где топтались люди. В декабре земля померзла, но из-за того, что топтали ее сотни ног, постепенно двор превратился в месиво. На грязь бросили доски, и сельчане старались танцевать на них. Раздавались радостные протяжные крики, какими в Молдавии приветствуют свадьбы и указы о назначениях в государственном аппарате. Взлетали в небо шапки. Люди танцевали хороводы и просто медляки. Праздник был в самом разгаре.
– А сейчас – сказал солист, – подарок для невесты и жениха…
– Медляк «Видели ночь гуляли всю ночь до утра» – сказал он.
– Музыка народная, слова народные, а вовсе не этого русского козла, корейца Цоя, – сказал он.
– Дамы приглашают кавалеров, – сказал он.
– Не стесняемся, – сказал он.
– Смелее, – сказал он.
Залупашка, глядя, как толкутся посреди двора пары, почувствовала на щеке тепло. Плачу, поняла она. Где же мой принц, подумала она. Солист взял в руки гитару и сделал соло. Получалось классно, но на «Ионике» было лучше… Да и шапочка у солиста была какая-то… цыганская. А молдаване не любили цыган, и это было взаимно. Так что, знала Залупашка, и солиста, и всю его группу с каким-то дурацким названием – что-то вроде «Дуб, зуб», – после праздника изобьют и отправят в Кишинев в одних трусах. Но это потом. А пока праздник был в разгаре и все веселились.
Залупашка грустно отошла от забора и оглядела холодный двор. Сюда ее выгнали по приказу мачехи, и запретили приходить на свадьбу. А она ведь так хотела побывать там, где весело. Но, видно, не судьба, подумала Залупашка. Понурилась и пошла в заброшенный дом, спать. В уголке бросила старое одеяло на пол, улеглась… Не спалось.
– А вот если бы сейчас появился мой принц… – подумала Залупашка и почувствовала, что щекам снова стало тепло и мокро.
– Опять плачу, – подумала Залупашка и решила тихо по-бабьи повыть.
– Ой мля, – сказал вдруг кто-то.
Щелкнула зажигалка. Залупашка увидела, что над ней стоит, расстегнувшись, какой-то мужик в костюме и долбоебской меховой шапке, которую русские почему-то называют ушанкой. Хотя даже долбоебам понятно, что шапку надевают на голову, а не на уши. Русские долбоебы, подумала Залупашка, вспомнив уроки учителя Лупу, и вдруг поняла, отчего на щеках у нее стало мокро и сыро.
– Девушка? – сказал удивленно мужик.
– Принц? – удивленно сказала Залупашка.
– Лоринков, – сказал мужик.
– Владимир Лоринков, – сказал он.
Икнул, и застегнулся.
* * *
Спустя полчаса Залупашка, – которую новый знакомый лапал на одеяле, – знала о нем все. Его звали Лоринков, он работал в Кишиневе Самым Главным По Всему, и время от времени исполнял обязанности президента Земного шара, и с ним дружили певцы Саручану и Павел Стратан. В общем, он был звезда мирового масштаба, а сюда приехал к родственникам на выходные. Перепил вина, встал ночью помочиться, забрел по ошибке в заброшенный дом по соседству. И, надо же, в углу, куда он собрался сделать свои малые дела, спала Залупашка…
– Это судьба, – сказал новый знакомый Залупашки, тиская девушку.
Та, хихикая, рассказывала Лоринкову о себе и своих бедах. Мужичок лишь качал головой да возмущенно вздыхал.
– Гребанные молдаване! – восклицал он.
– Лишь бы использовать человека, – говорил он, поднимая Залупашке подол.
– Никакого внимания к личности, – говорил он, залезая на Залупашку.
Дурочка глупо улыбалась и, если бы дело происходило днем, то красные пятна на ее шее и груди были бы видны экипажам самолетов, летевших над Молдавией. Поплыла Залупашка. Бедная дурочка, на которую ни один мужчина ни разу в жизни не взглянул, спрашивала:
– Значит, мы поженимся завтра?
– Конечно, – пыхтел мужик, даже не снявший ушанки.
– Оп-па, – говорил мужик.
– М-м-м-м, – говорила Залупашка.
– Ты, главное, – шептал ей в ушко мужик, – слушай, что я говорю, потому что я волшебник.
– И я, значит, расскажу тебе, как получить принца, – говорил мужик.
– Но сначала мы должны кое-что сделать, – говорил он.
Замычал, и слил прямо в Залупашку.
– Ничего, в первый раз не залетишь, – сказал он, отдуваясь, Залупашке, которая и так не понимала, в чем дело.
Потом потискал девчонку еще, залез на нее еще пару разков, и, наконец, отвалился.
…Жирную и противную пиявку напоминал сам себе нигилист Лоринков, прятавшийся в этой деревне из-за того, что его объявила в розыск Служба информации и безопасности Молдовы. За дело искали подонка. Мразь и ублюдок, этот кишиневский журналист клеветал на молдаван и все молдавское, – за жалкие подачки из Москвы, – и, наконец, доклеветался. Ну, в смысле, дофизделся. Лоринкова объявили в розыск, дали заочно 25 лет строго режима, и принялись искать. Хорошо хоть, искали его так, как делали все в Молдавии, подумал Лоринков. В смысле, через жопу и спустя рукава. Так что он подался в деревню к дальним родственникам, и спал у них в пристройке. Даже скучать начал, а тут – такая удача! И, как всегда, когда он получал свое, пресыщенный Лоринков предался рефлексии и угрызениям совести. Ишь, насосался крови девчонкиной, подумал он, и уже потерял к ней интерес.
Свинья и анти-молдавская скотина я, подумал он.
Правы, сто тысяч раз правы были газета «Независимая Молдова» и клуб Независимых Писателей Молдовы, в официальном заявлении назвавшие меня «бездарным эпигоном, ничтожеством и бесталанным ублюдком, в отличие от настоящих русских писателей Молдовы лидиимищенкониколаясавостинаконстантинасеменовскоголидиилатьевой, валентиныткачёвойюригрековасергеяузунаолесирудягинойрудольфа ольшевскогоолегапанфилеленышатохиной и многих-многих других», – подумал Лоринков.
Суровую, но справедливую оценку вынесли мне члены Союза Русско-Молдавских Интеллектуалов, в своем печатном органе «Орган» вынесшие мне такую оценку»… недоносок, не стоящий ничего против выдающихся классиков Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова, Булгакова, Шолохова, Шукшина…» – подумал он.
Наконец, права оказалась газета «Независимость Молдовы», в передовице гневно писавшая, что… «раскаленным колом встал в заднем проходе независимой Молдовы и ее любящих сыновей и дочерей этот… ренегат, мразь и ублюдок Лоринков»
– А в рот берешь? – спросил ненавистник Молдовы ее несчастную дочь, Залупашку.
Да и залетит ведь девчонка, подумал он.
И тогда куда бежать, куда прятаться, подумал он. Не жениться же тут, в глуши этой гребанной. Уж лучше на эшафот в Кишиневе…
Стал лихорадочно соображать, как выкрутиться. Когда Залупашка, неумело перебирая его хозяйство губами, словно крестьянка руками – подмерзшие виноградные ягоды, придумал на ходу Лоринков метафору, – расстаралась и вошла во вкус, подонка осенило. Схватив деревенскую дурочку за волосы, он издал торжествующий крик. Страшно со стороны выглядел Лоринков. С ушанкой на круглой голове монголоидного типа, с ухмылкой на торжествующей русской харе, он насиловал Залупашку в рот, словно гребанная Рашка – свободную и независимую Молдову.
Плакали звезды…
* * *
– А теперь для родителей – песня группы «Норок», – сказал солист.
Толпа захлопала, все хлынули от столов во двор. Залупашка глядела в дыру в заборе, чувствуя в ногах приятные слабость и тепло. Как хорошо, однако, все объяснил ей этот… фей. Так он, по крайней мере, представился Залупашке. Пошурудил в ней волшебной палочкой и рассказал, как стать самой популярной на этот удивительном празднике.
– Гица, Гица, – жарко прошептала в дыру Залупашка.
К забору подошел Гица, самый красивый и статный парень на селе. Росту он был 167 сантиметров, косая пядь в плечах, и, говорили, служить он станет в отборных войсках карабинеров.
– А? – сказал Гице неуверенно забору.
– Гица, это я, Марчика, – сказала Залупашка.
– Марчика? – скзаал Гица, оживившись.
Марчика была самой красивой девушкой села. Конечно же, она давно уехала в бордель в Албании.
– Марчика, прилетела сегодня, а в город на такси, – сказала Залупашка, как учил ее фей.
– Сюрприз хочу сделать, – сказала она.
– Гица, я всегда любила тебя и люблю, – сказала она.
– Хочу тебя, сил моих нет, – сказала она.
– Да нет же, не здесь, – сказала она.
Гице, смущенный, застегнулся и перестал дрочить.
– Иди к забору за домом, где никого нет, встань у дыры, – велела Залупашка.
– А почему через дыру? – сказал Гица.
– Мне неловко, я столько лет тебя не видела, может я не красивая уже, – сказала Залупашка, повторяя заученный текст.
– Да нет, что ты, – сказал Гица, – я тебя с детства люб…
– Или через дырку в забор, или никак, – сказала Залупашка жестко.
…Спустя несколько минут Гице, сверкая оголенными поджарыми ягодицами, – белевшими в ночи как два маленьких круглых привидения, – двигал бедрами у забора. Залупашка, стоявшая с обратной стороны забора, позволила завершить все до конца. Все равно в первый день не залетишь, вспомнила она слова фея.
Следующим был Петря, самый крутой, но уже женатый, мужик на селе.
За ним еще и еще… Постепенно к забору за домом, где играли свадьбу, потянулась очередь молчаливых мужчин. Залупашка потеряла счет оргазмам.
– Марчика прилетела осчастливить село, – передавали друг другу на ухо мужчины.
И тогда очередной из них вставал из-за стола, поправлял решительно воротник рубашки, и шел. Возвращался раскрасневшийся, чуть растрепанный и удивительно счастливый. Так Залупашка обслужила все село.
И уже последнему, кто совал в нее через забор под утро, Залупашка, как велел фей, сказала:
– Передай всем, что я не Марчика…
* * *
Наутро мужчины села держали совет.
– В селе завелась блядь, – сказал мрачно Петря.
– Но какая ммм, узкая, – сказал Гица.
– Такая ли блядь? – сказал старик Георге.
Все призадумались. Времена нынче свободные, девушка – кто бы она не была – подарила мужчинам села чистое, беспримесное блаженство…
– Так или иначе, мы должны знать, кто она! – сказал Гица.
– Верно!! – хором согласились остальные.
– Но как? – спросил Петря.
– Есть одна книжка… – краснея, сказал старик Георге.
Он был морщинистый и черный, как молдавский орех. Поэтому краснел Георге редко и, скорее, чернел еще больше. Все удивились.
– Дело в том, что в одной сказке, – сказал старик.
– Ну там что-то подобное было… – сказал он.
– Конечно, в молдавской сказке, настоящей молдавской, а не отвратительной оккупационной русской, – сказал он, поймав вопросительный взгляд учителя Лупу, который по совместительству работал стукачом,
– В общем, там девушку нашли по утерянному лаптю, – сказал он.
– Но у нас нет лаптя, – сказал кто-то.
– Но у нас есть воспоминания… о… о ее… о дыр… – сказал дед Георге.
– Достаточно, мы поняли тебя, – сказал Петря.
– В общем, если мы трахнем по очереди всех баб села, то выясним, какая из них вчера приняла нас у забора, – сказал Гица.
– Отлично! – воскликнул он. – Вперед!
– Но, получается… – сказал Петря растерянно.
– Получается, мы все здесь должны перетрахаться? – сказал он.
Дед Георге вздохнул.
– Можно подумать, можно подумать, – сказал он.
– Да вы и так здесь все уже перетрахались, – сказал дед Георге.
Все потупились.
Дед Георге был прав.
* * *
…Когда отгремели грохоты оргазмов каждой бабы села, которую покрыли все мужики – попробовать обязался каждый, чтобы не вышло ошибки, – мужчины снова собрались на сход. На утоптанном снегу околицы стояли они, суровые и немногочисленные, как волчья стая. Даже учителя Лупу заставили участвовать в поисках. Лица молдавских крестьян – суровые, изможденные, благородные, с намеком на происхождение от древних римлян, – были мрачны.
– Все не то, – сказал, еле ворочая языком, Петря.
– Были и узкие, да не те, – согласился Гица.
– Хорошо поработали, но результата нет, – согласился дед Георге.
– А всех ли мы перетрахали? – сказал кто-то.
Пересчитали еще раз. Действительно, перетрахали всех женщин, включая невесту, которая сама просила не делать для себя исключения.
– Неужели это был какой-то мужик? – сказал кто-то неуверенно.
Ответом было общее молчание. Верить в такой кошмар не хотелось никому. Внезапно молчание нарушило мычание коров.
– Му-му, – мычали коровы.
– Господи, опять Залупашка – вздохнул кто-то.
– Вот идиотка, – сказал кто-то.
И правда, только такая дебилка, как Залупашка, могла выгнать коров на выпас в декабре, когда везде лежит снег…
Коровы брели мимо мужиков, а Залупашка, кутаясь в старый тулупчик, шла за ними с хворостиной. Грязная, чумазая… Не подпрыгни ее налитые сиськи из-за кочки, на которую ступила девушка, может, Гица бы и не заметил ничего. Но Гица заметил. Он, семнадцатилетний, и самый молодой мужчина села, все еще хотел трахаться, в отличие от изможденных старших коллег.
– Слушайте, а… Залупашка? – сказал он мужикам.
– Это чмо? – сказал Петря.
– Гице, ты не натрахался? – сказал он.
– Иди подрочи, – сказал он.
– Ха-ха, – посмеялись все.
Но задумались. Для чистоты эксперимента…
– Вообще-то, – поправил очки учитель Лупу, – следуя элементарной европейской логике и методу исключения…
– Залупашка, – окрикнул дед Георге.
– Ась? – обернулась счастливая Залупашка.
Мужчины обступили девушку и дурочка почувствовала на себе десятки рук. Девушку бросили на тулупы, которые расстелили прямо на снегу. Стали проверять ее, так сказать туфельку – как выразился стыдливо учитель Лупу, – причем, ради экономии времени, со всех сторон и одновременно.
– Хорошо как, – думала Залупашка.
– Не обманул фей, – думала Залупашка.
Внезапно тучи на миг разошлись и среди них выглянуло любопытное Солнце.
Светило словно заглядывало: что там, в Молдавии, нынче?
А творились там такие любопытные вещи, что Солнце светило до самого вечера.
* * *
Спустя девять месяцев Залупашка родила тройню.
Здоровые, крепкие, малыши радовали мать и отца, в роли которого выступали все мужчины села. Залупашка теперь жила в богатом доме, и забот не знала. Еду ей готовили лучшие стряпухи деревни, убирались ее сестры, а мамаша униженно умоляла простить за прошлые оскорбления. Залупашка простила. Она вообще незлобливая была. И фея она убила не потому, что злилась на что – наоборот, все случилось, как он и сказал, за исключением «залететь» – а потому что священник велел.
– Это не фей, а суть есть волхв, – сказал батюшка Паисий, утираясь, после исповеди.
– А волхвов уничтожали в старину так, – говорил он, наяривая Залупашку по новой, п тому что оторваться от нее ну никакой возможности не представлялось.
– Запирали в срубах и сжигали! – говорил он.
Так что Залупашка вечером заперла двери дома, где хоронился от властей фей, забила окна и подожгла. Фей матерился и кричал, что отец Паисий просто ревнует, но разве же Залупашке постигнуть мужские разговоры? Что велели, то и сделала. А потом вернулась домой, где ее уже ждал Петря. А на утро пришел Гица. В обед – дед Георгий. И так все мужики села – мужья Залупашки – по очереди. И женщины на Залупашку из-за этого вовсе не дулись, ведь мужчины возвращались от нее счастливые, веселый да ласковые.
В общем, из-за Залупашки расцвело все село.
И сама Залупашка, конечно, тоже расцвела, словно подсолнух летом.
Иногда ночами она вставала, и, не веря своему счастью, глядела на малышей, спящих в своей колыбельке. Выглядывала в окно. Глядела, как молодой месяц серебрит снежок на поле за селом. Любовалась играм зайчишек неразумных, скакавших по полю этому. Глядела, как из-за снега, облепившего деревья, с хрустом отламываются толстые сучья. А тонкие, подрожав и согнувшись, – чуть не до земли, – осыпают с себя снег и возвращаются на место, как ни в чем не бывало.
– Мягкость побеждает силу, – думала она.
– Главный принцип басурманского спорта дзюдо, – шептала она слова, сказанные ей по этому поводу учителем Лупу.
–… Придуманного молдаванами и украденного японскими козлами, – повторяла она слова Лупу.
Задергивала шторы и возвращалась в постель. Потягивалась сладко. Погружалась в великое безмолвие ночи Молдавии. Часто во сне приходил к ней фей, он же волхв, Лоринков. Жалобно матерился, показывал ожоги, срывал с головы горящую, искрящуюся ушанку… Тогда Залупашка переворачивалась на другой бок и засыпала крепче. Успевала подумать, что утром надо растопить печь пожарче.
Покойники, они к перемене погоды снятся.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.