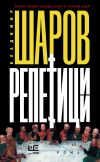Текст книги "След в след. Мне ли не пожалеть. До и во время"

Автор книги: Владимир Шаров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Эпилог
Теперь, когда роман Федора Николаевича окончен, мне остается сделать еще два дела: рассказать о последних годах жизни моего приемного отца и подвести ее итоги.
Жизнь Федора Николаевича, после того как он узнал, что он не родной сын Голосовых, узнал имена своей матери, отца, братьев, узнал, что мать погибла в лагере, отец, скорее всего, погиб тоже в лагере, а братья – на войне, – эта жизнь, как я уже говорил, довольно четко распадается на три периода. Границы их – переезд Федора Николаевича в Воронеж и его возвращение в Москву. Первый – до отъезда в Воронеж – время, когда он мечется, зная, что пойман и спутан всей своей прошлой жизнью, ее связями и воспоминаниями, они держат его, не дают идти по дороге его семьи. Он – муха, попавшая в паутину. Сам он писал об этом так:
«Осенью весь лес в паутине. Я был невнимателен и запутался в ней. Я не хотел умирать. Я хотел жить. И утро, и день, и ночь я боролся. Я хотел порвать паутину. Я верил, что порву ее, но запутывался всё больше. Наконец я затих. Паук понял, что сил у меня уже нет. Он тоже боялся, что я порву паутину. Он знал, что паутина очень хорошая, и все-таки боялся. Так отчаянно я боролся. Теперь он успокоился. Теперь он знал, что я в его власти. Он очень хотел есть, но не спешил. Ему было приятно, что такую хорошую паутину сделал он. И вот он подошел ко мне. Он проверил, как я связан, и остался доволен. Он осмотрел меня всего и тоже остался доволен. Я был достойный противник. Такой добычей мог гордиться любой паук. Потом он стал пить мою кровь. Такую кровь он пил первый раз в жизни. Он сказал это. Он сказал, что моя кровь ему нравится. Как ни странно, мне это было приятно. Пока он пил, я думал о своих родных. Я думал, что они будут искать меня. Я думал, что они это так не оставят. Я думал, что пауку это даром не пройдет. Родные отомстят за меня.
Родные искали меня много дней. Они искали, но не нашли. Тогда они обратились в милицию. Милиция нашла меня. Паука взяли во сне. Его судили и дали десять лет без права переписки. Да здравствует правосудие!»
В Воронеже Федор Николаевич постепенно начинает понимать, что его никто не держит, и те, с кем он был знаком в Москве, не враги ему. Шаг за шагом он выбирается из паутины, но не рвет и не уходит от нее. В нем появляется ностальгия по Москве, его истории оживают, и он начинает рассказывать нам о людях, которых знал и с которыми был дружен.
Непосредственно перед возвращением в Москву и в Москве он предпринимает последнюю попытку соединиться со своим отцом и братьями. Даже если их уже нет в живых, он хочет найти всех людей, которые их знали и которые когда-то были с ними близки, и главное, тех, кто видел, как они умирали. К этому времени Федор Николаевич осознаёт, что он, так же как и любой другой человек, – центр некоего мира, люди которого связаны с ним и зависят от него, и с которыми он тоже связан и от которых тоже зависит; эти люди – его люди. Каждый из этих людей – центр своего мира, в который входят другие люди, через них он связан с ними и с теми, с кем связаны они, и так эти связи тянутся и будут тянуться и переплетаться, пока не захватят, не найдут и не соединят его с его отцом и братьями. Понимая это, он начинает работу. Теперь он сам – паук, плетущий свою паутину.
Через год после переезда в Москву он вдруг видит, что под его началом уже стоит партия нового типа, партия более совершенная, чем китайские тайные общества, секта ассасинов, организация бланкистов, сицилийская мафия и «Народная воля».
Тех, кого он знал лично, он назначает командирами ячеек из тех людей, которых знали они, и уже как рядовые члены партии они входят в те ячейки, которыми командовали люди, знавшие их. Преимущества его партии над всеми другими были очевидны. Во-первых, строжайшая система соподчинения, жесткая централизация и мобильность, так как нити всех связей сходились к нему; во-вторых, в силу того, что ни один из членов его партии не знал, что он ее член, – полная невозможность провокаторов, сексотов и, следовательно, провалов.
К шестьдесят шестому году Федор Николаевич с помощью своей партии уже легко мог держать в руках всю страну. Но он медлит, колеблется и не решается пустить партию в ход. За четыре месяца до своей кончины – возможно, он предчувствовал ее – он начинает уничтожать бумаги, связанные с деятельностью партии.
В гостиной у нас есть камин, старинный и очень красивый, кажется, французской работы. В январе семьдесят шестого года он был впервые на моей памяти затоплен – я даже не знал, что им вообще можно пользоваться, – и три дня подряд Федор Николаевич носил и сжигал в нем толстые папки с записями и документами.
Эти дни, не отходя от камина ни на шаг, рядом с Федором Николаевичем просидела и моя дочь Оля. У нее порок сердца, с раннего детства она часто зябнет и поэтому больше всего на свете любит огонь и тепло. На огонь она может смотреть часами, всегда садится как можно ближе к нему, и отсветы пламени, перебегающие по ее лицу, глазам, волосам, меняют ее до неузнаваемости. Жена давно в шутку зовет Олю огнепоклонницей – и, кажется, она недалека от истины.
В те три январских дня Федор Николаевич сжег практически весь архив партии, и, главное, списки ее членов и их личные дела. Потом, в феврале и марте, камин топили еще несколько раз, но уже недолго: надо было сжечь случайные остатки и наброски. Федор Николаевич был человеком очень аккуратным, и до последнего времени я был уверен, что единственные следы, которые остались от его партии, – это сохранившиеся в моей памяти два разговора, коротких и очень уклончивых, из которых я едва сумел составить общее представление о ней. Но год назад, разбирая последнюю папку с бумагами Федора Николаевича – в ней были собраны его стихи и дневники, – я обнаружил среди них черновики трех личных дел членов партии. Возможно, это были как раз те люди, с которых она начиналась. Вот эти дела.
Дело № 1. Соколов Пантелеймон Иванович. Видел его один раз 16 июня 1955 года. На вид лет пятьдесят. Маленького роста, кожа желтая и сухая. Умен. Круг людей, с которыми знаком, чрезвычайно широк и разнообразен, однако отношения с ними фрагментарные.
С 1952 года нас буквально заедали неизвестно откуда взявшиеся в квартире клопы. Несчетное число клопоморов приходило к нам, иногда яды были настолько сильны, что мы сами были вынуждены бежать из квартиры и переселяться на дачу, но клопы серьезного урона не понесли ни разу. Единственное, чего мы добились, – это вывели породу, которую не брало уже ничего. Пантелеймон Иванович был рекомендован нам знакомой моей матери как человек, сумевший справиться со столь же стойкой породой клопов на даче тогдашнего первого секретаря МГК КПСС Екатерины Фурцевой.
Соколов пришел к нам рано утром, долго ходил из комнаты в комнату. По нескольким его замечаниям мы поняли, что он хорошо знает, уважает и, пожалуй, любит клопов, и знание дано ему именно любовью к ним. Было видно, что Соколов – человек долга, что он привык делать свою работу на совесть, но глаза его были грустны. Он сознавал, что неразрывно связан с клопами и зависит от них так же, как они от него. Он тосковал из-за несправедливости этого мира, из-за того, что был вынужден во зло использовать свою любовь и нести смерть тем, кого любил.
Во время обхода квартиры и отец, и мать, и я сопровождали Пантелеймона Ивановича и наперебой показывали ему гнезда клопов и их дороги, но он только качал головой и говорил: «Нет, здесь он не пойдет».
Закончив рекогносцировку, Соколов достал из своей авоськи красивый граненый флакон с пульверизатором, попрыскал в семи или восьми местах и сказал: «Завтра их останется десять, послезавтра пять, а на третий день – ни одного».
Потом он взял деньги, попрощался и ушел. Больше в нашей квартире клопов никогда не было.
Дело № 2. Гурин Сергей Алексеевич. Поэт. Чернявый, невысокий. Не умен. Родился между двадцатым и двадцать третьим годами, воевал. На фронте был контужен и дважды ранен. Принадлежит к группе громких молодых поэтов, господствовавшей у нас два послевоенных десятилетия. Женат, жил в соседней квартире. Круг людей, с которыми встречается, чрезвычайно широк. Пьет, но умеренно.
Гурин не один раз и на машине, и так объездил всю страну. У нас во дворе стояла его «Победа», машина была на ходу, несмотря на согнутый передний мост, из-за которого она ехала только на трех колесах, переваливаясь с боку на бок, не было у нее и одной задней дверцы. По бортам «Победы» красной краской были сделаны надписи: с одной стороны – «Москва – Владивосток – Москва», с другой – «Мо… – Каракумы – Москва».
Гурин часто одалживал у нас деньги, но всегда отдавал точно в срок. Доставал он их, очевидно, в самый последний момент и потому, чтобы вернуть вовремя, звонил к нам в дверь то в три, то в четыре часа ночи. В конце концов мать договорилась с ним, что возврат утром следующего дня не является нарушением слова, и с тех пор мы спали спокойно.
Когда мне было двенадцать лет, Гурин женился на высокой дебелой женщине с коричневыми коровьими глазами. Звали ее Таня. Я был влюблен в нее, и она это знала. Когда мы оказывались вместе в лифте, она своим животом и грудями прижимала меня к стене и, дождавшись, когда моя плоть поднимется, хохоча, отступала. Несколько раз, когда родители были на даче, я хотел сказать ей, чтобы она пошла со мной, но Таня дружила со всеми лифтершами, в тот же день об этом знал бы весь подъезд, и я побоялся.
Таня изменяла Гурину, он ее бил, запирал, но она убегала, потом, через неделю или две, возвращалась. Как-то, когда мне было уже шестнадцать лет – перед этим месяц наши пути не пересекались, – я вечером у ворот дома столкнулся с Таней. Она бежала, но, заметив меня, схватила за руку и стала умолять, чтобы я спас ее: Гурин гонится за ней и хочет убить. В тот день у меня тоже была пустая квартира, но я снова не решился. Я проводил Таню до метро, и она поехала к сестре. Через месяц Гурин и она разошлись, больше я ее не видел.
В квартире Гурина я бывал редко. Помню, что она была похожа на него самого – неухоженная и бессмысленная, и только двери, с двух сторон и сверху донизу исписанные мельчайшим бисерным почерком, свидетельствовали не о его странности, а о том, что когда-то он был маленьким аккуратным мальчиком, старательно выводящим в своей тетради прописи. Я до сих пор не знаю, чтоˊ писал он на этих дверях: буквы были мелки, и, чтобы прочитать, надо было остановиться и разбирать по строчке, а мне это казалось неудобным.
Другой достопримечательностью его квартиры была большая комната, пол и стены которой до высоты двух метров были обиты сталью. Крестным такой отделки был мой отец. После ухода Тани Гурин сказал отцу, что вторая комната ему теперь не нужна, и он хочет либо избавиться от нее, либо сделать так, как будто Таня в ней никогда не жила. Отец пошутил тогда, что единственное, что может уничтожить следы человека, – это всемирный потоп, и он советует превратить комнату в бассейн. Гурин в то время руководил литобъединением на Московском автомобильном заводе и часто говорил, что ребята готовы привезти ему любые материалы и сделают, что бы он ни попросил. И вправду, скоро у нашего подъезда стала разгружаться машина с листовой сталью и несколькими баллонами кислорода для сварки. Работа в квартире шла больше двух месяцев, но накануне пробного заполнения бассейна (оставалось заварить всего несколько швов) он рассорился с заводскими поэтами, на чем всё и кончилось.
Почти из каждой поездки Гурин привозил какую-нибудь живность. Как-то у него целый год одновременно жили бурый медведь и огромный степной беркут. Медведь занимал балкон, а более теплолюбивого беркута поселили в уборной. Там я его видел трижды. Весь пол был покрыт толстым слоем помета, а сам беркут «орлом» сидел на стульчаке и смотрел на нас большими желтыми глазами.
Иногда беркута выводили гулять. Гурин надевал на его лапу тонкий ременной поводок длиной метров в пять, так что беркут мог долететь до нижней ветки росшей рядом с домом липы. Когда прогулка кончалась, Гурин сдергивал его оттуда. Раз в неделю, чтобы беркут не потерял формы, Гурин катал его на машине. Короткой веревкой он привязывал его к верхнему багажнику, машина выезжала на Бульварное кольцо и, переваливаясь, ехала к Котельнической набережной, потом вдоль Москвы-реки до Кропоткинской и оттуда снова по бульварам. Пока машина шла медленно, беркут спокойно сидел на решетке, но, когда она набирала скорость, он распрямлял крылья, сильная струя воздуха поднимала его вверх, и он парил над дорогой почти так же, как когда-то над степью.
Гурин жаловался отцу, что медведь мешает ему мало, а вот с беркутом в одной квартире он жить больше не может. Тот уже год не пускает его в уборную, и ему приходится или пользоваться раковиной, или бегать в общественный сортир на бульваре. Отец посоветовал ему отдать беркута в зоопарк, но Гурин сказал, что любит беркута больше жизни, ни за что не расстанется с ним и лучше сделает из него чучело. Все-таки отцу в конце концов удалось его уговорить, и беркут, кажется, до сих пор жив и обитает то ли в Ленинградском, то ли в Таллинском зоосаде.
В семьдесят первом году Гурин поменял свою квартиру на зимнюю дачу в Переделкино и уехал из нашего дома.
Дело № 3. Швендина Наталья Валентиновна. Учительница математики. Родилась в 1897 году в Воронеже. Глаза и лицо круглые. Волосы серые, волнистые, зачесаны назад и собраны в пучок. В ней есть немецкая кровь, и общим обликом она похожа на немку. Голос звонкий, но твердый и уверенный. Одна нога у нее сухая и короче другой сантиметров на пять. Из-за этого Наталья Валентиновна ходит, подпрыгивая, как воробей. Из семьи мелких дворян: у деда был хутор километрах в двадцати от города. И отец, и трое дядей – земские врачи. Двоюродный брат в двадцать первом году, после окончания гражданской войны, организовал в разных местах России мастерские по производству протезов. Пожалуй, умна. Привыкла делать добро. Круг лиц, с которыми дружна, чрезвычайно широк и разнообразен, причем именно она объединяет их. Отношения со всеми ровные. Гостей угощает великолепным клубничным вареньем. Любит стихи. Познакомился 17 июля 1958-го у Колоуховых.
Пять лет, с четырнадцатого по восемнадцатый год, Наталья Валентиновна прожила в Москве. Все эти годы была очень близка с Ходасевичем и через него знакома со многими другими поэтами – Брюсовым, Волошиным, Бальмонтом, Белым, Цветаевой. Фотографическая память. Помнит мельчайшие детали встреч, разговоров, отношений: кто как был одет, жесты, поведение. Те пять лет жизни Ходасевича, которые она была рядом, может восстановить буквально по минутам. Знает жизненные обстоятельства, предшествующие его стихам, расшифровывает и приземляет их. От этого стихи становятся проще.
Подкармливает и помогает всем окрестным кошкам. Кроме трех своих у нее дома обычно живут одна-две больные, подобранные на улице. Когда я познакомился с Натальей Валентиновной, ее пациентом был розовый, с бельмом на глазу кот. У него было воспаление легких, он хрипел и сухо, как человек, кашлял. Несколько раз он исчезал, но потом возвращался. Зимой шестьдесят первого года, когда кот был уже совсем плох, он снова ушел и больше не вернулся. Наталья Валентиновна долго горевала о нем и говорила, что он ушел, потому что не хотел умирать у нее дома.
Старательно подчеркивает, что и она, и все ее родные были атеисты, но говорит, что дважды, когда они обращались к Богу, Он помог им. В 1903 году ее трехлетний двоюродный брат Костик забрался на крышу дачной террасы, только что прошел дождь, он поскользнулся, покатился вниз и, ударившись о крыльцо, повредил себе позвоночник. Два года он был полностью парализован. Родители возили его и в Москву, и в Петербург, там ребенка смотрели все тогдашние светила, и приговор был однозначным: они сами врачи и должны понять, что ничего сделать нельзя, ребенок никогда не будет ходить.
Так сложились обстоятельства, что когда Костику было пять лет, им снова пришлось поселиться на той же даче. Костик лежал в саду на соломенной кушетке, мать была в доме. Ей показалось, что он зовет ее, она подошла к Костику и спросила, не надо ли ему чего-нибудь. Он сказал ей, что больше не хочет жить. Не помня себя, она схватила мальчика в охапку и побежала по дороге, которая шла в Акатов Алексеевский монастырь. Там в старой церкви она положила его на каменный пол и стала молиться. Она молилась несколько часов, не помнила, что он с ней, и очнулась от того, что он, стоя рядом, трогал ее за плечо и говорил: «Мама, мама, пойдем отсюда, здесь холодно».
Сама Наталья Валентиновна в тринадцать лет заболела костным туберкулезом. Лечили ее многие врачи, но безуспешно. Зимой, когда на ноге открылся свищ, ее перевезли в больницу. Месяц температура была под сорок. Она часто бредила, но, когда была в сознании, понимала, что умирает. В больнице ей приснилось, что если она отстоит обедню в Митрофаниевом монастыре, свищ закроется. Она стала просить свою мать отвезти ее туда. Семья была неверующая, мать не соглашалась и не понимала ее. Наконец брат матери сказал:
– Сделай, как хочет Наташа, хуже не будет.
В феврале на лошадях, укутав в шубы, ее забрали из больницы – она хотела умереть дома. По дороге у Митрофаниева монастыря отец остановил сани и отнес Наташу в церковь. Там он усадил ее у ковчега с мощами Митрофания и оставил одну. После обедни он вернулся за ней и они поехали домой. Через неделю свищ закрылся, туберкулезный процесс остановился, и она, хоть и осталась хромоножкой, выздоровела.
Последние годы Федор Николаевич по-прежнему объяснял себе, что скоро его партия начнет действовать, – но я уже знал, что это не так. Партия нужна была ему только ради нее самой, он хотел лишь ее укрепления и расширения, а не борьбы. Он обманывал себя, убеждая, что партия еще не отлажена, несовершенна и, следовательно, не готова. Как лектор, он брал командировки от общества «Знание» и ездил по всей стране, от Ленинграда до Владивостока, завязывая тысячи новых знакомств и связей. Охотнее всего Федор Николаевич сходился со стариками: через них его партия включала в себя людей, которые уже давно умерли, и власть ее расширялась, захватывая теперь и прошлое.
К середине семидесятых годов в партию Федора Николаевича входили уже все люди, которые жили в то время в России, и все, с кем они когда бы то ни было встречались. Но и тогда он не пустил ее в ход. Напротив, как я уже говорил, 13 января он начал жечь бумаги, касающиеся ее деятельности. В дневнике за день до этого им была сделана запись: «Я рад, что на мне всё кончится, что у меня не будет наследников, и дело моей жизни, моя партия, умрет вместе со мной».
По просьбе Оли – моей дочери и его внучки – я хочу завершить историю жизни Федора Николаевича на другой ноте: стихотворением, написанным им тогда же, когда и роман:
Осенняя прозрачность леса
К зиме приобретает смысл,
Деревья – линии отвеса
И плечики от коромысл,
С уходом листьев обнажилась
Идея дерева, оно
Держало воздух, и кружилось,
И было с ним сопряжено,
Его отдельные начала
Пронизывая, как каркас,
В деревьях пение звучало
И тут же отзывалось в нас,
И вот оно, еще не явно
Связующее нас в одно,
Как в хоре, истинно и равно,
Продлилось, соединено.
1978–1984
До и во время
Роман
Впервые я оказался в этой больнице в октябре 1965 года, кажется, восемнадцатого числа. Класть меня тогда не должны были. Речь шла о том, чтобы работавший в клинике профессор Кронфельд частным образом меня проконсультировал и подобрал таблетки ко всему моему «букету». От метро, как и было велено, я пошел наискосок – через пустырь и неогороженные строительные площадки; народу здесь ходило много, и снег, выпавший вчера ночью, был хорошо утоптан, местами даже накатан до льда. Пейзаж был совершенно нежилой: едва кончились котлованы и неровные штабеля бетонных плит, пошли склады, гаражи, овощебазы – недалеко текла прежде судоходная Яуза, тут же проходила железная дорога, и всё это по традиции лепилось вокруг.
Я знал, что, если срезать угол, надо будет идти минут 20–25, – но шел я уже больше получаса, а нужной улицы не было. Тропинка была узкая, скользкая, и, конечно, я шел медленнее обычного, и всё же ей пора, давно пора было кончиться. Тот срок, на который я себя настроил и который готов был идти вот так, всё время боясь упасть и балансируя, как клоун, руками, – истек; я устал и злился, что не пошел другой, более спокойной дорогой. Можно было не пробираться через склады и стройки, а обойти их по двум широким улицам, которые чистили и по которым было не опасно идти. Уверенный, что заблудился, я ругал себя последними словами, едва не плакал. Ситуация вряд ли того заслуживала, но я шел к врачу, шел в психбольницу, не знал, что он мне скажет и как решит мою участь. Конечно же, я нервничал и жалел, что вышел из дома впритык, длинным надежным путем идти уже не мог и пошел неровной неверной дорогой.
Всё же Бог есть. Я еще плутал между гаражами, старательно обходя колдобины, грязь, когда и земля, и дорога, по которой я шел, и этот недостроенный лабиринт, даже снег разом запахли ванилью и свежей горячей выпечкой. Впереди, совсем рядом была хлебопекарня; мне ее называли как ориентир, говорили, что она стоит на той же улице, что и больница, за три дома до нее.
Запах ванили – запах моего детства, тот запах, в окружении которого я был зачат, выношен и рожден: так пахли и моя мать, и бабушка, и наш дом – словом, всё, что было в моей жизни хорошего и доброго. Свои первые шесть лет я провел на улице «Правды» – недалеко от до сих пор знаменитой цыганами гостиницы «Советская», напротив огромного кондитерского комбината «Большевик», оттуда и шел этот дух, и я, сколько себя помню, всегда был уверен, что комбинат потому носит гордое имя, что большевики такими и были – мягкими, сдобными и сладкими.
Мать моя страстно любила шоколад; у нее были длинные, тонкие пальцы, ногти она красила фиолетовым лаком, и когда за чашкой кофе с одной из своих многочисленных подруг она брала из цветастой коробки ромбики и башенки шоколадных конфет – это было очень красиво. В три года я узнал, что наборы конфет выпускает фабрика, называющаяся «Большевичка», и это окончательно утвердило мое представление о большевиках – всё равно, кто они – мужчины или женщины, – и даже, если нужно, разрешило столь важный в детстве вопрос, откуда они берутся и как родятся. Картина мира была построена и завершена.
Известно, насколько крепки в нас первые впечатления детства: уже после института, в сущности, взрослый мужик и достаточно опытный журналист, я всякий раз, как мне приходилось писать о большевиках, невольно делал их мягкими и нежными, а потом долго мучительно переписывал, и всё равно – какими должны быть, они у меня не получались. В общем-то, удивляться не стоит: я продолжал жить в другом мире, и было похоже, что так в нем и останусь. Из-за этих большевиков в нашей газете меня считали как бы дурачком, хотя относились, пожалуй, хорошо. Очерки, которые я писал, пойти в первозданном виде, конечно, не могли, но одно достоинство в них всё же имелось: герои были написаны с такой неподдельной любовью и нежностью, что наши старые газетные волки говорили, что завидуют моей искренности. Увы, она сразу пропадала, едва кто-нибудь пытался выправить текст.
Я понимал, что так долго продолжаться не может: несправедливо, что кому-то приходится фактически работать за меня, и года через два уволился. Шаг этот дался мне нелегко: я любил всё, связанное с газетой, самый дух ее, да и идти мне, в сущности, было некуда. К тому времени ненапечатанных очерков и рассказов у меня скопилось великое множество, и я, то здесь, то там занимаясь поденкой и халтурой, медленно дрейфовал в поисках изданий, которые устроил бы мой взгляд на жизнь. В конце концов я нашел их там, где, наверное, и должен был найти, – нашел, вернувшись с моими большевиками в детство, туда, откуда и они, и я были родом.
Ныне минуло уже десять лет, как меня охотно печатают – охотнее многих моих знакомых по газете – и в «Пионерской правде», и в «Мурзилке», и в «Костре», а особенно в «Малыше». Те первые книжки, которые читают детям и дома, и в яслях, и в детских садах, – мои, потому что в них есть мое собственное детство, доброта, нежность, потому что большевики у меня похожи на маму, добрую, ласковую маму, и, конечно, дети любят их и готовы слушать эти истории еще и еще. Потом, как и все, мои читатели вырастают, узнаю`т мир, понимают, что коммунисты не всегда были добрыми и мягкими, но любовь к ним остается. В общем, стыдиться мне нечего, писал я честно и то, что думал, хотя, может быть, сейчас мои рассказы и выглядят несколько наивно.
Книжки о Ленине в конце концов сделали мне имя, и я незадолго до всей этой истории вдруг получил сразу два чрезвычайно лестных предложения. Предложения, о которых прежде не мог и мечтать. Много лет назад, еще в институте, я написал дипломную работу о замечательной французской писательнице Жермене де Сталь, продолжал дальше собирать о ней материалы и даже в свое время отнес в издательство «Молодая гвардия», в редакцию, которая выпускает серию «Жизнь замечательных людей», заявку на книгу о ней. Разумеется, из той попытки ничего не вышло. Теперь же, когда я думать забыл об этой заявке, «Молодая гвардия» неожиданно прислала мне письмо, где в обрамлении множества реверансов говорилось, что, если я не передумал, издательство готово подписать со мной договор: книга о мадам де Сталь уже в плане.
А ровно через месяц (я только успел взяться за Сталь) Политиздат предложил мне стать автором другой популярнейшей в Союзе серии – «Пламенные революционеры». Причем было заявлено, что моя репутация столь безупречна, что и герой, и эпоха – всё по моему выбору. Впрочем, наполеоновские планы – в прошлом, за последние три года я не написал ни страницы и кормлюсь лишь гонорарами за переиздания.
* * *
Территория больницы была довольно велика, здания разной архитектуры и разной, но блеклой расцветки стояли безо всякой системы вокруг большой центральной клумбы, которая сейчас, в конце осени, была покрыта желтой с проплешинами травой, уже присыпанной снегом и остатками высаженных гнездами цветов. Корпус, куда я шел, был из блочных построек последних лет, стоял он ровно против ворот, и я, поднявшись на нужный мне седьмой этаж, убедился, что пришел вовремя. Но спешил я зря. Профессор Кронфельд был занят: его обход задержался из-за министерской комиссии, и медсестра передала, что он сможет принять меня не раньше чем через час. За сим дверь в отделение была заперта и я остался один в маленьком, почти как терраса, светлом то ли коридорчике, то ли предбаннике.
Это было нечто вроде западни – ни вызвать самому лифт, ни спуститься по лестнице было нельзя. Окно коридорчика выходило на Яузу, река здесь была совсем узкая, набережная – высокая гранитная стена – почти закрывала от меня воду. Поверху парапет был недавно достроен валиком снега, и оттуда, из глубины, как журавль деревенского колодца, торчала стрела плавучего крана. Я стоял, смотрел на него и всё думал, что вот сейчас он начнет кланяться или хотя бы повернется, – но так и не дождался.
Мне всего сорок пять лет, однако три года назад у меня после травмы черепа – я поскользнулся на льду около автобусной остановки и упал – начались провалы памяти. Два-три раза в год я уходил из дома и не возвращался. Родным, когда они, разыскивая меня, объезжали морги, дежурили в милицейских справочных, говорили, что живым они меня вряд ли когда-нибудь увидят, но потом, через несколько недель, иногда месяцев я находился: или арестованный за бродяжничество без документов и, конечно, без денег в каком-нибудь неблизком КПЗ, чаще всего почему-то на юге (меня с детства тянуло на юг, к морю, это – несомненно), или в одной из местных психиатрических клиник. Обычно я бывал крепко избит, весь в ссадинах и кровоподтеках, – когда милиционерами, когда санитарами (говорили, что в этом состоянии я беспокоен, порой даже буен), когда неведомыми попутчиками в странствиях (хотел бы я хоть раз посмотреть на себя в это время со стороны: как я и что я). Потом дома долго болел, но в конце концов всё же отходил; от природы я вообще человек крепкий, и даже память ко мне возвращалась, хотя сначала не мог назвать ни своего имени, ни фамилии.
В общем, всё пока возвращалось, и мне это было не тяжело и не мучительно, я легко это делал, легко, как нитку разматывал. Я видел, что матери и тетке очень нравится вспоминать вместе со мной то, что было, и чувствовал себя снова ребенком, за которого, когда он оправляется после тяжелой болезни, все радуются, прямо светятся, видя, что он выздоравливает. Но перспективы у меня были плохие: по рассказам врачей, многих подобных мне убивали уголовники, других калечили так, что поставить их на ноги было уже невозможно, третьих – милиция нами заниматься не любила – не находили по году и больше; а главное, память моя после каждого нового приступа должна была восстанавливаться всё медленнее и труднее, в конце же концов мне грозила полная амнезия. Собственно, страх перед ней и привел меня в больницу к Кронфельду.
В отделении, у дверей которого я теперь ходил, испытывался препарат, радикально (по слухам, просто чудодейственно) улучшающий кровообращение мозга, а моя болезнь как раз была связана с тем, что после травмы многие сосуды были повреждены и кровь по ним не шла. Это новое лекарство было моим шансом – я это понимал. И всё же тот час или немного больше, что длился обход, дался мне с трудом. Не так уж долго я сидел, забытый в предбаннике, и не так уж там было страшно: лифты приходили и уходили, за стеклянными дверями всё время мелькали люди, можно было их окликнуть, позвать, попросить открыть, даже, на худой конец, можно было закричать, и пришел бы, прервав обход, врач, – всё было возможно, и была бездна самых разных выходов, но я за последние месяцы так измотался, что сил уже не осталось.
Первые год-два я крепился, меня хватало даже на то, чтобы относиться к болезни с иронией; я острил, что, теряя память, очищаюсь: всякая дрянь, мерзость уходит, и я снова, как младенец, невинен и чист. Это и в самом деле было верно. Кроме того, болезнь пока протекала куда легче, чем у других; ведь память быстро восстанавливалась и не было никакой потери интеллекта. Может быть, спасала куча витаминов, которые мне ежедневно скармливала мать; во всяком случае, думал я явно не хуже, чем раньше. Словом, и после падения долго всё было терпимо, а потом я как-то разом устал. Я начал ждать новых приступов, стал ловить их, стал их больше и больше бояться – и за несколько месяцев себя довел. Врачи считали, что мне нельзя переутомляться; я теперь во всём слушался врачей: ограничивал себя, всё время видел, что нет, это я не могу, на это сил у меня не хватит, – и вдруг понял, что я старик.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?