Текст книги "По волнам жизни. Том 2"
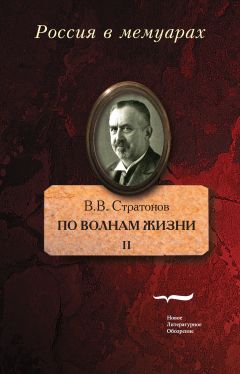
Автор книги: Всеволод Стратонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
На улицах
Москва, начиная с 1918 года, по внешнему виду постепенно и во всех отношениях падала.
Больно резала глаза уличная грязь, особенно в 1918–1919 годах. Поближе к большим домам кое-какая уборка все же еще производилась. Но на самых улицах и площадях о чистоте никто не заботился. Дворники почти повсюду исчезли. А где еще и были, играли более роль надзирающих за «буржуазией», а не за чистотой и порядком. Передавали подслушанный невольно разговор двух дворников:
– Ты что же, не послал своих буржуев чистить панель?
– Еще нет…
– А моих я погнал с утра на работу!
Такая же грязь была и на рынках. Мы жили возле Смоленского рынка и часто его наблюдали.
Всю зиму 1918–1919 года на площади лежало несколько дохлых собак и павшая лошадь. Трупы оставались несколько месяцев, законсервированные сковавшим их морозом. Весной трупы оттаяли и стали разлагаться. Невыносимая вонь заставила кого-то под конец их увезти.
Уборная на Смоленском рынке и окружающее ее место представляли собою гору нечистот, и эта гора с течением времени росла и в вышину, и в ширину. Уборная издавала такое зловоние, что трудно было проходить мимо, не затыкая носа. Весной отсюда потекли смрадные желтые потоки на рынок и на улицу.
На площади рынка торчали брошенные владельцами, завязшие в грязи, а затем скованные морозом несколько саней и телег. Никто их не убирал, хотя они и мешали торговцам.
Такие же картины представляли и другие рынки: повсюду зимовали трупы собак, кошек и пр.
В разных частях Москвы, в частности напротив городской думы, стояли у станций трамвая изящные стеклянные павильоны. В них теперь почти все стекла были революционным народом выбиты. Сами же павильоны обращены в смрадные общественные клозеты, мимо которых и пройти было трудно.
Некоторую чистоту на улицах и площадях стали наводить с лета 1919 года.
Уличная жизнь замирала. Извозчичьих экипажей становилось все меньше. Настал момент, когда они вовсе исчезли с улиц. Крестьяне, занимавшиеся извозом, поуходили в деревни или занялись другим делом. С 1920 года понемногу они снова стали появляться.
Трамваи еще двигались, но работали неправильно, с перерывами, постепенно приходя в упадок. Вагонов двигалось все меньше. Было время, в течение нескольких месяцев, что на улицах вовсе не появлялось трамваев. Когда же они двигались, то бывали переполнены, – платы за проезд не требовалось. Все переполнялось, и грозди пассажиров свешивались на подножках.
Потом плата была восстановлена: 30, 40, 50 коп. и выше. Однако платили не все; кто не желал – не платил. Кондукторши не могли справиться с хулиганствующими даровыми пассажирами, а прибегать к помощи милиции не могли. Милиции, в сущности, не было. Отдельные милиционеры кое-где попадались, но стыдливо прятались, стараясь, чтобы их не замечали и ни с чем к ним не обращались.
В 1921–1922 годах движение трамваев стало почти правильным. О бесплатности проезда, когда кондуктор заявлял пассажирам:
– Граждане, трамвай – это ваша собственность! –
было уже окончательно забыто. Взыскивалась плата и немалая. С падением валюты цена трамвайного билета росла. В 1921‐м он стоил миллион рублей, а в следующем году дошел и до десяти миллионов.
Но что все еще оставалось – это грязь и заплеванность вагонов.
На остановках очередей обыкновенно не было. Пассажиры лезли в вагон, точно на абордаж. В этот момент посадки у многих вытаскивали портмоне, дамские сумочки, срезывали полы одежды…
Кондуктора понемногу вступали в свои права. Однако о возможности, чтобы кондуктор оказал пассажиру мелкую услугу, как это совершенно обычно в Европе, – поддержал старуху или ребенка, помог втащить вещи и т. п., никто даже и не подозревал.
Но в Москве существовала особенность трамвайного дела, до которой в Европе едва ли додумались бы. Когда происходило какое-либо вечернее или затягивающееся на ночь собрание коммунистов, к месту собрания пригонялись десятки трамвайных вагонов. Кондуктора и вагоновожатые должны бывали часами дежурить на морозе, пока господа коммунисты не наговорятся, чтобы потом их развозить в разных направлениях по домам. Об ограничении рабочего дня известным числом часов в таких случаях не вспоминалось.
Улицы Москвы пустели. Парадные входы домов оставались почти все эти годы закрытыми. Ходили через черные входы и через кухни. С сумерками закрывались в домах ворота, и все, кто мог, укрывались в своих квартирах.
Электрическое освещение понемногу прекращалось. Его не было ни на улицах, ни в домах. Однако иногда внезапно освещались целые кварталы, но с особой целью, о чем будет рассказано дальше. В позднейшее время электрическое освещение с перебоями стало работать.
Среди погруженной во тьму столицы ярким пятном выделялся Кремль и прилегающие к нему улицы. Здесь освещение было даже ярче, чем при «проклятом царском режиме». Однако эти ближайшие улицы, например – Моховая, освещались отнюдь не ради удобства населения, а для удобства охраны Кремля, на случай контрреволюционного нападения на не отличавшихся храбростью носителей большевицкой власти.
Так же ярко освещалась и Театральная площадь, где, между прочим, находится гостиница «Метрополь», – гнездо влиятельных коммунистов[64]64
С 1918 г. в гостинице «Метрополь» размещался 2-й Дом Советов, в котором жили ответственные партийцы.
[Закрыть].
Освещение в Москве начало восстанавливаться с 1921 года. Светили уличные фонари, домовые комитеты были принуждаемы у ворот каждого дома зажигать по электрической лампочке.
Конечно, далеко все же не доходило до уличного освещения дореволюционного времени.
Немногочисленные пешеходы, как указывалось, с сумерками старались исчезнуть с темных улиц. Неудивительно, – уличные грабежи становились все учащавшимся явлением.
С попадавших в их руки грабители снимали не только все ценные вещи: кошельки, часы, кольца и пр., но также шубы, пальто и даже верхнюю одежду. Осенью и зимой такие ограбления влекли за собой для жертв еще тяжелую часто форму простуды.
Особенно страшно было жить на окраинах, где улицы по вечерам совершенно пустели. Жертва ограбления или насилия была предоставляема только себе самой и ни на какую помощь рассчитывать не могла.
Тяжело было думать о живших на окраинах несчастных девушках, вынужденных вечерами ходить на курсы или на работу. Бывали, и нередко, случаи захвата и изнасилования их бандитами и просто хулиганами. Тогда наши нервы еще не притупились, как это стало впоследствии, и от подобных фактов еще не отмахивались рукой, как от ставшего обычным зла.
С 1920–1921 годов начала налаживаться борьба с грабителями, по советской терминологии – с бандитами. Помню сценку:
По Большой Никитской улице в дневные часы медленно проезжает автомобиль. Наполнен людьми в кожаных куртках, – не только внутри, они висят и по сторонам, на подножках открытого автомобиля. Все – с револьверами в руке… Зорко всматриваются в прохожих. Вдруг грозный автомобиль останавливается у тротуара. Несколько «кожаных», быстро соскочив, окружают какого-то прохожего, направляют на него с разных сторон револьверы. О сопротивлении и думать нечего. Задержанный «бандит» увлекается внутрь автомобиля.
Зимой 1921–1922 года москвичи были взволнованы появлением «прыгунчиков». Молва гласила, будто это – грабители, вышедшие из числа вернувшихся на родину из Германии военнопленных. Они-де привезли с собой особые пружины для надевания на ноги, вывезенные с театра военных действий. Эти пружины употреблялись, мол, для перепрыгивания через окопы и проволочные заграждения…
Прыгунчики надевали, для вящего устрашения жертв, а может быть, и для того, чтобы не быть заметными на снегу, белые саваны. Завидя из засады одинокого прохожего, прыгунчики перепрыгивали в своих саванах через забор, за которым скрывались, перепугивая этим насмерть жертву. Обобрав ее до нижнего белья, прыгунчики такими же гигантскими шагами удалялись, и догнать их не было никакой возможности.
Тотчас же появился ряд «очевидцев», – «своими глазами» видевших прыгунчиков и даже сподобившихся быть ими ограбленными. В течение двух-трех месяцев москвичи трепетали, крепко поверив в существование этих прыгунчиков. Официальным объявлениям советской власти, что все это вздор, – не доверяли.
Мало-помалу другие злобы дня заставили забыть и эту легенду.
Еще одной из особенностей Москвы той эпохи было появление уличных газет, особенно в 1919–1920 годах. При полном отсутствии каких бы то ни было иных приходилось просматривать и советские газеты: «Известия» и «Правду».
Но рассылка их подписчикам, кроме, разумеется, привилегированных, была прекращена. Взамен этого газеты расклеивались, для бесплатного прочтения, на улицах.
Когда появлялись на заборах сероватые (белой бумаги не хватало) простыни такой прессы, около них толпились кучки читателей, с тоской высматривающих, не появилось ли нового декрета, еще больше отравляющего жизнь.
Наведение красоты
Точно плохие румяна на лицо низкопробной кокотки, наводилась иногда грубая красота и на московские улицы. Такому украшению содействовали некоторые московские художники, старавшиеся угодить большевицкой власти.
Приходилось читать и о таких заявлениях этих художников, что, мол, настоящая их задача не писать картины на холсте, которые будут висеть в музеях или которыми будут любоваться в своих собраниях отдельные любители-капиталисты, а служение своим искусством народу в целом. Для этого же правильнее всего было бы заменить холсты уличными заборами или стенами домов.
Действительно, подобного рода произведения искусства изредка в Москве попадались.
Конечно, и художники – люди, и им надо было питаться, но все же казалось, что некоторые из них перебарщивают. О московских художниках – вообще правильно, однако, было бы это относить лишь к их части, – говорили разно по поводу их услужливости перед советской властью.
Известного художника Константина Алексеевича Коровина московская молва зло обвиняла в переходе в стан большевиков. Должно быть, это его, – человека, как мне казалось, с чрезвычайным самомнением и ярким эгоцентризмом, – сильно нервировало. Он мне высказывал:
– Меня обвиняют в сочувствии большевизму. Но при этом не понимают, сколько произведений искусства я этим спас! Действительно, после перехода власти к большевикам я организовал из художников сочувственную им манифестацию и даже пошел во главе ее в Кремль… Но зато я сразу же завоевал доброе отношение к произведениям и к деятелям нашего искусства… А что было бы, если б я этого не сделал?
В позднейшие годы К. Коровин оказался в Париже и, судя по газетным заметкам, держал себя малодружелюбно в отношении советской власти.
В один прекрасный день Москва была поражена внезапной разрисовкой знаменитого Охотного ряда[65]65
Охотнорядские торговые палатки были разрисованы художниками к первой годовщине Октябрьского переворота.
[Закрыть]. Все задние стены деревянных будок, в которых охотнорядцы торговали гастрономией, оказались разрисованными гигантскими и совершенно фантастическими цветами. Эта антихудожественная, хотя и произведенная художниками, декорация вызвала в Москве много смеха и шуток. В таком разукрашенном виде деревянные лавки красовались почти целый год. Затем большевики упразднили Охотный ряд, и эти размалеванные постройки были разобраны.
А то бывало еще, что к советским праздникам такие художники-декораторы обтягивали тонкой белой бумагой все деревца и кустарники в сквере против Большого театра. Получавшиеся бумажные шары и иные фигуры обрызгивали лиловыми кляксами. Издали не было некрасиво…
Большой праздник бывал на улице художников в дни советских празднеств, когда надо бывало декорировать Москву и прежде всего дома с советскими учреждениями. Столицу усердно разукрашивали, особенно в 1918–1919 годах. Все главные улицы багровели от массы развешанных флагов, полотнищ материи и полос с большевицкими лозунгами. Изводилось красной материи уйма, а в мануфактуре уже начинал чувствоваться острый недостаток. Но материи, оставшейся от времен царского режима, не жалели. Все, что только имело красный цвет, шло на декорацию и на плакаты: ситец, кумач, шелк, плюш, бархат… Красные материи реквизировались в еще частично существовавших мануфактурных магазинах и безжалостно истреблялись.
В последующие годы, когда запасы старой мануфактуры стали иссякать, а новой производилось недостаточно, украшения улиц производились многим скромнее.
В процессиях, которыми обязательно сопровождались празднества, целым лесом несли флаги и плакаты. Иные из плакатов бывали так велики, что их поддерживало по несколько человек сразу.
Тогда еще не принуждали, как это делалось впоследствии, поголовно всех служащих и работающих участвовать в процессиях. Но, например, для молодежи-допризывников это бывало обязательно, наравне с только недавно возникшим, а потому еще малочисленным комсомолом. Как-то и моего сына, в качестве допризывника, принудили, несмотря на его внутреннее возмущение, нести красное знамя… комсомола. Настроение на лицах, принудительно участвующих в процессиях, отнюдь не было праздничным. Но все это было лишь цветочками по сравнению с принуждениями, начавшимися через несколько лет.
Иногда в праздничных процессиях везли разные фантастические чудовищные фигуры, которые должны были представлять «гидру» капитализма, буржуазию и т. п. Или же ехали экипажи с загримированными фигурами-пародиями на враждебных большевицкой власти политических деятелей Европы.
Издали не были лишены красоты процессии женщин – все в красных платках. Это напоминало маки.
Обыватели
Москвичи в эти годы выглядели довольно грустно. Лица – хмурые, озабоченные, и, конечно, было чем. Одеты плохо, почти оборваны. Обувь у многих подрана; калоши, благодаря недоступной цене, большая редкость. Давать подранную обувь – эту драгоценность – в починку было опасно: сапожники не всегда возвращали ее, после ремонта, заказчику. Бывало, что, починивши обувь, ее продавали на рынке, а заказчику говорили, будто его обувь неизвестно кем украдена. Именно такой случай был и со мной. Управы на этих господ найти было нельзя.
Предприимчивые люди, вместо кожи, которой не бывало часто можно достать, обращали на обувь ковры, подстилки – все твердое. Но и эти лишения были только цветочками по сравнению с лишениями при режиме Сталина.
Не растратившие пока своих сил москвичи еще могли острить над своим положением. По Москве ходил юмористически написанный квазинаучный доклад, будто бы составленный иностранцем путешественником. Доклад изобиловал юмористическими моментами, суть же была в том, что автор, де, открыл новое племя – moskoviensis, которые подразделяются на два вида. Первый, moskoviensis vulgaris – с обязательным горбом на спине во все времена года, кроме зимы, когда, вместо горба, за таким обывателем волочатся санки. Второй – moskoviensis communisticus; внешним его признаком служат кожаная одежда и портфель под мышкой, и он пользуется всеми привилегиями жизни.
Так оно и было. Коммунисты, особенно влиятельные, гоняли с портфелями целый день в реквизированных автомобилях (более скромные коммунистические сановники – в экипажах из былых царских конюшен). Рядовые коммунисты гоняли на грузовиках.
Остальные москвичи во всей массе, не принадлежавшие к привилегированному сословию, таскали на своей спине разные тяжести. Представить себе москвича, идущего налегке, без какой-либо ноши, не было возможно. Многие выходили из дому, беря с собой мешок на спину или санки – «на всякий случай».
Дама или барышня, которая зимой тащит за собой санки с дровами или с мешком муки либо картофеля, была самым нормальным явлением. Иногда, впрочем, женщины и без саней волокли откуда-то раздобытую драгоценность: доску или часть балки – спасение своей семьи от мороза.
Трубниковский переулок. Пожилая, бедно одетая женщина, но с интеллигентным лицом, тащит санки с тяжелым бревном. Она изнемогает. Через каждые несколько шагов останавливается, тяжело дыша и держась за сердце.
По тротуару ее преследует женщина из привилегированного сословия. Взявшись за бока, заливается:
– Ха, ха, ха! Смотрите, граждане! Буржуйка тащит санки… И не может! Ха, ха, ха!
На Красной площади
Много неудовольствия вызвало создание на Красной площади, у кремлевской стены, кладбища для «своих», жертв коммунистического переворота, и вообще для более видных коммунистических покойников.
Могилы – разумеется, без крестов – в форме вытянутой, сильно усеченной пирамиды. Их в Москве прозвали «пирожками». Пространство у кремлевской стены все более и более заполнялось такими «пирожками». Москвичи, поглядывая на это кладбище в центре города, не раз высказывали мечты о времени, когда Красную площадь от него очистят, а честные останки куда-либо свезут в иное место.
Своеобразное кладбище, так раздражающее москвичей, было довольно нарядно разукрашено цветочными насаждениями.
Москвичи острили:
– Какой самый лучший памятник на еврейском кладбище?
– Памятник Минину и Пожарскому!
Или рассказывали еще, будто на памятнике этом было найдено стихотворение, в котором поза Минина, указывающего князю Пожарскому перстом на Кремль, интерпретировалась словами:
Смотри-ка, князь:
Какая грязь
У стен кремлевских завелась…
Памятник Минину и Пожарскому под конец также «пал жертвою в борьбе роковой».
Произошла, в 1920 или 1921 году, катастрофа со вновь «изобретенным» аэровагоном: он свалился на ходу, при скорости в семьдесят километров, с рельсов под откос. В этом аэровагоне везли покататься, чтобы похвалиться «своим, советским» изобретением, – гостей, иностранных коммунистов. При катастрофе семеро было убито, а несколько тяжело ранено; последние частью поумирали в больнице[66]66
Аэровагон (моторная дрезина с авиационным пропеллером), в котором возвращались из поездки на рудники Подмосковного бассейна 22 коммуниста, сошел с рельсов 24 июля 1921 г. в 105 километрах от Москвы; среди 7 погибших, похороненных на Красной площади, были член ЦК РКП(б) и председатель ЦК Всероссийского союза горнорабочих Ф. А. Артем (Сергеев), конструктор В. И. Абаковский и делегаты I конгресса Коммунистического Интернационала профсоюзов и III конгресса Коминтерна.
[Закрыть]. Их тоже, как будто героев переворота, хоронили в братской могиле, одновременно с убившимся горе-изобретателем.
Злорадное удовольствие высказывалось в московской толпе, во время торжественных похорон, когда несли в обитых красной материей гробах одну за другой жертвы катастрофы:
– Так им и надо! Незачем было к нам ездить.
– Только семь? Думали – больше…
– Ничего, еще прибавится! Есть тяжело раненные.
– Пусть другой раз не суются к нам!
В районе этого же кладбища был впоследствии воздвигнут мавзолей для трупа Ленина.
Похороны
Двойная трагедия происходила, когда кто-либо в семье умирал. Горе от потери любимого человека соединялось с горем от трудности его похоронить.
Не менее двух дней приходилось тратить на беготню по разным советским учреждениям, чтобы получить ордер на гроб, разрешение на похороны и пр. Хлопоты часто занимали еще более долгое время, и покойник в доме успевал основательно разложиться.
Происходят, наконец, похороны. Досок для гробов, сколько-нибудь напоминающих былые, в Москве достать было нельзя. Гроб сколачивали из таких дощечек, которые, как говорили в шутку, брались от макаронных ящиков. Тонкостенные, едва держащиеся ящики, с большими щелями… Вот-вот рассыпятся.
Похоронные процессии на улицах запрещены. Священники также не имеют права сопровождать гроб. Везут его на санях или на телеге; бедняки несут на руках. Сопровождает только горсточка близких. Скопища, как в былые времена, знакомых и друзей запрещены.
Полагалось, чтобы похороны были для всех одинаковые. Разумеется, для себя коммунисты делали исключение: своих деятелей они хоронили со всевозможными почестями и треском.
На кладбищах, однако, не погребали тотчас, как принесут покойника. Гробы ставились в очередь – в «хвост». Похоронят, когда наступит очередь. Не в очередь хоронили только тогда, если «сотрудникам», т. е. могильщикам, давали достаточную взятку. Впрочем, и при каждых похоронах какие-то красноармейцы из кладбищенской администрации занимались вымогательством от родных за право внести на кладбище, за засыпку могилы и т. д.
Нередко оставляемых покойников грабили. Снимали с них – когда родные уйдут – одежду, обувь и сбывали их затем на рынках.
По Тверской улице дама в трауре останавливает прохожего:
– Простите, пожалуйста… Но ваш костюм мне очень напоминает костюм мужа.
– А-а…
– Посмотрите, очень прошу вас, – нет ли заплаты на левом кармане внутри?
– Я недавно только купил этот костюм… Да, действительно, заплата есть!
– А я похоронила в нем неделю назад своего мужа!
В Одессе, где был еще более острый недостаток в лесе для гробов, покойников, как рассказывали, после похорон могильщики откапывали, снимали одежду и белье; трупы бросали обратно в яму, а гроб снова пускали в продажу. Весьма вероятно, что то же делалось и в других городах.
Хлеб насущный
Самой острой нуждой в 1918–1920 годах – но более всего в 1919‐м – был вопрос о питании. Жизнь дорожала, и все труднее становилось прокормиться. Не только не хватало денег, но даже и при деньгах почти нечего было покупать.
Уничтожение торговли производилось большевиками пароксизмически: то надавят, то опять немного отпустят. И всегда такие перемежающиеся пароксизмы влекли за собой повышение цен.
Хлеб в продаже был только ржаной, – о белом в эту пору москвичи перестали и вспоминать, за исключением, конечно, коммунистов, – и хлеб все время дорожал. Я читал стихи на стенах возле Нескучного парка (эти стихи, впрочем, потом расписывались на стенах по всему городу):
Был царь-простачок,
Хлеб был пятачок.
Стала республика, –
Хлеб – двадцать три рублика!
Но какое там – двадцать три! Цена все повышалась: сотни, тысячи, сотни тысяч, миллионы рублей за фунт хлеба!
В 1918–1919 годах я занимал шесть-семь должностей. Но всего жалованья, которое я по этим должностям получал, едва хватало на покупку для семьи только одного ржаного хлеба. Для остального приходилось постепенно ликвидировать остатки своего имущества. Прежде всего шли в продажу книги из научной библиотеки.
Хлеб приходилось сторожить, ловить. Радовались, если удавалось его купить либо на Смоленском рынке, либо в Охотном ряду. Изредка привозили нам хлеб бывшие сослуживцы из Ржева, где вопрос с ним стоял менее остро.
В 1919 году настало время, когда хлеба на рынке вовсе уж нельзя было доставать. Приходилось заботиться о муке. Но и ее продажа, в связи с закрытием рынков, была запрещена. Однако «мешочники» умудрялись провозить муку из деревень и с юга, откупаясь на пути взятками и подачками от реквизиции заградительных отрядов. Потом их расходы по этим взяткам окупали, конечно, покупатели.
Продаваемую секретно муку спекулянты разбавляли всякими примесями, – на это мало обращали внимания, брали.
В нашем районе образовалась артель инвалидов, которая промышляла торговлей мукой. Благодаря этой инвалидности, реквизиторы их почти не трогали, и торговцы хорошо наживались.
Таинственно, часто с условленными паролями и по особой рекомендации знакомых, и обыкновенно в вечерние часы, приходилось проникать к таким торговцам. Но покупка муки еще не гарантировала дальнейшего обладания ею. Надо было суметь провезти приобретенную муку так осторожно, так ее маскируя, чтобы милиция на пути не отобрала. Это случалось нередко.
Спекуляция мешочничеством все развивалась, и очень многие стали этим делом заниматься: крестьяне, солдаты, чиновники, студенты и пр. Спекулянтов бранили все. Самое слово «спекулянт» стало поношением… Но справедливо отметить, что в ту пору спекулянты спасли Москву от настоящего и ужасного голода.
Дома, на железных печурках, из муки пеклись на сале самодельные пышки, которые заменяли нам хлеб.
Позже хлеб снова появился в продаже. В 1920 году, будучи профессором университета, я покупал его у университетских сторожей. Эти почтенные люди, ставшие теперь, при коллегиальном решении хозяйственных дел, фактическими хозяевами университета, почти полностью освободили себя от служебных обязанностей. Свое же время они употребляли теперь по преимуществу на то, чтобы, пользуясь казенным, а стало быть бесплатным, топливом, целыми днями выпекать хлеб. Их жены весь день торговали этим хлебом в Охотном ряду. Его можно было покупать и на квартирах сторожей.
Так пришлось прожить два года, испытывая – не говоря об остальном питании – острую нужду в хлебе. То, что удавалось получить, мы, четверо членов семьи, делили на четыре равные части. Каждый получал свою порцию на целый день и распоряжался ею, как умел и хотел. Особенно трудно приходилось пятнадцатилетнему сыну Олегу. Растущий организм требовал более сильного питания, но молодое самолюбие не позволяло ему принимать хлеба больше, чем доставалось другим. Он съедал обыкновенно всю полученную порцию в начале дня, а за обедом оставался уже без хлеба. Мы старались незаметно подложить ему от своих порций. Иногда это сходило, но если он обнаруживал нашу хитрость, происходила драма.
Мы мечтали о времени, когда можно будет класть хлеб на стол, чтобы каждый брал, сколько хочет. А когда такое время опять наступило, мы его как-то мало ценили.
За эти два года все мы сильно похудели и сбавили свой вес. Но – странное дело: в смысле здоровья полуголодное существование было отчасти и на пользу. Например, у некоторых попроходили катары желудка…
Продовольственные карточки
Формально считалось, будто все граждане находятся на питании власти, и это питание будто бы осуществлялось при посредстве продовольственных карточек.
В то время карточки были трех разрядов: первый давался коммунистам и рабочим; по второму получали советские служащие – я относился к этому разряду; третий разряд был уделен буржуазии и вообще «нетрудовому элементу».
Нормы выдачи хлеба с течением времени менялись. Приблизительно же по первому разряду выдавалось по полтора фунта на человека, по второму – фунт или три четверти, по третьему – гомеопатические дозы.
Получение хлеба, как и других продуктов по карточкам, производилось через посредство домовых комитетов. Хлеб выдавался очень плохого качества, с разными примесями: картофельная шелуха, молотый овес, куски соломы и пр. В нашем доме его привозил из продовольственного магазина бывший дворник. Он разрезал хлеб затем на порции, сколько полагалось на каждую квартиру, а там, как угодно.
Естественно, что каждый заведующий по дому хлебной операцией, желая гарантировать себя от провеса, всюду недовешивал. И в его пользу, как вознаграждение за труд, от сорока квартир нашего дома получался немалый остаток.
Впрочем, с продовольственными карточками злоупотребления были повсюду. На них сильно наживались служащие домовых комитетов. Они скрывали о выбывших из дому, продолжая по их карточкам получать в свою пользу, или же требовали карточки для «мертвых душ», засчитывая их на продовольствие. Бывали случаи, что в больших домах таким образом набиралось лишних 30–50 карточек. Реализация на рынке излишне полученного давала изрядный доход.
Советская власть была бессильна справиться с такими злоупотреблениями. Статистика же показывала, что число выданных карточек раза в полтора превышает наличное число жителей Москвы.
Самое же добывание продовольственных карточек и особенно их замена, когда исчерпывались листы с отрезными купонами, всегда сопровождались проволочками и перерывами в получении хлеба на несколько дней.
Лошадки
Если недостаточно было хлеба, то тем более не хватало другой пищи.
Еще в 1918 году добывать разные продукты было все же возможно: торговля не вполне была парализована. Но 1919 год был ужасный! Рынки пустовали и вследствие трудности подвоза, и вследствие постоянных реквизиций власти.
Нередко бывало, что на рынке появлялась цепь милиции и красноармейцев, окружала его и реквизировала продукты. Продавцов же и покупателей, особенно если они не имели при себе документов, забирали под арест как спекулянтов. Такие партии бессмысленно арестованных людей нередко можно было видеть на улицах. Их затем обыкновенно наряжали на «общественные» работы, особенно женщин. Этих последних заставляли убирать красноармейские казармы, стирать красноармейцам белье, – если только насмерть запуганных невинных арестантов не принуждали к еще худшему.
Главным продуктом питания стала конина. Но и ее не всегда можно было получить. Бедной моей дочери, молоденькой девушке, зимой приходилось вставать в пять часов утра, становиться на рынке в хвост у мясной лавчонки или у телеги с мясом, – и часто буквально с боя вырывать для нашей семьи кусок конского мяса.
Понемногу москвичи к конине так привыкли, что стали считать ее нормальной пищей. Мясники объясняли, что, в сущности, конину мы ели давно, но только не подозревали об этом. Например, почти все колбасные изделия были в Москве, будто бы, из конины.
Некоторые находили, что плох суп из конины. Быть может, это больше зависело от способа его приготовления. Мы, например, ничего противного в супе с лошадиным мясом не ощущали. Хуже было конское сало. Раньше на него и не посмотрели бы. А в 1919 году, под действием голода, мы считали его чуть ли не лакомством. Намажешь сала от лошадки на хлеб и охотно его ешь за стаканом чаю.
Иные уверяли, будто «органически» не переносят конины. Это было, конечно, лишь самовнушением.
Приехал в Москву почтенный ученый Федор Иванович Блумбах, тогда управлявший Главной палатой мер и весов в Петрограде; обедал у нас. Заговорили о питании, которое в ту пору в Петрограде было все же лучше, чем в Москве.
– Я со многим уже примирился. Но единственное, чего я не могу перенести, – это конины! Мне сейчас же становится от нее дурно.
Жена с дочерью переглянулись… На обед был у нас борщ на конском мясе и бефстроганов также из конины.
– Может быть, Федор Иванович, это вам только кажется?
– Нет! Сколько раз ни пробовал, всегда становилось дурно. Я ее сейчас же узнаю.
Что поделаешь? Идем на авось. Другого обеда ведь все равно не достанешь: ни гостиниц, ни ресторанов не существует, рыночной торговли также нет.
Ф. И. с аппетитом съедает тарелку борща. Просит повторить. Переглядываемся. Идет благополучно! Так же проходит и со вторым блюдом. Блумбах ест с аппетитом и охотно повторяет.
Сидит он у нас до позднего вечера. Ничего, вопреки его уверениям, дурно ему не делается. Не догадывается, чем его угостили.
Так он и уехал в Петроград.
Месяца через два Ф. И. снова в Москве.
– А что, Федор Иванович, вы все так же не переносите конины?
– Абсолютно!
– И ни разу ее не ели?
– Ни одного разу не мог себя заставить.
– Ну, в этом вы ошибаетесь!
Рассказываю, как он у нас с аппетитом насыщался кониной.
– Да быть не может?
– То-то оно и есть! Внушили вы себе это только.
Продажа под полой
Все же, даже при закрытых рынках, туда стекался народ за покупками. Ходят «граждане», присматриваются один к другому: не провокатор ли, не дай бог?
Слышится шепот:
– Хотите купить?
– Да! Что у вас?
– Фунт масла сливочного.
– А, отлично! Давайте!
О цене даже и не спрашиваешь…
Таинственный знак рукой, и баба, как будто наслаждаясь видом облачного неба или облезшей штукатуркой домов, идет подальше в глухой переулок. Покупатель, точно посторонний гуляющий, глазеющий по сторонам, – следует на приличном расстоянии за ней. Ныряют в полутемную подворотню. Баба лезет куда-то, в подозрительные области, под юбку и вытягивает завернутое в тряпочку масло. Стороны расходятся, довольные друг другом. Она – «спекульнула», покупатель имеет чем покормить дома.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































