Текст книги "Прогулки с Соснорой"
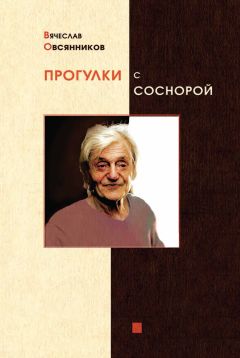
Автор книги: Вячеслав Овсянников
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
– Я здесь никогда не смотрю выставки. Все пересмотрел там, в Европе. И вообще: все это мной давно пережито и теперь неинтересно. Смотреть все это я уже не могу. Так же как не могу читать книги. Я же профессионал. Читал бы ты с пяти лет, как я, то же самое было бы. Ничего, к шестидесяти и у тебя будет также.
Я спросил у него: действительно ли у Сезанна грязный цвет?
– Вот умный вопрос! – отвечал он. – Да, цвет у него грязный. Но это ведь у него сознательно. Дело не в цвете. Сезанн совершил революцию в методе писания картин. Он первый стал писать не гладкой поверхностной краской, как писали все, а фактурно, в глубину. У него главное – энергия. Воплотить, выплеснуть краской, ее сгустками, комками мощь своей энергии. Главное у него – внушение, воздействие. Как и у средневековых икон. Собственно, он метод средневековой живописи вернул. Посмотри Феофана Грека, итальянскую икону. А Возрождение повернуло к светскости, к гладкописи, и этот метод действовал пятьсот лет. Ну, не все в Возрождении. Боттичелли, Леонардо этой гладкописи не поддались. У них тоже главное энергия, хоть и написано той техникой. Метод Возрождения это метод глядения картин или прочитывания содержания, а не воздействия. В двадцатом веке – взрыв. За Сезанном – еще имен пятьдесят. Вариации его метода, его открытия. И в поэзии. И в музыке. В прозе нет. В науке нет. Потом – все. История мира, как и история искусства – это регресс, а не прогресс. Чем древнее, тем мощнее. Чем дальше от древних, тем слабее. Еще Блок писал: «Первый – Гомер. Эсхил ниже Гомера. Гете ниже Эсхила». Да, убывание энергии. Рассеивание. Чем больше население, тем слабее энергия, ведь она распределяется на большое число людей, а ее генетические ресурсы одни и те же. Самые сильные в истоке. А где он – исток? Ведь и до Гомера же кто-то был. И был он сильнее Гомера, и так далее.
Он взглянул на меня с улыбочкой:
– Ты как библейский еврей: для тебя главное знания. Для чего ты читаешь книги? Для знания? Нет? Ты читаешь ради энергии? Вот-вот. Я так тоже читал. Заражает. Больше всего энергии в стихах. Да, согласен: знание тоже – энергия.
Цвет – рассеивание энергии. Да, конечно. Отвлечение от главного. В черно-белом больший конденсат. Но европейская живопись вся на цвете, привыкла к этому и этим жила. Цвет развлекает тех, кто к нему безразличен, и сокрушает тех, для кого он жизнь. У Востока, собственно, то же, что Сезанн:
то же воздействие, энергия, но там это индивидуально, там линия, мгновенная работа, колоссальная техника традиции, ученичество с пяти лет и безумный труд. Иначе не добиться таких высот. На Востоке цвет никогда не был главным. Они не знали цвета. Он был им не нужен. То, что стал делать Сезанн, собственно, мистика. Мистическое воздействие. Воздействие, внушение и есть метод мистики. Это метод Средних веков.
Звери. Они же поют. Не только птицы. И собаки, и кошки, и слоны, и киты. А дельфины как поют! Звери и рисуют. Обезьяны, слоны, змеи, даже лягушки, даже жуки. Да, у них и ум, и художественные способности, может быть, не ниже, чем у людей. Мы же почти ничего не знаем. Они и наш язык понимают, смысл того, что мы говорим.
Вот статья обо мне: пишут, что я единственный продолжатель футуризма. Ерунда. Поверхностное понимание. Никто еще не сказал обо мне верно. Не видят. Вот я тебе сейчас скажу, в чем тут суть. Так получилось, что первые книги, какие я начал читать в детстве, это были древнерусские летописи. И так это в меня вошло и пошло. Именно этот язык стал моим. Я видел все его сверканье и видел все убожество языка современного рядом с тем. На советском языке я не мог ни мыслить, ни читать, ни писать. Переделывать себя, об этом и вопрос не стоял. Вот и все. Просто. Отсюда и моя поэтика, и метод мышления, и все. Потом я открыл футуристов и увидел, что они оттуда же, от тех же корней. Потом открыл Гоголя, Державина. Те же истоки, те же корни. Этими текстами я и упивался, это и было моим единственным чтением. Вот моя поэтическая родословная. Так что я – до футуризма. У Пушкина была тенденция сглаживать язык. У Маяковского – ломать. У Державина, кстати, – тоже. Но формальные методы совпадают: звукопись и так далее – от древних корней. Вот меня и не читают, не по зубам. А читают Маринину – детектив самый дешевый и газету. Не будешь же ты читать какие-то беззубые книги, когда есть Гоголь. Так и картины. Зачем тебе смотреть сладенькую гладкопись, когда есть Сезанн, Ван Гог, Гоген и еще десятки. Это герои. Это был взрыв героев. Они жили как герои. И писание картин сделалось подвигом. Прошлый метод не отменяется, там много изысканного.
Если у меня и есть иностранные речения, канцеляризмы, они у меня всегда иронически повернуты, никогда всерьез.
Да, получается, как и в рисунке, – древняя техника.
Вот кто от футуристов, так это Вознесенский. Прямая линия от Маяковского. Айги – линия Крученых. Он его развил.
Я перечитал на Мшинской твою последнюю книгу. У тебя там явилась некая легкомысленная живость. Что меня приятно удивило. Ты используешь много моих приемов, но они тебе не вредят. Первая твоя книга крепче, но нет этой живости.
Когда я приехал из Львова в Ленинград, я познакомился с Горбовским, и меня тогда поразили две вещи: крайне изумило убожество языка и ошеломил талант – с какой злой страстью он писал стихи и достигал такой силы при таком бедном языке. У Бродского вообще не язык, а макароны. Но сильнейший поэт. Содержание-то у всех у них было что надо, антисоветское, сильное, но язык советский, газетный, убогий. У Вознесенского – так-сяк.
Пушкин крутил язык во все стороны. Лермонтов совсем свел язык к популярному, доступному. В стихах это звучит ужасной риторикой, у него. В прозе – нет. У него что-то брезжило, и это удачно воплотилось в таком языке. Ну, там многое. За этим еще стоит Мериме. Но все это не суть важно.
Нет, нельзя сказать, что музыка в стихе главное. Многое главное, когда как. Например, есть обнаженные приемы, лежат на поверхности, структурное. Они вполне переводимы. У Лорки, скажем. И в переводе они звучат достаточно сильно. Но внутреннюю музыку, конечно, не перевести.
Тех, кого в Европе объявили лучшими рисовальщиками, даже я превзошел уже на много порядков. А я-то ведь рисую куда душа крутится.
1 октября 1998 года. Сегодня прогулка не удалась. Дошли до леса – дождь хлынул. Вернулись домой. На столе у него рисунки, гуашь.
– Не получается, – сказал он. – Застывает от холода. В квартире холодище, не топят. Для китайцев европейская живопись казалась ремесленничеством. Европейскую живопись можно подделать, а китайскую нет. Европейская живопись на содержательности. Картины в Европе писались, чтобы продавать желающим их смотреть. В них нет внутренней жизни. Принцип европейской живописи – гармония. То есть – самоограничение, несвобода. И потом – европейское пристрастие к цвету, слишком много наляпано красок, мазня. Глаз европейской живописи искалечен. Тут уж ничего не поделаешь. Неисправимо. Принцип китайской живописи – естественность. У них тоже был свой канон, но в рамках канона каждый должен был проявить свою естественность. Все это только слова, это не объяснить, надо смотреть сами дела, образцы. А так – пустой и бессмысленный разговор. Да «выписывать волю» и «силу кисти». Так они говорили. Их кисть подделать невозможно. Как? Нажим, разная толщина линии. Для китайцев природа была живая, они относились к ней эстетически. Они ее берегли, как святыню, сакральное отношение. Европейцы относились к природе утилитарно, для использования, то, что можно было употребить для жизни, для нужды. Она для них была мертвой. Вот они и сотворили весь этот ужас технической цивилизации, что человеку совершенно не нужно, что его только порабощает и уничтожает. Так какое же может быть у них искусство, какая живопись.
Естественность – сложный вопрос. Для кого что естественно. Идеально естественного человека в природе нет. Скажем, только мастер своим высшим искусством может достичь естественности. А слабые в искусстве манерны. Лучше бы вообще не знать, какой ты есть. Но если уж стал об этом думать, то лучше быть таким, какой ты есть, а не пытаться быть кем-то. Никому не удавалось сделать из себя не себя. Удавалось, но для меня, например, это сразу видно, что сделанный, а не от природы такой, а не его природа. Надо играть роль самого себя. Вот и все. Актеры? На актеров ведь только и смотрят, на их личность, а не на роли, которые они играют. За какие бы роли актер с яркой личностью не брался, везде будет именно он. Так и говорят: характерный актер. Так и во всем – личность, лицо.
Почему, например, я недоступен для массового чтения? Как ты думаешь? Потому что я неадекватен. У меня открыто агрессивный, вызывающий язык – против их языка, против течения всего их способа мышления. Конечно, я им не свой, чужой. Они сразу это чуют. Я – не их породы. Собаки чуют волка за километр. Как я ни старайся, ни пробуй, мне свою природу не переделать. А им – свою. Возьми Горбовского – язык плебейский, примитивный, но сильный, сжатый и тоже жутко агрессивный, им враждебный. Ничего он с собой не смог поделать, как ни пытался себя занизить.
Да, быть таким как есть. Но как? Есть люди, которых невозможно не заметить. Яркая внешность. Яркая психика. Я такой. Другие же безлики, незаметны в толпе, их путают с другими. Как есть, так и есть, надо себя знать и так и оставлять это.
Изучить живопись несложно. Но это будет вранье. Что изучить? Ведь книги о живописи пишут только те, кто живописи не понимает. Потому и пишут, что не понимают. Для денег, для научного чина. То есть не понимают главное в живописи: где живое, а где мертвое. То же и в литературе. Европейская литература содержательна на девяносто процентов, как и живопись. А что содержательность? Нуль. Жизни в этом нет.
Самый естественный человек – алкоголик. Что естественней, чем пить? Забыться, уйти от всей этой рациональности в мир прекрасных видений. Уйти от этой жизни. К гибели, конечно. Быстрое саморазрушение. Но и на кой черт тут задерживаться, в этой так называемой жизни… Мечты и звуки. Все это, знаешь, мечты и звуки.
Почему греческие актеры надевали маски? Чтобы играть не на публику, а сохранять силу игры внутри. Играть внутрь, а не вовне. Скрыть лицо, то есть – внешнее, тем сильнее проявится внутреннее, суть. На этом и все мистерии: скрыть от непосвященных, от профанации, от обесценивания, от шарлатанства, от публичности – скрыть сакральное. Оно должно было действовать как загадочная, непостижимая сила. Поэтому и Библию запрещалось читать народу: чтобы не уронить в грязь, в пошлость – священное, божественное. А теперь что? Поголовная грамотность, полная открытость, доступность, то есть – падение, продажность, профанация всего, опошление, низведение к нулю, к поверхности, к пыли.
В европейском искусстве слишком много для жизни. Потому и поглощено содержательностью. Китайское миросозерцание – только дух. Средневековая икона тоже – только дух.
16 октября 1998 года. Сегодня на прогулке разговор зашел о древнегреческой живописи и музыке: что все утрачено, остались только описания. Он сказал:
– Да. Это все равно что юная блудница будет описывать известную часть тела. От древнегреческой музыки сохранились нотные записи, их расшифровали. Но мы не знаем, как исполняли музыку древние греки, их практику, их методы, их дух, что они вкладывали. Да, была попытка воспроизвести их музыку, которая провалилась: получился какой-то дикий хаос звуков.
Я знаком с Андреем Волконским, мы дружили. Он – композитор средневекового толка, от средневековой музыки. Композитор, музыкант – совсем другой тип художника. Более нервный, всегда в напряжении. Постоянно, без перерыва. Поэт год-два может быть тоже в жутком, колоссальном напряжении, но потом – спад, перерыв. У музыканта или композитора – нет, постоянно. Поэтому они много пьют – для разрядки. Поэтому в двадцатом веке многие погибли от наркотиков, от опиума. Живописцы – тоже другой тип. Тоже – в постоянном напряжении, но они ближе к поэтам. Совсем другие миры – литература, живопись, музыка. Ничего общего, никаких касаний. Музыка в слове – это совсем не то, это внутренняя особая форма слова, в слове. Вот этими другими типажами художников меня и поразили в свое время Кулаков и Волконский. Разное, все разное, во внутреннем.
Чайковский – популярный, пошлый вариант Моцарта. Моцарт – блестящая, яркая музыка. Бетховен – средневековый музыкант. Да ну, эта тема не для разговора. В музыке я несведущ. Хотя у меня всегда был, с детства, идеальный музыкальный слух и я занимался в музыкальной школе. Но в этом я бездарен. Говорить о литературе – тоже опротивело уже давно. Философия? О, философия – самое вонючее, что породило человечество. Вся философия поголовно рассудочна. Нерассудочной нет и быть не может. В этом и смысл философии: рассуждать. Лжемышление. Истинное, подлинное мышление – образное, мышление поэта. То есть вымышленное мышление. Оно только и есть подлинное. Зачем было читать миллион книг. Дурак, о дурак! Дурацкая потребность, библиомания. Наверное, из-за отсутствия жизни – замена книгами в детстве, юности. Все есть в стихах. «Книга перемен» – мантика, чистые символы. Гадательная книга. Вот что меня поразило. Эллинское воспитание не дает повернуться к Востоку, переориентироваться.
Я заметил, что у него в книгах близко к восточному.
– Да, – согласился он, – может быть, древняя память крови. В так называемый мой эллинский период, когда я еще не читал восточных книг, у меня были галлюцинации при белой горячке, на улице Росси: на стенах горели громадные иероглифы. Я списал и потом искал аналоги. Уходит куда-то в Тибет и дальше. Сны снились: развалины гигантских древних городов.
У меня всегда самосознание было сверху, а не снизу.
Ни Селина, ни его ученика Миллера я терпеть не могу. Потоки трескучей риторики.
Все живое на земле настроено на Луну, на ее перемены, все чувства живого, и у человека – тоже. Вся жизнь – по Луне. От солнца только энергия, без нее ничего бы и не было. Человек нарушил эту природную связь с Луной своей рассудочностью и гибнет.
Есть сильные детективы. Читаю с удовольствием. Например, Стаут. «Если бы смерть спала». И еще другой, не помню имя. Мастерский сюжет: самолет с индусом. Этот индус объявляет пассажирам, что самолет полетит туда, куда пожелает он. И самолет летит, делая посадки в каких-то ледяных пустынях, где каждый раз остается один из пассажиров. Так доходит очередь до главного героя, до рассказчика… Забавно. Забавные вещи попадаются иногда.
28 ноября 1998 года. Сегодня встречал его в Пулково. Самолет из Ганновера. У него там была операция. Урология.
– Еще одна боевая операция, – пошутил он. – Неделю пожил спокойно, а потом началась резня.
8 декабря 1998 года. В лес не пошли. Гуляем недалеко от дома. Снегу навалило, на тротуарах каша. Он не взял на улицу слуховой аппарат. Пишу ему на бумажке, что видел на Невском хороший альбом Матюшина.
– Матюшин – первый в мире абстракционист цвета, – сказал он. – Открыватель этого. Первый и высший. Ярко и сильно. Поллок и прочие рядом с ним дети. У тех это прикладное, обои. У него – настоящие картины, искусство. Но все это на холстах, со всеми вытекающими из холстов последствиями. Абсолютно свободен. Холст нисколько не ограничивает свободу. У каждого материала своя свобода. Мастеру свободно в любом материале, он находит в материале его свободу и сам при этом свободен. У холста своя свобода. Новый материал – новая свобода. Бывают материалы очень трудные – клеенки Пиросмани. Новые материалы – новые пути. Кулаков даже на наждаке пробовал рисовать. Ничего, справился.
Все они бредили космосом. Все эти их идеи – чепуха, это у них была такая придурь. К их же искусству, к тому, что у них практически, эти бредни теоретизирования никак не относятся. Малевич написал тома о своем методе, об интуиции, которая там и не ночевала. Все вранье, бессознательное, сам он не понимал. О жратве у него всю дорогу. Ясно, в те годы, парень голодный. Всегда тут все дела, вся борьба вокруг жратвы. Ну, так что об этом писать. Сколько уж написано. Сам он о своем искусстве не написал ни слова правды. Просто искусство кончилось, вот от нечего делать и принялся обосновывать и объяснять.
То же – Филонов. Ну какое это аналитическое искусство? Где там анализ? Это безумные уровни мастерства – вот что это! Анализ тут ни при чем. Он всего лишь рисовал, безумная выписанность, каждая черточка, мазочек, миллионы этих мазочков. А тупицы видят на его картине петуха, полученного из этих мазочков, и вот толкуют и вкривь и вкось: что он, Филонов, хотел этим сказать, какая тут философия. При чем здесь петух? Философию эту придумывают сами эти теоретики.
Что такое философия: логика, рассуждения, однозначность, не форма. Искусство же алогично. Любой талант прежде всего алогичен. Талант и есть алогичность, само собой разумеющееся. Если талант, то и алогичен. Если не алогичен, значит – не талант. Другое дело, что многие художники, даже великие, думают о себе, что они логичны, хотят осмыслить мир логически и создать логическую систему, картину мира (какая-нибудь идеология, мораль, скажем, христианские идеи, да мало ли что, какие-нибудь догмы, те или иные). Но на деле собственное искусство опровергает всю эту тупость, все, что они о себе и о мире надумали, теоретизируя. В их искусстве этого ни намека не оказывается. Потому что природа их другая, природа их художническая, алогическая, и переделать себя они никаким образом не могут при всем желании. Гоголь думал, что он реалист и пишет реалистический образ России. А получилась фантасмагория о России, самая жуткая, какая только возможна. Какой там реализм!
В том-то и дело, что художническое и философское – антиподы. Там – все вне логики, тут – все одна только логика. Так каким образом одно может сказать о другом? Абсолютный бред. Все, все иное – психика, устройство мозгов, физиология, восприятие, осмысление, жизнь, все. Да. Об искусстве, о книгах, о картинах, о музыке ничего и нельзя сказать. И не надо. Только читай, смотри, слушай, если можешь это понимать в живом непосредственном контакте и жить этим. Но живут этим только единицы. А подавляющее большинство приходят в музеи или филармонический зал или раскрывают новую книгу – из любопытства или полюбоваться, насладиться. Через час они уже обо всем этом забыли и все это им до лампочки, они вернулись к своей повседневности. Они этим не живут и этим исчерпан весь их смысл. А художник живет только этим, он полностью этим поглощен. Как могут одни понять других? В этом смысле художник обречен быть один, на абсолютное одиночество.
И то, что пишут о них эти академики-теоретики, – чистой воды жульничество. Пишут ради денег или славы, паразитируют, кормятся на искусстве, создают себе социальное положение, получают чины и ордена. Их убого логичные толкования – спекуляция и профанация. Все как раз наоборот. Все у них поставлено с ног на голову. У нас в России только Опояз имел смысл. Шкловский, Эйхенбаум, Тынянов и прочие. Они занимались только чистыми формами, то есть истинными ценностями в этом конкретном деле. Скажем, приемами. И только. Ничего, что вне искусства как такового и автора как такового. Конкретика. Никакой философии, теорий, схем. Якобсон потом скурвился, он – первый структуралист, начал строить схемы и выводить их из всего. Но Опояз просуществовал года два-три, и все на этом.
Вот, кстати, последняя книга Солженицына. Я его терпеть не могу, но эта его книга – совсем другое. О русских писателях начала века: о Замятине, Бабеле, Пильняке и прочих. Он дает разбор каждого, кто что сделал ценного, какие у кого ценности, что внес нового в литературу. Чистый, точный и абсолютно правильный разбор. В этом смысле такая книга о литературе идеальна. Если о ней и писать, то только так. Я-то в этих писателях давно уже не видел для себя ничего ценного. Но, прочитав эту книгу, понял, что все-таки есть у них ценное и я был слишком суров к ним.
Да, есть философия другого рода. В образах, в мифах. Но это уже не философы, это поэты. Только они почему-то решили, что они философы, и так о себе и думали. Платон или вот, наш Федоров. Это же сплошь фантазии, далекие от какой-либо действительности, какого-либо правдоподобия. Безумцы с их яркими фантазиями. Сбесившийся Федоров: эта его фантастическая, сумасшедшая идея всеобщего воскрешения. О какой реальности речь. Земной шар разлетелся бы в прах под ужасающим грузом всех воскресших всех прошедших времен. О чем, спрашивается, он думал, их воскрешая? И так далее.
Даже когда каноны, один и тот же мотив из столетия в столетие в китайской живописи повторяется художниками. Но и тут нет реализма. Где ты увидишь в реальности, чтобы относительно пейзажа были такие едва видные человечки – как мошки? И каждый повтор мотива – новая, неуловимая интерпретация, преображение, другой дух. Что реальность: вот старуха идет. Скучно, серо. Смысл искусства только в преображении. И по-настоящему осмыслить мир можно, только преображая.
А что, скажем, обо мне пишут? Какие бредни! Что они во мне понимают? Им надо меня к чему-то приписать. О «Дне Зверя» пишут: сравнивают с Набоковым. Надо же такому прийти в голову! Я – весь сталь. Набоков – многоярусье тортов из крема и шоколада. Что общего? Ни в стиле, ни в темах, ни в чем. Или – с Веничкой Ерофеевым. Якобы его влияние. Смешно. Разве у меня там есть описания пьянства, разве герой – пьяница? У меня это символ, на котором построена книга, а отнюдь не реальность жизненной судьбы. У Венички же действительно пьют и наслаждаются питьем. Это его личная судьба и жизнь. У меня – ничего подобного.
Или – приписывают меня к футуризму. Ничего не сходится, ни по одному пункту. Ну, разве по одному только: требование к себе – делать только высшего качества. Но это же общее, без этого нет ни одного большого художника. А остальное? У них упование на будущее. У меня наоборот: полное отрицание будущего. Впереди только хуже и хуже. И ничего там нет, кроме смерти. И личной, и всеобщей. Формально – тоже не сходится. У них каждая строчка – другой ритм. У меня – стих классический, только разорванный.
Да и все они были совершенно разные: Маяковский, Пастернак, Хлебников, Лившиц – скажи, что общего? Цветаева. Вот какой вид иногда принимает философия. Она-то и есть философ. Ведь ее стихи – абсолютные математические формулы. В образах. Стальные. Вот – голая мысль. Формулы, где логичное алогично. Поэтому школы – чепуха, придуманное, принужденное, фальшивое. На самом деле есть подражатели и последователи. А настоящие художники всегда сами по себе, в одиночку, и если и начинают вместе, чтобы заявить о себе как о новом, то потом их пути очень скоро расходятся.
Не почти, а все поголовно читают логически, ради смысла, а не ради поэтики. Так привыкли, так устроены.
Французские писатели – сколько в них живости, какие они пылкие, легкие, естественные, непринужденные, сколько блеска! Англичане – другое. Мрачные, напряженные. А русская литература? Вот где мрак, так уж мрак. Один мрак и безумие. Все великие русские писатели – маньяки, одержимые. И я – маньяк. Не расслабиться. Как? Не написать легкой, светлой книги. Везде жуткая концентрация, сосредоточенность на мрачном. Критика, обличения – вот русская литература. Да, только Пушкин и Хлебников – те светлые, разносторонние, раскованные, непринужденные. Ну, Гоголь – это целый мир, и у него все – и смех, и слезы, и драмы. А какие еще светлые книги в русской литературе? «Фрегат Паллада» Гончарова. Вот и все. Ну, есть еще оперетты: Ильф и Петров, их Остап Бендер. И Булгаков «Мастер и Маргарита». Но это не высокая литература. Надо называть вещи своими именами. О них теперь кричат как о великих. Меня это раздражает. Оперетты – там им и место. Кто у нас в двадцатом веке? Только Платонов. Этот ужасный вымороченный писатель. Да, сильный, да, гений. Больше никого. Но у него нет цвета, нюансов, это графика, графические кошмары.
Да, Свифт. Очень концентрированная и в то же время свободная, непринужденная книга. Этакая геометрия на плоскости. Там ведь у него все очень геометрично и плоскостно. «Шагреневая кожа» Бальзака. Да – сильная книга. Она дала целый путь в литературе, новую тему, от нее родилось много значительных книг. «Портрет Дориана Грея» и многое еще. Да ну, отстань. Что ты меня мучаешь этими великими вопросами!
У меня впечатление, что ты какой-то растерянный и скованный. Я думаю – мое дурное влияние. Ты написал жутко мало. Энергия? Не в том дело. Энергия – материал. В материале. Я же ничего не говорю: пишешь ты хорошо. Но нет прорывов в неизвестное. Понимаешь? Вот что мне хотелось бы. Но у кого они, прорывы? У единиц. Мне хотелось бы неизвестного для меня. Твоих дневников я не читал. Дневник пишут от отсутствия жизни, когда не живут, вот и – дневник. Да, и книги пишут от отсутствия жизни. И все искусство – от нежизни. Да, так получается.
Я понимаю: тебе надо писать так, как тебе хочется, и то, что тебе хочется, что ты на самом деле любишь. А у тебя ничего этого не видно или едва-едва кое-где мелькнет. Ты это скрываешь. Боязнь? Или что? Не знаю. А ты знаешь, что тебе хочется писать и как хочется, что ты любишь? Сам не знаешь? Хорошо хоть честно признался. А писать при этом хочется. Вот, вот, знакомо. Ты страшно зажат, и твое у тебя скрыто, зажато где-то в тебе глубоко и не может пробиться. Не знаю, чем помочь, что тут посоветовать. У тебя нет уверенности. Конечно. Вот я тебе сейчас расскажу. В шестнадцать лет я уже занимался лыжными прыжками с трамплина. Входило в тренировку: прыжки в воду с вышки. Вот это был для меня ужас, боялся жутко. С дрожащей жердочки прыгать в бездну – семь, десять метров! Ты совершенно один, без опоры. Потом мы поехали на Тису. Какие красивые места! Ты бы видел! И там мы ватагой прыгали с берега в омуты. Никакого страха у меня не было. И сколько, ты думаешь, там была высота? Двадцать метров! Вот я сделал для себя открытие: дело в опоре – жердочка или широкий, прочный берег. Дело в соотношении. А с жердочек, с пятачков на утесе кто может прыгать? Единицы, герои.
Я взял туда, на Тису, вот такой том бумаги – писать. Думал, буду писать книгу. Специально. И что я написал? Ничего. Зря себя мучал. По принуждению не вышло.
Вот что я тебе скажу: дар писательства душит жизнь. Да и любой дар. Вместо того, чтобы жить, занимаются искусством. Может, так жить сильнее? Откуда я знаю? Я же не жил жизнью непишущих. Может, так, может, не так. Писательство – моя физиологическая потребность, как есть или пить. Мои книги возникали, когда приходило время им возникнуть. Написана одна, ждал следующую. Ну, спонтанно. Я уже много раз тебе говорил об этом: тут единственное правило – пиши только когда хочется писать. Слабо хочется, пиши слабо. Сильно – сильно. Жжет, несет – значит, так пиши, в запале, не отрываясь. Не хочется – нельзя себя насиловать, писать нельзя. Все равно будет мертвое. Надо только знать – плохое идет или хорошее. Я научился распознавать, как мне казалось, и то, видишь, опять сбился – с этим томищем моих великих рассуждений прошлым летом. Так что все это сложно. И я сам себя не знаю и что еще можно от себя ожидать. Никогда не знал. Никто этого о себе не знает.
Все книги у меня написаны по-разному. Из дневников – ничтожно мало. «Дом дней», например: задавал себе каждый день урок – написать по новелле. «Башня» – на основе записей в дневнике, сюда переехал, новые виды, трущоба, стройки, новый материал. Всегда в таком случае играет роль новизна материала или новый угол зрения. Взглянуть иначе. Я тебе говорил: все дело только в способностях, в таланте. Иному не надо никуда идти, он весь мир увидит у себя во дворе. А другой объедет все страны, тысячи приключений, а ничего не увидит. Потому что – слепой, тупой. Или есть глаза, или нет. Тут тысячи вариантов. У одних активность, талант; другие – вялы, слепы. Все без исключения боятся жизни. Только одни этот страх преодолевают активно, это герои. Другие более-менее, хотя бы держатся. Так – большинство. Это активное отношение к новизне зрения и новизне жизни, окружения, материала. В основном же все ужасно пассивны.
Пастернак вырвался в свет книгой «Сестра моя – жизнь». Эта книга вся – свет.
Возьми кинематограф. При Чаплине дальность съемки была метров двадцать. Дальше резкость терялась. И кинематограф был гениален. Теперь дальность – километры, до бесконечности. Кинематограф стал бездарен. Опять возвращаются к двадцати метрам и меньше. Почему? Потому что при узком диапазоне – концентрация человека и его действий. При широком – рассеяние. Тут прогресс техники привел к регрессу искусства. Так и во всем, главное – концентрация.
Да, не жили. Но у некоторых из них какие яркие мечты о жизни! Ну, какая была жизнь у Гоголя. Только поесть любил. Единственная его положительная черта.
Импрессионисты – разгул красок, иллюминация. Ладно. Ты забываешь, что я могу болтать бесконечно.
21 декабря 1998 года. Гуляем в лесу по заснеженной дороге. Забывшись, я ускорил шаг. Ему не поспеть за мной. Он говорит сердито:
– В моем возрасте и ты будешь плестись. Хотя, может, и нет. У тебя же не было таких перенапряжений, как у меня. Ты не пил, не курил, не бабничал, не прыгал с трамплина, не написал пятьдесят книг, как я. Это организм особого склада требует перенапряжения. Это потребность организма. То есть – саморазрушение. Да. От избытка силы. Но – силы психической. Психическая сила и есть – дарование. Нет, сила жизни – это совсем другое. Чиновник обладает силой жизни, он хочет жить. А скинь его с его места, и он ломается. А психическая сила – это чрезвычайная выносливость во всех ситуациях жизни. Таких людей не сломать. Но это бессознательная сила организма. Ей нельзя диктовать, ею нельзя руководить. Те, кто пробуют это делать, тут же ломаются. Она выносит, когда о ней не думают, сама собой. Это талант, дарование. Я повторяю.
Это и не воля. Это немцы волю выдумали. Воля – тупость. Да, может и воля спасти. Когда говоришь себе: нет, я выдержу, я выдержу во что бы то ни стало. Но это не сила. Да что ты заладил: алогична, алогична. Я не понимаю твоего пристрастия к этой научной терминологии. Я эти термины не люблю использовать. Они совершенно не годятся для определения этих понятий. Все просто: ни логично, ни алогично. Чушь это все. А только: или дано от рождения, или не дано. Дан талант или он не дан. Дана эта психическая сила или не дана. Есть она или ее нет. Если нет – так нечего и думать: почему ее нет да отчего ее нет. Или почему она есть. А весь мир только и занимается этими рассуждениями, суеблудием.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































