Текст книги "Прогулки с Соснорой"
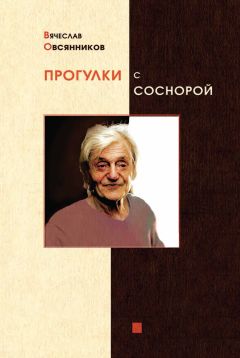
Автор книги: Вячеслав Овсянников
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Я давно заметил, что девяносто пять процентов людей тратит жизнь, время, энергию на пустое. Все думают да страдают: почему у них того нет или другого нет. Скажем, отрезали то самое, и вот он проводит всю оставшуюся жизнь в страданиях: что у всех есть, а у него нет, и что же ему теперь делать. Ну нет, так нет. Это же факт. От твоих страданий и мучительных дум он не вырастет. Живи без него, по-другому. То, что есть, тем и живи. Ну, по крайней мере, повесься, если уж считаешь, что утратил самое свое дорогое, такую драгоценность.
Психическая сила не означает наличие и физической. Маяковский был слаб физически. Да, да, я тебе говорю. Он же ничего не умел делать, даже дрова колоть. Он же актер. Вот он и разыгрывал великолепно роль гиганта. Такой образ себя он и внушил всем. Кто на самом деле сильный, тот о своей силе никогда не говорит. Блок не говорил. Вот он действительно был сильный. Выше Маяковского. Маяковский – метр восемьдесят два. Каменский – тот был могуч. Разниматель их вечных битв, этих гениев, возьмет в одну руку двоих-троих, в другую столько же и бросит в разные комнаты. У кого была психическая сила, тот жил недолго. Потребность перенапряжения, то есть – саморазрушения. Алкоголизм поэтому, наркотики, обилие женщин и прочее. Я не знаю исключений из этого правила. Байрон, скажем. Он сгорел к тридцати шести годам. Мог бы жить да жить, богач, все у него было.
Да ну. Зачем я говорю об этом. Все это ясно. Какая книга для меня самая сильная? Такой вопрос для меня вообще не может стоять. Сильное равно, у кого бы оно ни было. Бывает, и одно стихотворение неизвестного автора – сильное. Оно встает в один ряд с томами сильных книг, известных гениев. Бывает и такое. Разве можно сказать, кто сильнее – Маяковский, Хлебников, Пастернак, Цветаева. Каждый в своем совершил все самым высшим и наилучшим и наисильнейшим образом. Они равны.
Библия самая сильная книга? Я так не считаю. Во-первых, она крайне ослаблена переводом. Во-вторых, ее сила размазана по книгам, теряется. У всех произведения полны реминисценций. А как иначе. Невозможно. Все черпают из предыдущих, но больше всего – из древних, потому что там самое сильное. Этот оригинальный Маяковский: «Облако в штанах» – полно из Библии. Тютчев – цитатник Библии. И потом, это же очень разные книги. «Откровение Иоанна», скажем, резко выделяется. Она написана совсем в другое время, может, значительно раньше, может – позже. Я думаю – это палимпсест. Но зачем мне думать об этом. Эта книга, то есть Библия, уже с семидесятых годов не имеет на меня никакого влияния. Ничего там нет еврейского или религии еврейской, это все написано с греческих образцов и совершенно языческая книга.
Леонардо да Винчи, если снять с него всю его инженерию и научные интересы, ставится в один ранг с другими живописцами его эпохи. Да, эпоха Возрождения – сколько ни было живописцев, все и сильные и разные. Говорят: школа эпохи Возрождения. Какие там школы? Каждый из них сам себе и был школа. Леонардо и Боттичелли, оба ученики Вероккио, ну что между ними общего? Их формальные методы не сходятся ни по одному пункту. И так у всех из них. А в наше время совсем иная картина. Брака невозможно отличить от Пикассо. Они, видите ли, внедряли в мир кубизм. Да, классицизм ставил акцент на здоровье, психическую терапию, равновесие. Они жили долго. А вот уже у романтизма установка на саморазрушение. У древних? У них не было никаких установок. И так и так было, смотря по личности, по складу. У них – рок, хаос.
Маяковский чуть выпьет – истерики. Державин был и физически сильный. Шулер, алкоголик до тридцати шести лет. Потом бросил, когда стал жить во дворце. Думаешь, он бы туда попал, не будь жутким алкоголиком? У Екатерины же все приближенные были ужасные алкоголики, алкоголизмом и прославились – и Орлов, и Потемкин. Да ну, надоело об этом. Вот башмаки хорошие привез из Германии. Зимние, на меху. Говноступы. Теперь у меня вид настоящего пенсионера.
По дороге домой зашли в магазин, он купил эмалированный бак на 25 литров – яблоки мочить или капусту квасить. Долго разглядывал товар на прилавках. Ему понравилась синенькая тарелка для супа. Купил и ее. Идем домой, я несу бак, он – тарелку, держась за мой локоть, чтоб не упасть. Мрак, гололед, скользко, бесснежно. В темноте у него всегда голова кружится.
Дома он показал мне тоненькую книжечку, изданную в Ленинградском университете: о досократиках.
– Вот, хоть одна интересная книга раз в год попадается. Сократ – это уже после тех. Те были сильнее. А до тех тоже кто-то был. Египет был. До Египта Вавилон. До Вавилона Шумер. А до Шумера тоже кто-то был. И так далее. А чем ближе к нашему времени – все наоборот: все хитрее, но не умнее. Все тупее. У тех был ум ясный, у этих хитрый. Вот еще книга: энциклопедический словарь по герметическим наукам, спиритизму, каббале. Ох, уж мне эта каббала. Несколько глав тут интересны, – мы сидим на диване, он листает словарь и показывает. – Вот – о рыбах, зверях, насекомых, камнях, растениях. Это особенно. Потому что много подробностей. Не то что высокопарный треп твоего Плотина. Для меня было открытием, что Парацельс – еврей и алкоголик. То, что еврей – ерунда. Подумаешь. Их миллионы. А вот алкоголик – все же редкость. Гиббон, «История упадка и разрушения Римской империи». Помню, мне было очень интересно читать. Вот что действительно интересно, так это то, что кто-то одних людей сохраняет для чего-то, а других нет. Кто-то там вверху? А почему не внизу? Люди привыкли смотреть вверх, а не себе под ноги. А вверху ведь ничего нет. Там пустота, хаос. А смотрели бы побольше себе под ноги, многое могли бы увидеть и сделать кое-какие для себя выводы.
30 декабря 1998 года. Сегодня, когда мы гуляли в лесу, он заговорил о своей библиотеке:
– Библиотека мне не нужна. Обилие книг меня раздражает. Раньше ведь у меня не было столько. Стоят для интерьера. Кладбище. Читать невозможно, потому что перечитано по десять раз. Но с каждой книгой что-то связано. Например, от лихачевского издания древнерусской литературы оставил бы только первых два тома с летописями.
Бездарное время и бездарное поколение. Эти молодые люди меня раздражают, не могу даже на них смотреть. Сволочная страна. Не издают многих замечательных поэтов. Петников, Петровский, Спасский, Оцуп, Божидар. Многие ритмы в моем «Слове о полку Игореве» я использовал не из Хлебникова. Они из Петровского: «Рогнеда», скажем. Дало мне толчок – так правильнее сказать. Пишут: на двадцати страницах моей «Башни» или «Дома дней» я дал весь футуризм, и эти двадцать страниц заменяют многотомные библиотеки исследований. Что я единственный, кто освоил футуризм. Правильно. Но неправильно тут одно. Главное. Мною освоено все начало двадцатого века. Не только футуризм. И Блок, и Белый, и многое.
Я сегодня доволен собой: написал новую свою автобиографию для парижского журнала, где ни слова о моих книгах, о писательстве. Только о спорте. Как я спортом занимался. В двенадцать лет я был болен туберкулезом костей и спас меня только спорт. Плаванье и лыжи. По приказу отца. Я отца боялся. Как не бояться – такой вот громила, грудная клетка, высокий, плечи – во! глаза серо-голубые, навыкате, как у шведа, волосы курчавые, черные с проседью. Цирковой акробат – что ж ты хочешь. Спорт это призвание, как и во всем. Природные данные, чтобы все уже было устроено, предопределено. Продольные мышцы, грудная клетка и так далее. Я попал в семерку лучших по прыжкам с трамплина. Но тренер сказал: выше ты не пойдешь. Потому что у тебя нет стремления к победе, желания лидерства. И верно. В этом деле – не было. Единственный, кто меня по-настоящему понял как поэта, мои стихи – это Лиля Брик. Да, гений понимания и – гений жизни. Без второго не было бы и первого. Более жизнерадостного человека я не знал.
Нет, почему же. И в литературе еще появится гений. Это непредсказуемо. Какой-нибудь могучий парень. Появились же в спорте. Вот этот Попов – пловец. Чемпион мира. Ох, сила! Я видел его по телевизору. Тело красивое, полубог, голова совершенно круглой формы, все предназначено, рождено, призвано для плавания, для побед в воде, для подвигов. Это уже не тело, это – дух!
Крученых? Нет, не сказал бы, что понял его. Мастерство – да. Но у Крученых была своя очень жесткая линия. Он от нее не отступал. Гуро вела прозрачную линию. Но она не сумела оживить, реализовать этот метод. Да, много было замечательных небольших поэтов, у каждого свой мотивчик. А кто сейчас знает их имена? Никто. Эта страна, где всегда правила власть бездарных, бездарная власть. А бездарные ненавидят талантливых. Это закон. Вот они и уничтожали все талантливое. И продолжают уничтожать. Давно хочу написать книгу пьес. Не отдельные пьесы, а именно книгу. Прочитал я наконец Маканина. Это ужасно. Пошлость во всем. И то, как поставлены вопросы, и – какие вопросы. Это не московский быт, это – лживый быт. А настоящие бытовые книги – Николай Успенский, Мельников-Печерский, у одного – крестьянская жизнь, у другого – монастырская. Со временем такие книги приобретут цену как этнография, они делаются экзотикой. Да, Битов по сравнению с этим Маканиным выглядит гением. У него и умение построить и развить фразу, и точность слова. Я много знал жизнерадостных людей, например, артисты МХАТа. Но они были далеки от стихов, не понимали их, они были неэстетичны.
У Жана Маре была такая атлетическая фигура, могучая грудная клетка. Но спортсмена из него не получилось бы. Потому что – артист, много лишних движений.
1999 год
15 января 1999 года.
– Вот, видишь, разбираю с утра мои папки, – сказал он, показывая на заваленный бумагами стол. – Много хлама накопилось, надо разгрести. У тебя хорошая память, так я тебе скажу: правильно, без искажений у меня издано только – «Книга пустот», «Верховный час», «37» и «Летучий голландец». И это все. Остальное же так или иначе, в той или иной степени искалечено. Ты сам понимаешь, для меня нет мелочей. Каждая запятая, каждая точка имеет художественный смысл. Я довожу до идеала, на мой взгляд. Иначе ведь я не отдаю в печать. И вот: после меня мои книги останутся в искалеченном виде и так их будут читать. Конечно, это ужасно меня раздражает. Нерв мой в книгах остается, да. Но все-таки противно. Такая уж страна. Люди, занимающиеся изданием книг, негодны для этого, они занимаются не своим делом. Тупые. Положение безвыходное. Они не могут не выправлять то, что считают неправильным в литературе.
Мы оделись и пошли гулять. На улице он сказал:
– Я пишу что-то вроде статьи о неспособности советских людей к плачу, к слезам. Прививалось такое сознание, что слезы позорны, особенно для мужчины. Что надо себя всегда держать в броне. Но это же потеря чувствительности, это бесчувственность и ведет это далеко. Ведет к позволительности для себя бессердечия и жестокости. И потом – разрядка напряжения необходима организму. Почему не поплакать где-нибудь в одиночку. Тем более, когда горе. Зато потом, когда садишься писать, слезы выплаканы, ты сосредоточен и твой стиль жесткий. А заковывать себя в такую броню – это наносить себе большой вред, это большая утрата свободы. И это не сентиментальность. Это обычная чувствительность. А художник иным и быть не может. Он сверхчувствителен, у него все на нервах и из нервов. И без плача ему не обойтись. Вся мировая литература плачет и рыдает: пророки в Библии, рыцари Круглого стола у короля Артура, Роланд и Карл Великий, Ахилл над телом Патрокла, Магомет и Франциск Ассизский.
Маяковский плакал в истериках. У Пастернака повсюду слезы и рыдания. Лермонтовский Печорин плакал у трупа загнанного коня. И только советские люди не плакали. Фашисты тоже, кстати. Америка – тоже. Считается позором. Да, я тоже – никогда, даже на похоронах матери. И ни мой отец (о нем подумать такое страшно), ни моя мать. Сентиментальность – другое. Она разжижает, расслабляет стиль. Это сиропы, слюни. Сентиментализм несентиментален. Все наоборот. Это открытие чувствительности. Первый и не Стерн, а Гете – «Страдания юного Вертера». Да, можно сказать и так, как ты говоришь: открытие тонких струн. Или так скажем: размножение психики.
Журнализм? Да, это хорошая школа в смысле знания жизни. Много людей, много историй, фактов, подробностей и прочее. Но такое внешнее, эмпирическое знакомство с жизнью все-таки не то. Надо все испытать на собственной шкуре. Я писал только то, что испытал сам. Но и тут есть своя сторона: то, что слишком уж хорошо знаешь, о том писать уже и не хочется. Сколько у меня было разного голода, война, женщин – море. Разве я написал на эти темы хоть маленькую книжонку? Нет. Хочется писать, только когда есть поле для воображения. Поэтому художник сам сужает то, что испытала его шкура. Наоборот: сужает, а не расширяет. Но журналистика, конечно, оттачивает перо в боях, в критиках. Вот возьми Хемингуэя. Ведь все свои новеллы он сделал из очерков. Я читал. Очерки его – точность и жесткость, то, что и необходимо для журнального очерка. А он из них сделал новеллы, то есть размазал. Напустил то, что хочется публике: моралей, несчастий, чтобы они наслаждались переживаниями, любовью, алкоголем, политикой. Короче говоря, всем, что любит кушать публика. О романах его и говорить нечего. Лучше бы он никогда их не писал. «Праздник всегда с тобой» – прекрасная книга. И она для журнала писалась.
Да, как бы так пожить, чтобы не видеть все это вокруг. Купаясь в гранатах, как ты выражаешься, – сказал он, озирая темнеющий в сумерках лес.
На обратном пути зашли на вещевой рынок. Он ходил от прилавка к прилавку, рылся, щупал. Купил зимнюю шапку из Новосибирска: черная, длинноворсая, с огромными широкими ушами.
– Как ты уже заметил, я люблю покупать, – сказал он. – Куплю, а на следующий день горько раскаиваюсь: и на кой черт я это дерьмо купил.
Придя домой, мы еще разговаривали.
– Философии чужда какая-либо поэтика, – сказал он. – Где поэтика, там философии нет. Всю философию можно сказать одним словом. Вот у Фалеса это вода. Все этим сказано. Если обо всем космосе и мирах, то, скажем: бытие. Поэты – другое. Другой тип мышления. Я вот занимаюсь игрой звуков или развиваю цепочку образов и – как она опять сомкнется. Это общая беда, и философии тоже: когда начинают объяснять. Лейбниц – какая игра мысли! Говорят, скажем, о Заболоцком: поэт-философ. Какая чушь! Он очень талантливый поэт. А там, где у него философия, – так это дерьмо надо просто-напросто у него выбрасывать. Он тут не за свое дело взялся. Философия там, где совсем мало слов и они абсолютно точны. Вода Фалеса. Действительно, наш мир состоит на девяносто процентов из воды. А Гегель – это болтовня вокруг да около. Или у Хлебникова: «Бобэоби пелись губы… Гзи-гзи-гзэо пелась цепь». Вот на этом загадочном образе и надо было закончить. Все ясно, что – о лице. Так нет же, школьный учитель в нем посчитал необходимым дать объяснение, заключить тему, нарисовав лицо мелом на доске, а то тупицы не поймут: «Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило Лицо». Спасибо.
Каждый спортсмен вырабатывает ту манеру, которую требует его организм и свойства его тела, достоинства и недостатки, присущие только ему и негодные для другого. То, что только для него оптимально и идеально, то, благодаря чему он может добиться наивысших для себя результатов. Это я не зря тебе говорю. Так ведь и во всех искусствах.
Мастерство – это только первая необходимая ступенька, виртуозное владение техникой. Мастерство можно и выработать, приобрести, и виртуозное. Вот как у Бальмонта. Да, но у него были прорывы.
Вот Джек Лондон сколько был на Клондайке? Месяц? А материала набрал на десять томов. Так и у многих: приобретение материала мимолетно. Горький переночевал несколько раз в ночлежке, а может быть, и один раз, и написал «На дне». А Мопассан всю жизнь просидел в своем Морском министерстве, а разве написал о нем хоть строчку. Что писать о том, что осточертело и постоянно в глазах.
Я давно хотел тебя спросить, у тебя в книге есть фраза: «Купил томик Менандра». У тебя это звучит неожиданно. Изящно. Как ты это написал?
В солнечный день кажется превосходным все, что пишу. А посмотрю в пасмурный день – все это кажется дерьмом. Озарение. И выбрасываешь, жжешь. Я ведь писатель с методами, резко отличающимися от всех. Я ведь не цепляюсь за свои рукописи, за каждый написанный листок. Жгу без жалости.
Вот возьми любое стихотворение, книгу, картину, симфонию. Сколько бы ты не говорил о нем и что бы ни говорил, ты ничего к этому произведению не прибавишь и ничего от него не отнимешь. Оно – сам себе мир.
6 февраля 1999 года. Он в красной, как тюрбан, шерстяной шапке. Правая рука в перчатке.
– Болит, – объяснил он. – Капустный лист прикладывал. Помогает.
Пока я раздевался в прихожей, он еще что-то дописывал на столе.
– Месяц, как у меня что-то идет и я доволен сделанным, – сказал он. – Старое бросил. Потому что мертвое. Да, реанимировать все можно. Но все-таки мертвое лучше бросить, не возиться. Лучше подождать, когда придет новое живое. Вот я и поймал нерв в новом. Поймал нервы. В покое у меня не получается. Другим покой нужен, а мне экстремальные условия. Вот, зубы стал лечить, на Крестовский остров через день к врачу катаюсь, – так, конечно, нервы, такая встряска. Что ты спрашиваешь, что я пишу? Ты же знаешь, что я не говорю об этом, пока делаю. Дали мне Довлатовскую премию. Обещали тысячу пятьсот долларов. А дали двести. Премия! Вручили диплом: «За развитие российской литературы». Как они не понимают, что это оскорбление. Повесил в туалете на стене. Все люди ужасное говно. И в родственных отношениях еще хуже, чем с чужими. Деньги, деньги. Да, подлость. Много лет я жил, не зная людей. Потому что не смотрел на них, не обращал внимания. А как посмотрел – ну и мерзость! Подонок на подонке. И кто? Самые близкие. Пишет: «Он присутствует в русской литературе». Да только я один сейчас и присутствую, и качественно, и эмоционально.
Все остальные скурвились. А сначала присутствовало немало: и Вознесенский, и Ахмадулина, и Юнна Мориц, и Горбовский, и Бродский, и даже на Кушнера надежды были.
Говорят, протезист, который мне будет зубные протезы ставить, молодой, талантливый. Да, возможно. Если талант, то почерк ведь сразу виден, очень рано. Так что молодой ли, старый ли – нет разницы.
Письма Дельвига, да, прекрасная проза, изящная, я бы сказал – изысканная. Галушко занималась письмами Дельвига, потом бросила. Писанина – это психотерапия. Отвлечься от мира, занять себя, быть в своем внутреннем мире, тогда – подъем, интерес, увлечение, духовное и душевное равновесие, здоровье. Потому и живут долго. Особенно ученые. А в писанине и гении, и графоманы – одинаково себя этим спасают.
Он оделся потеплей, на голову надел новую новосибирскую шапку с опущенными ушами. Мороз минус 20. Пошли гулять. В лесу дорожка протоптана узенькая, вдвоем рядом не пройти, он впереди идет, я у него за спиной. Он, оборачиваясь ко мне, стал говорить о досократиках:
– Да, они точнее всех последующих. Это и Сократ понимал. Это все равно что дробить целое знание на кусочки. Вот что такое – вся последующая философия. Раздроби тебя на миллион осколков – можно будет узнать твое первоначальное тело, твое целое? Так и тут. Все разбито на миллионы вариантов. Вариации. Теория относительности Эйнштейна была уже у Анаксагора. У Эйнштейна другие заслуги: создание антигравитационного поля. Я в свое время читал журналы в спецхране и там нет-нет и мелькало кое-что рассекреченное.
Да, я один за всех работаю, за весь век, а они только и знают, что дурацкие статейки обо мне писать. Я почти всю жизнь сам о себе заботился. Умею и пищу выбрать, и тряпки, и в любой житейской мелочи я не брезгую разбираться и этим заниматься. Так что, как ты видишь, я натура совсем не поэтическая. Да, артистическая. Только это получается театр для себя. В девяносто лет ты начнешь писать мемуары, напишешь: «Мы говорили с ним исключительно о пище и тряпках».
27 февраля 1999 года. Сегодня он встретил меня хмурый, небрит, седая грива свисает на плечи.
– У Нины рак, – сказал он. – Вчера обнаружили. Это известие меня скрутило. Парадокс: женщин я терпеть не могу, а у меня их было – море. Только потребность, физиология, не в кулак же. А сделал и – под зад ногой. Но одна любовь была, да. И с Ниной разве я стал бы жить двадцать два года, если бы ничего не было. Больше я ни с кем жить не смогу.
Читаю этого Пелевина, о котором сейчас шумят. Получше Маканина – нет сравнения. Этот по крайней мере пишет профессионально. За одно это можно уважать. А старики ругают, что он плохо пишет. Вранье. Завидуют, потому что сами-то импотенты, ничего уже написать не могут. Вот дожили, теперь приходится хвалить за то, что грамотно написано. Язык у него литературный, не живой, и навряд ли он из него выберется. Но парень не без таланта. Да ну. Литература меня уже не интересует, все мне в ней ясно и все скучно. Было только одно открытие для меня в последние годы – это «Книга перемен». И все. Философия и тем паче – опротивела и на хрен ее совсем. Я читаю этого Пелевина только для того, чтобы узнать, правильно ли его ругают. Нет, неправильно. Но это ведь для меня все равно что определить сорт туалетной бумаги. Ничего другого. Зачем им язык. Им ведь нужны содержанья.
Пошли гулять. В кафе он выпил две чашки крепкого черного кофе.
– Это как водка, – сказал он. – Бьет в голову.
В лесу чудесно. День яркий, солнечный. Он, возбужденный выпитым кофе, стал громко говорить:
– Болезнями бог правит, это он против меня воюет. Да нет, не против меня, а против всего рода человеческого. Да ну, никого там нет. Хотя, как это нет. А кто же тогда все это так точно устроил? Ведь все устроено чрезвычайно точно, каждая мелочь, и срок определен, одним столько, другим столько, одним – две руки, другим – четыре лапы и хвост, как у кенгуру.
Вот чего бы я еще хотел, так это повоевать. Мог бы в артиллерии. Вспомнил бы былое. Лучше бы так умереть, чем с этими раками. Чтобы кто-то написал настоящее, живое – слишком много хотеть. Я теперь стал несдержан: руки чешутся съездить кому-нибудь в морду, хоть бы и в этом Пен-клубе.
Пушкин как человек был дерьмо. Знал, что жена – любовница царя, и за это предлагал Николаю оплачивать свои карточные долги. Вольфа свел с Софьей, женой Дельвига, сводник. И так далее. Да, такие были нравы. Лермонтов вообще всех девок ненавидел. У него был настоящий мужской характер. А Пушкин – бабник. Люди ведь так и считают писателей – ненормальными, помешанными: вместо того, чтобы жить, они сидят и пишут. Да, есть книги, полные жизни. Но это, когда писатель жил, когда у него опыт жизни, когда жизнь его постукала. Вот когда это да талант – тогда и получаются настоящие книги. Так написаны самые сильные книги в литературе. Пушкин – комнатная собачка, жизни не знал. Но в нем черная кровь шумела. А вот Державин хлебнул жизни, кем он только не был. И Лесков. И Платонов. Хлебников исходил и юг и север. Конрад – от юнги до капитана. И так далее.
Но ведь кто как пишет. То, что для других новелла, для меня – две строчки.
Для меня загадка – древние народы: ирландцы, евреи, армяне, курды, цыгане – те, кого все века преследуют. Таланты – потому и преследуют. Художественный ген в них бродит. Поют, пляшут, рисуют, пишут. А в этой стране одна шваль осталась. Там не лучше. В Европе и Америке – одни чиновники остались. Почему ты не заведешь собаку или кошку? Я бы окружил себя всевозможной живностью, но только не змеями. Бр-р-р! Я частенько оставался ночевать у художника Михнова. Он жил на улице Рубинштейна. В том же доме, выше этажом жила Ольга Берггольц. Михнов спьяну стал в окно из ружья стрелять. Разбудил Берггольц и она потом жаловалась, что ночью в доме была бандитская перестрелка и кого-то убили.
5 марта 1999 года. Пошли гулять. Опять чудесный солнечный день.
– Я готов умереть хоть завтра, – сказал он. – Шестьдесят три года. Вполне достаточно. Я хорошо пожил. Могу быть доволен. Написал много книг и на мой взгляд – сильных. Было много женщин и многие из них меня любили. Что мне еще? Да, влюбляются в энергию. Живое притягивает живое. А мертвое, вялое, бездарное, беззубое ненавидит все живое, все талантливое. Энергия пугает этих амеб, этих мертвецов. Обыватели, одним словом. Я и говорю: их раздражает все выходящее за их привычные рамки. Народ-то как раз всегда выламывался и ломал все границы. А эти чистенькие, порядочные! Народ нашел для них меткое слово: «А, порядочные!» То есть порядочная сволочь. Это весь громадный средний класс, подавляющая часть населения. А таланты, артисты всегда сходились с люмпенами, самый верх с самым низом. Вот и те и другие и выламывались из всех рамок. Эти и называли их помешанными. Что ж ты хочешь, я сам слышал и от этих профессоров, они и Гоголя называли помешанным. А ты – про Гамсуна. Да, что ни говори, а Толстой первый описал наш высший свет таким, какой он есть, без прикрас. А то эта тема была неприкосновенна. Люди одаренные всегда живут на пике напряжения, на максимуме, всегда себя сжигают, самоуничтожение, потребность постоянного риска, ходить по острию ножа, не боятся смерти и жизнь не ценят, никогда за нее не цепляются, свободны. А бездарные, мертвые, лишенные энергии цепляются за все, за каждую мелочь. Чрезмерность, максимальность – закон таланта. Дерзание. К героям героическое идет само, они его не ищут, но всегда находят.
Вот была бы остроумная книга, если бы кто написал о том, как и что друг у друга заимствовали в литературе и вообще в искусстве. Потому что все в искусстве только заимствование. Всего-то пять-шесть сюжетов в мире, так называемые бродячие. Парочка: толстый и тонкий – и в «Дон Кихоте», и в «Тиле Уленшпигеле», и полно везде. Или: плавание неизвестно зачем и куда, череда приключений, как в «Одиссее». «Сказка о золотом петушке» Пушкина – перевод с португальского. Ну и что. Неузнаваемо. Стало русской сказкой. Потому что одухотворено личностью и переварено в новом языке. Пушкин весь из подражаний. Ну и что. Главное, что все это стало его внутренним миром, преобразовано его личностью и неотделимо от его личности, его гения. Главное – талант. А вот у бездарного все подражания выпирают и сразу видны, как уши из-под шапки. Гете это хорошо понял и говорил: зачем сочинять что-то новое, ничего нового все равно сочинить невозможно. Взял сюжет Фауста, уже тысячу раз до него писанный, и стал писать по-своему, на что его таланта хватает. Так во всем. Историю Франции семнадцатого века изучают по романам Дюма. А ведь Дюма почти не читал. Скучные тома историков никто не читает. А вот Дюма читают, потому что – увлекательно и убедительно. А разве можно читать Тита Ливия? Тацита – тяжеловато. Только один Светоний. Но самый удивительный из них – Геродот. Один он и читается. Геродот дышит полной грудью.
Как ленив был Лермонтов: «Я б хотел забыться и заснуть». Прочитай статью Лорки: «Муза, лира и дуэнде». Что Гонгора – это всего лишь муза. А у Сервантеса «Дон Кихот» – весь дуэнде. Вот и Пушкин себя погубил, а мог бы стать великим поэтом. У него только одно дуэнде: «Бесы». Такое вж-ж-ж… Вьюга…
Да, когда поэты начинают читать наставления – это конец. «Не позволяй душе лениться» Заболоцкого, «Не спи, не спи, художник» Пастернака. А сам-то как художник как раз уснул. «Быть знаменитым некрасиво» и так далее. Маразм. Конечно, откуда ты мог знать Заболоцкого. Я один для тебя – весь двадцатый век. Мир погиб бы, если бы состоял из одних таких помешанных, то есть – из одних талантов. И слава богу, что это не так.
13 марта 1999 года. Сегодня на прогулке он сказал:
– Проза Аполлинера, которую ты прошлый раз принес, мне неинтересна. Ни одной инверсии. А пишут: революционер языка. Значит, такой перевод. Язык пионерских поэтов. Глад-копись. Вот так же я читал стихи Лорки – скука, пресно, вяло, и вдруг – два стиха, живые, напряженные! Что такое! Смотрю: Цветаева. Ну, понятно. Читаю сейчас статьи Лорки. Там у него много о цыганах. У меня явилась мысль, что все талантливое в Европе от цыган. Да, и от евреев. А так называемая белая раса совсем пала в моих глазах. Прагматики.
– Может быть, все талантливое от одного древнего народа? – заметил я, написав ему на бумажке.
– Безусловно, так оно и есть, – согласился он. – От Вавилона. А до Вавилона был Шумер. А до Шумера был еще какой-нибудь…ер и так далее. Мы же ничего не знаем. Да, все знания о мире – нуль. За новой теорией происхождения мира явится новейшая и так далее. Бессмысленно. Мудрые и советовали ничего не знать об этом и не думать об этом и не пытаться узнавать. Эти знания всегда призрачны, это остается тайной, не положено это знать и успокойся. Видел Татищева пять томов? Но мне русская история перестала быть интересна. Древнюю Русь, историю, живопись истории я полностью вытянул для своих «Всадников». Все. Дальше неинтересно. А что там может быть интересного? Только один кусок – Смутное время. Все, что связано с Лже-Дмитрием Первым. Доказано – это не Отрепьев. А кто? Загадка. Вот интересно было бы мне почитать историю Индии или Китая, или хоть и Японии, не такой древней страны. Но мне не встречалось ни одной стоящей книги. Из Аполлинера мне только одно интересно: попадаются ценные сведения. Например, то, что у Орфея струны на лире были из овечьих жил. Вот в этом роде. Я такие сведения, как правило, выписываю. И все. Книга мне не нужна. Из царей – только Петр, после Грозного, Петр, конечно, могучая фигура. Как человек. Незаурядный. Гениальный, в смысле что – такая энергия. Да, дуэнде, что-то вроде демона. Точнее – смерть. Вызывает смерть на бой и борется с ней. Да, и у Пушкина это: «Есть упоение в бою…» Это не у Лермонтова? Так, значит, это у Пушкина? Взял у кого-нибудь. Не от себя. У тех же испанцев. Где ему было знать упоение в бою и мрачные бездны? На дуэлях, что ли?
Вся беда в том, что эта страна неинтересна. Недекоративная страна. Русские писатели всегда были в тупике: нечего описывать. Да, Достоевский нашел декорации: когда его Раскольников спускается по лестнице и выходит на Сенную площадь. В глазах Раскольникова. Реалии эти фантастичны, эти извозчики, пьяницы и так далее. Или их разговор со Свидригайловым в трактире. И описание трактира, и обрывки разговоров. Все это фантастично, экзотично. Да, пестрый мир. Пестрота нищеты, низа. Но мне никогда такие декорации не были интересны, ни высший класс, ни низший, ни средний. А скорее, декорации относительно человека, когда он в чем-нибудь на пределе, или декорация города. На Западе жизнь городов чрезвычайно декоративна. Здесь все нивелировано, убожество, полицейщина во всем. Да, и Вагинов нашел свою декоративность. Но тогда и жизнь была декоративна, НЭП. Тогда еще не уехали из страны царские полковники.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































