Текст книги "Прогулки с Соснорой"
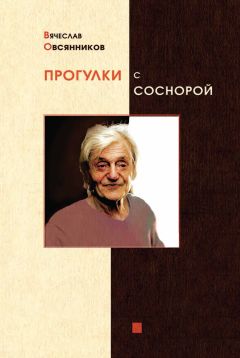
Автор книги: Вячеслав Овсянников
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Академические издания делаются для дураков. Чтоб с полными комментариями. Чтоб и они почувствовали себя умными. Ведь умными хотят быть только дураки. Вот почитают комментарии и станут умными все как один.
Я в свое время часто ходил в Филармонию. У меня абсолютный музыкальный слух. Это значит такой слух, что человек слышит точно мелодию и может точно ее воспроизвести. Но в зале я никогда не сидел, а шел в буфет и там пил вино. Буфет в Филармонии был превосходный. А кто ходит в Филармонию, сидит в зале и наслаждается музыкой? Те, у кого нет слуха и им все равно что слушать. То есть глухие, те, что ничего не слышат. Так и во всем.
19 марта 1999 года. Сегодня мне открыла Нина. Он стучал на машинке.
– Можешь забрать своего Аполлинера, – сказал он. – Принцип новеллы там от Эдгара По. Только в конце книги интересно, там, где о поэтах: о Нервале, о Бальмонте. Я, например, не знал, что Нерваль повесился на шнурке от кальсон. Нерваль был наркоман. Вот я Мериме теперь просматриваю. У него много о цыганах. Стал думать о цыганах, и они теперь везде мне попадаются. Две статьи в газетах, по телевизору. Притягивается ко мне, к моему интересу. На ловца и зверь бежит. Я сам ничего не ищу специально. Вот пишут: он всю жизнь провел в поисках того-то и того-то, творческие поиски и тому подобную чепуху. Говорю тебе: само идет, когда сильно талантливый человек на что-то нацелен. Мериме дал принцип новеллы. От него весь девятнадцатый век и дальше. У него элементы искусства двадцатого века. Эти его отступления, никак не связанные с сюжетом, туда-сюда, но, оказывается, связанные, и все при этом кратко и четко. Все от него. А от кого еще? Больше никого и не было в Европе, от кого можно было бы брать, то есть сильного. Пушкин начал «Дубровским», этим лжеразбойником под Вальтера Скотта. Лживая установка влечет и лживый язык, и лживый стиль. А когда он повернулся к Мериме, то написал «Пиковую даму», единственная его настоящая, сильная вещь в прозе. Лермонтов от Мериме – «Герой нашего времени». Все: и принцип новеллы, и стиль, и люди. Только на другом языке, другая страна, и злая ирония Лермонтова, и герой. И Толстой от Мериме. Только Гоголь от другого. Да, много от Гофмана. Все книги пишутся от книг. Это само собой разумеется. Гофман от братьев Гримм. Братья Гримм – немецкие сказки и легенды. И так далее.
Перевод Гаршина «Коломбо»? Я не знал. У меня перевод Деборы Лившиц. Вот и сравни. А лучше займись-ка такой темой: напиши книгу о книгах. О русских. Хотя бы и сравнение разных переводов или историю написания книг. Ты усидчивый, у тебя получится. О себе у тебя пока плохо получается. Иногда надо отвлечься от себя и писать о постороннем. Психотерапия. От себя устаешь. Я, например, поэтому и взялся за исторические повести. И «Николая» писал, тоненькая книжечка, а горы книг переворотил, в архивах рылся. А то все люди думают, что они неповторимы. Ох, еще как повторимы! Людей всего-то несколько типов. Отклонения, вариации – пустяк. Ходят, штамповка, все как один, ты приглядись. И моего типа людей великое множество, то есть таких же рискующих, это же самоуничтожение, во всех областях, и спортсмены, и академики. Колмогоров, например, с которым я дружил. А Кулаков вообще мой двойник. Во всем схожи: нервы, психика. Только у Кулакова характер паскудный.
Видишь ли, это своего рода сублимация. Надо как-то изжить. Например, чтобы избавиться от любви к женщине, надо изжить ее в других женщинах, на нее похожих, одну за другой меняя, пока не изживешь. Завести кошку, похожую на эту женщину по психике. Очень помогает. Так и изжить не отпускающую тебя книгу или писателя. Например, я не мог избавиться от стихотворения Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть может». Вот, и слова простейшие, и форма высказывания, и ничего в них, пустое и обыкновенное, казалось бы, а в этом есть то самое дуэнде. У Лермонтова об этом: «Есть речи – значенье темно иль ничтожно…» И вот, когда я написал на это стихотворение Пушкина свое стихотворение, со своей судьбой, я его изжил и от него навсегда избавился. Оно стало для меня ничто. Читал ты статью Пикача обо мне? Так вот: там сравнивается мое стихотворение на это пушкинское и Бродского. У Бродского всего лишь хохма, а у меня изживание чужого нерва. То же, когда я написал по Уайльду свою «Балладу Редингской тюрьмы». Это, конечно, не перевод, а тоже – изживание. Нерв тот же, что и у Уайльда, только уже в современном, со своими отступлениями, своим языком, своей судьбой. Не сильнее, конечно, но и не слабее. Получилось свое, переводчик считал, что у меня сильнее, чем у Уайльда, и перевел меня обратно на английский. Анекдот.
Да, переводы. Сравни Горнфельда и Любимова. Этот Любимов испортил нам всю французскую литературу. Безграмотность языка. Одни эти «был» и «были» чего стоят. И у Пастернака в «Докторе Живаго». Убрать эти «был» – останется половина книги и будет сильно и жестко. Да, Гоголь был умен, всегда ставил Пушкина впереди себя, то есть – выше.
На улице сыро, промозгло. Он продолжил разговор:
– Психика однообразна, два-три типа, остальное – вариации. Так и книги. По сути дела, одно и то же, повторы из книги в книгу. Все друг с друга списывают. Но гениальная интуиция открывает свое. Я сделал много открытий в своих книгах. Всегда случайно, по ходу дела. Например, у женщин – война сперм.
Я всегда читал книги по разным областям знаний, медицина, физика, астрономия, математика и так далее. Там куда больше интересного, чем в художественной литературе. Вся художественная литература как бы один бесконечный палимпсест. Он, бог, стирает на пергаменте один текст и пишет новый, потом этот стирает и пишет следующий, и так бесконечно. И моя «Баллада Редингской тюрьмы» не что иное, как палимпсест. Взят нерв из старого образца и создано современное произведение.
То есть повторы и повторы. Просто-напросто у людей одаренных, тем более гениальных, свой излом психики, что и делает их писание оригинальным и окрашивает этой оригинальностью все, что бы они ни делали. В этом и весь смысл. Все повторяется с древности, с глубин веков, черт знает с каких начал. Были могучие гении, нам неизвестные, ничего от них до нас не дошло, слишком большое расстояние отделяет, а дальше все слабее и слабее, потому что те были первые или первее, а мы повторяем их, кто как, по мере своих сил, со своими вариациями, а иногда, может быть, совпадает жест в жест. Как актеры. Я тут недавно посмотрел фильм «Зорро», старый, голивудский, с гениальным актером в главной роли. Какие там у него поединки! Рапира летает, неуловимые движения, виртуознейший, интуитивный клинок! А испанский повтор этого фильма куда слабее, и актер в подметки тому не годится, небо и земля.
Дойдя до конца улицы, которую пересекает шоссе, а за шоссе лес, мы спустились в подвальчик на углу. Выпили кофе. Он выпил две чашки. Потом гуляли в лесу. Он продолжал говорить:
– Что нужно людям? Кино. Что делает кино кином? Новая морда. Появится новая морда на экране, например Жан Маре, и всех охватывает психоз – новая эпоха кинематографа. Новое лицо. Я имею в виду: психическое лицо, а не физическое. То есть новый гений. Ведь кино живет только зримостью, то есть лицом актера. Чаплин вообще вне всех измерений. Чаплин – божественное падение на землю. Так вот, я к тому, что у Пушкина в этом смысле лица нет. Лица он миру не дал. Поэтому на Западе его никто и не видит. Не дал ни лица, ни героя. У него и физическое лицо невзрачное. Пушкин гениален тем, что создал язык. Грубый, неуклюжий русский язык, который был до него, он превратил в красивую салонную болтовню. Сделал его гибким, приятным, музыкальным, почти итальянского звучания. И этот-то язык и стал национальным. Это людям, народу. Но художникам это совсем не нужно, это слишком узко, что делать художнику с этим сахарным языком. Абсурд. Мне это сразу было не нужно. Да что. Лермонтов, его верный подражатель вначале, к двадцати шести годам тоже уже понял, что такой язык ему не годится. Конечно, до Пушкина всем далеко, и мне тоже. Пушкин – солнце, но одно только солнце осточертеет, нужна и гроза, и дождь, и снег. Пушкин – идеальный гений, самая чистая поэзия и самый чистый поэт. Но лица он не дал. Маяковский дал, его даже на монетах чеканили. Уитмен, Бодлер дали. И Рембо – более резкий пример. Уже одна его жизненная биография – новое лицо. Начать в пятнадцать лет так гениально, а в девятнадцать кончить. Этот мальчишка. Отправиться в Африку купцом зарабатывать миллион, вернуться и потерять ноги. И Лермонтов дал лицо. Он повлиял на многих западных писателей. Бродский не дал. И биографии у него нет. Да, у Гоголя тоже нет. Но у Гоголя биография в его книгах. Один «Тарас Бульба» чего стоит. Только первый имеет значение. Первооткрыватель новой психики, нового психического лица. Потом идут легионы подражателей.
Что знания. Все знания уже есть, не только в человеке, вот и в дереве. Причем в дереве знания о мире чище, точные, ничего ненужного, а у человека сколько лишнего, болтовни, что только путает, сбивает, уводит. Что ты привязался к этому мозгу. Мозг, мозг, вот невидаль. Ни на что я не был нацелен. Ну, разве что на напряжение. Просто приходила потребность в следующей, в новой книге.
Вот что меня удивляет: и Битов, и Вознесенский, как они могут продолжать жить, когда они уже давно умерли как художники. Ходячие мертвецы. Это как-то несолидно. Они превратились в каких-то массовиков-затейников, в клоунов. Все обыкновенные люди, без таланта – понятно. Они не живут, а выживают. Живут, чтобы выживать. Но такие сильные таланты, с призванием – дело другое. Эти живут в напряжении таланта, за рамки, не на выживание, а на сжигание, на самоуничтожение, на скорейшую гибель. Я с большой радостью наблюдал, как Битов идет к скорой гибели, то есть по правильному пути. И вдруг – они исправляются и живут тихо и мирно, то есть делаются трупами и пишут одну книгу мертвее другой.
Неужели они это не видят? Значит, слабые оказались, бог дал им только на столько. Но все-таки, имея такое славное прошлое, продолжать жизнь на виду у всех – нехорошо, скажем мягко. Хотя бы уйди в тень, исчезни, чтобы тебя перестали замечать. Я говорю о людях такого типа психики.
Война однообразна. О ней нечего писать. Ксенофонт первый написал военный роман, и описал все подробно, полно и точно. С него все и списывают. Ремарк – мило, с попойками, с хохмой. Думаю, Ксенофонта он и не читал. Экзюпери – воздух, лирическое напряжение.
У гениального актера все движения, как бритва.
Прозу Шиллера у нас не издавали. А там у него чистая мистика, видения. У Гонкуров в дневниках, особенно итальянских, тоже. У Гофмана – игровая мистика. У греков в драмах, у византийцев. Библия – книга чисто художественная. Пророки повторяют друг друга слово в слово, те же стоны, те же кары, гнев, проклятия, обличения. Все пророки одинаковы. И все это у них, пророков, эти проклятия и плачи, всерьез, не оживляется ни искрой юмора. На что ум нацелен, те мысли и будут говориться, и в той же форме, в какой и до тебя говорили, и после тебя будут говорить.
Гениальность Бодлера в том, что он перевел Эдгара По. А что его сонеты, таких у всех полно, подумаешь. У французов культура слова, древняя. Сколько известных в мире русских писателей? Какой-нибудь десяток. А у французов – тысяча.
Гофман такую кучу книг написал за десять лет. Это его туберкулез жег и гнал.
Духовная философия – несопоставимые слова.
31 марта 1999 года.
– Вот, все утро работал за машинкой, – сказал он мне, встав из-за стола. – Да, доволен. Сам не ожидал. Не мог очухаться после ночи, душно, спал плохо. Отпился чаем, и вот пошло. Как говорится в Библии: «Работай и днем, и вечером, не переставая, ибо ты не знаешь, когда получится твоя работа». Вся европейская литература из Библии. От нее все. Бесконечные переработки, только хуже, чем оригинал. Единственное, может быть, у Данте получилось, но очень уж мрачно. Собираюсь лететь в Югославию, хочу помочь сербам. Не воевать, конечно, но имя мое звучит в мире. Именем своим помогу. Воевать мне – мечтать нечего. Хоть посмотреть, как другие воюют. Это как старый импотент в щелочку подглядывает: как другие е…
Пошли в лес. Там еще снег лежит; ручей разлился, желто-бурый поток мчится среди белеющих по берегам берез. Он стал говорить о немцах:
– Неартистический народ, нет грации. Вот итальянцы, испанцы – артистичны. Арабы, цыгане, индусы. Вообще южные народы. Да, грация тела. Да, есть артистичные книги. Вот и напиши. В русской литературе очень мало. Гоголь, Лермонтов, несколько коротких рассказов Лескова. Вот и все. У Гаршина другое, у него, да, изящная словесность, язык изящен, но очень испорчен толстовскими идеями, этим артистизм и загублен. В советской литературе только Хармс. Да, и Ваги-нов. Только эти двое. Кто еще? Олеша? Это, знаешь, для детей. «Он поет по утрам в клозете». Артистично, для советской литературы с ее мрачным, неуклюжим языком и темами, на этом фоне. Вагинов-то артистичен, но звонкости нет, читать его долго – начинаешь вязнуть в этих подробностях, мелочах, в этих Плюшкиных. Лучше уж гоголевского Плюшкина почитать. Это содержание, а не концентрат.
Мериме я прочитал, что покороче. Да, влияние этого модерниста далеко заходит, и в двадцатом веке. Даже у Хемингуэя в «Фиесте». Вся европейская и американская литература из французской. С влияниями сложно. Без влияний ничего и быть не может, нужен толчок, чтобы самому раскрыться, свое раскрыть. Пушкин в прозе буквоед. Строго следовал Вальтеру Скотту и Карамзину в «Капитанской дочке». Пишут: «Карамзин очистил русский язык». Ничего он не очистил, а унизил и ослабил, засахарил. Его «История государства Российского» – это как ямщик рассуждал о князьях: все они хорошие и все у них правильно. По-настоящему от Мериме Лермонтов – ну и что. Другой язык, материал, настоящая, чистая, живая русская книга. Вот у Гоголя от Мериме ничего. Да, у него много от Гофмана. Гоголь открыл у него тип фантазии, открыл для себя, как свое. А стиль совсем другой, в стилях они – антиподы. Всем нужен толчок извне. У других ищут подтверждение своего и чтобы самоутвердиться. Каждый большой художник захватывает и поглощает много других «я». Это большая психика. Можно потом и проанализировать: что от кого. Но зачем, если написана настоящая живая книга. Ведь все переварено в себе, в своей психике, в своем.
Да, вначале много мечутся, пока не выйдут к своему. Один только Гоголь, как написал первое слово, решительно и твердо, со всей жесткостью, так сразу и открыл свой мир, и так и шел до конца. И это в двадцать один год. Пока не исчерпал свое. А потом не знал, что с собой делать. Повторение своего, своих же методов и принципов для таких невозможно. Только новое и новое, только перешагивание через себя, через свое уже открытое к новому открытию, только вперед. Когда это кончается, исчерпывается и ничего уже, кроме самоповторений, то такие уничтожают и свои книги, и себя. Казалось бы, видишь, что кончено, повторяется, так и не пиши, не рисуй. Просто живи. Но нет, просто жить они уже не могут, потому что вся их жизнь в этом: в писательстве или рисовании. Они ведь очень остро все видят, восприятие с возрастом притупляется и новые открытия уже трудны или невозможны. Они это вовремя у себя замечают. Тогда конец. Духовный для них означает – и физический. Тупик. Безысходность. Такая психика.
Люди их не понимают. У людей психика другая. Между такими и людьми – пропасть. Понимают только такие же. И дальше: они понимают, что они абсолютные одиночки. Никто их не понимает, полная изоляция, только сам себя и прежде всего – в самом процессе работы. Кто же кроме тебя самого поймет, что и как делается. Рембрандт от известности и богатства ушел в полную изоляцию, одиночество и нищету и открыл тогда для себя новое в живописи. Кончил тем, что стал рисовать свои старые башмаки. Роскошнейшие краски. Достойный итог. Потом Ван Гог повторил этот путь: тоже нарисовал свои башмаки. Матисс – кристальнейшей чистоты художник. Вот кто до конца открывал что-нибудь новое, какие-то хотя бы вариации. Прошел этот путь до самого конца. Дряхлый, уже к пальцам привязывал кисточки и ножницы: вырезал из цветной бумаги. Тоже – открытие. До него не было. Да, в цвете это чистейший художник, самый чистый в мире.
Гоголь открыл Гофмана, а от Пушкина у него ничего, ни строчки. А у Пушкина к нему были только шуточки. Хороши шуточки. А получился хороший ему пинок. Потому что Гоголя перевели и читают во всем мире, а Пушкин там никому на хрен не нужен. Да, и у Эдгара По тот же тип фантазии, и по стилю есть параллели. Гоголь по стилю, по поэтике прямо от Державина. Проза Пушкина от Батюшкова по стилю, только у Батюшкова сильнее. У Пушкина же гармонии, он гармонист и гуманист. У Гоголя ничего этого нет, у него сознание разорванное, какие уж гармонии, и доброго у него тоже что-то не видится. Да и всю жизнь обходился без бабы. Так никто у него ни одной бабы и не нашел. Мальчики тоже исключаются.
Мериме, может быть, от каких-то итальянских рассказов, но не от Боккаччо. Скорее уж от Боккаччо у Гоголя есть: эти его купающиеся девушки. Все в литературе пронизано влияниями. Это нормально. Но не копирование. Если бы, скажем, сын стал копировать отца во всех его движениях. Это был бы ужас. Отец бы такого сына убил или прогнал бы от себя к чертовой матери. Вот о таких и писал Платон: чтобы изгнать из государства. Видно, они его допекли, ему от них уже во как было! Боттичелли устраивал костры из своих картин.
Да, вот впервые читаю этого Генриха Шефа. Еще один гений. Оставил два шкафа, набитых папками с рукописями. Читать неинтересно. Реалист, моралист. Интересно только филологически: как он крутит вокруг себя эти громадные фразы. Я знал всех так называемых «гениев», а об этом что-то не слышал. Да и не все называли себя гениями: Ефимов, Марамзин себя таковыми не считали.
Пушкин открыл Тютчева, напечатал у себя в журнале его двадцать стихотворений. Тютчев – подражатель Пушкина. Очень сильный талант, поэтому и сумел выкарабкаться из-под Пушкина хотя бы пятью стихотворениями. Эти стихотворения Пушкин не смог бы написать. Так же и Фет.
Этого Генриха Шефа мне назвал Битов; при его, Битова, любви к мертвечине и всякой вторичности сразу было ясно. Вот и Заболоцкий – сильный талант, кто спорит, но очень вторичен.
15 апреля 1999 года. Встретил меня наголо остриженный. На столе раскрытый дневник.
– Прочитай отсюда досюда, – показал пальцем.
Я прочитал: «Каждый пишет не про себя, а себя, поэтому в писанине видно: кто герой, а кто гнида».
Взяв с собой бутерброды и бутылку апельсинового сока, пошли гулять. То дождь, то солнце. В лесу грязь, клочки снега.
– Сербию бомбят, – сказал он. – Нашей стране тоже конец. Вот ты говоришь: древний мир у Геродота многообразен. Ерунда. Это Геродот так увидел и так видел, это мир самого Геродота, это он многообразен.
У Горбовского парадоксальное сочетание поведенческого дебилизма и большого таланта. Это меня всегда удивляло.
Есть русский язык и есть советский. На таком примитивном языке можно написать только однодневки, злободневное. Да, это точное попадание в то, что сейчас назрело, в современное. Но проходит год, два и такая литература тускнеет, теряет свой блеск, то, что казалось свежим виноградом, теперь – хлам. Такой язык – энергетика, а не конденсат. Писатели, стремящиеся к конденсату, изначально пишут на русском языке. Вознесенский – половина на половину. Ахмадулина, Морриц. В прозе – ранний Битов, Рид Грачев. Сейчас Битов пишет – и языком-то не назовешь, какой-то московский сленг.
У Горбовского ни культуры, ни знаний. Он и школу-то, наверное, класса два кончил, ничего почти не читал, его любимый поэт – Вера Инбер, а – талант большой. Этакий стихийный талант. А Кушнер и культурен, и образование, и обходителен, а таланта – синичка накапала.
История превращается в басни. Вот пишут: Роланд вышел на битву один против ста тысяч сарацин. Найдет на меня настроение, я тебе начну сочинять про историю. Чтобы развлечься. Заполнить болтовней эти наши прогулки в лесу. Ты эту болтовню запишешь и издашь. Пройдут годы и про эти мои исторические импровизации будут говорить, что, должно быть, так все и было, ведь это говорил человек, знающий толк в истории, великий писатель. Прозу Беккета можешь забрать. Все это мной давным-давно пройдено. Каждый ест то, чего организм требует. Я читал летописи с четырнадцати лет. Советские книги – не мог. Вот что, достань мне книгу, не помню название, о футуризме, там много картинок, оформление их книг, Малевич, Гончарова, Розанова. Да, Горбовский – этакий проклятый поэт, злой. Его еще вспомнят.
29 апреля 1999 года. Поздравил его с днем рождения. Он невесело усмехнулся:
– С чем поздравлять. С каждым днем все ближе туда. Машинка моя починена. Тридцать лет мне служит.
Пошли гулять. Холодно, ветер.
– Я сейчас пытаюсь писать рассказы, этакую легкомысленную беллетристику, – сказал он. – То самое, что я с тобой говорю на прогулках. С тобой я репетирую свое. Но ничего у меня не выходит. Нет такого дара. В устном исполнении – мимика, интонация. А на письме все пропадает. Такого рода литература у меня никогда не получалась, сколько ни пробовал.
Опять спустились в подвальчик выпить чаю. Но чая нет. А кофе? Только растворимый? Он долго рассматривал пакетики на витрине, выбирал. Наконец, заказал чашку кофе и соленый арахис. Сели за столик. Я спросил у него, написав на бумажке: разве в его прозе устная интонация утрачена?
– Нет, почему же, – ответил он. – В написанных уже рассказах устная интонация у меня не пропадает. Наоборот: она точно схвачена и письменно обработана, доведена до особенной живости. Да, рассказы, бывает, на несколько фраз, бывает – одна фраза. Ты правильно назвал: эта проза уникальна. И подражать ей невозможно. Обречено на провал. Это только мое, мной найденное. А если ты хочешь живое, будь добр, найди свое. И все книги у меня разные. У меня всегда так было: мгновенно улавливал нерв, и уже на этот нерв все накручивалось.
Лимонов, Довлатов – все их поколение подонческое. Они и сами это не скрывали. Первая книга Лимонова симпатичная. «Я, Эдичка». Его свежее восприятие Америки, нового для него мира, и откровенное подончество и ребячество одновременно. У Довлатова тоже только одна книга: «Соло на ундервуде». Эти его ленинградские анекдоты. Для них предостаточно по одной книге. И потом, у Довлатова артистичность: и так, и так. Все остальные его книги – сплошь пошлость. У Лимонова эта его последняя книга – детектив, пошлейший, хуже Марининой. У той хоть есть цветистые детали и признания: вот – советская старуха, дура, слюни.
На Западе есть сильная детективная литература. С десяток писателей, у каждого хотя бы по одной сильной книге. Этот, у кого «Если бы смерть спала». Детали, хорошо, картинно. У него перо, он писатель. Или когда пишет сумасшедший: видно, на чем у него психоз. Когда я его читал, меня, знаешь, сильно потряхивало. Это как у Достоевского. У того тоже – психозы. Никакой другой литературы, кроме детективной, на Западе сейчас и нет. Других тем нет. Потому что насилие, убийство, бандитизм сверху донизу – их главная действительность. О чем же им еще писать. Пишут, что жизненно. Поэтому и фильмы такие. А в русской литературе хорошего детектива и не может быть. Потому что тут нет закона. Это страна вечного беззакония. Для создания детектива нужен прочный закон, чтобы ухищряться его обходить, чтобы было много ходов. А при тотальном беззаконии – какие ходы.
Плохо, что у тебя нет биографии. Необязательно описывать ее, но ее наличие строило бы прозу внутренне. У Гоголя не было биографии? Нет, я так не считаю. У Гоголя резко обозначенная и законченная внутренняя биография. Его комплексы: считал себя ниже всех в жизни, так вот в книгах он будет герой. Отсутствие, боязнь баб. Выставлял себя не тем, кем был на самом деле. Всегда скрыт, замкнут. Людей боялся, робок в обществе. И какой конец: врачи замучили насмерть. Как же нет биографии. У Лермонтова – полная противоположность, очень яркая внешняя биография. Никаких комплексов, богач, свободен, бесстрашен, баб полно, с шестнадцати лет, дуэли и так далее. Или вот Наполеон. Когда человек с низов пробивается наверх – уже биография. Он первый и единственный снизу поднялся на самый верх. Вот это и не могли ему простить. Гений войны. Они уже устали, его маршалы, и Ней, и Мюрат. Им уже по пятьдесят было, они всего лишь люди, а у него призвание. К войне. А любое призвание божественно. Он и на своем острове от бездействия сдох. Никто его не травил. Когда в голове так крутится и вдруг остановить – разорвет. Давно мне хотелось написать о Наполеоне, да, видно, не удастся уже.
За зиму я написал такого же объема том, как сожженный. Мечтаю поработать на Мшинской летом. Там, наверху, на своей мансарде я буду один весь день. Что-то брезжит в этой рукописи, но главного нерва пока нет. Надеюсь, появится в процессе обработки.
Погуляв в лесу около часа, вернулись домой. Он жаловался на усталость. Дома с ним случился сердечный приступ. Лег на кровать. Выпил корвалола, который я подал ему в чайной ложке.
– Ничего, отпустило, – сказал он. – Вот палиндром: тридцать шесть и шестьдесят три. Родился в тридцать шестом, сегодня мне шестьдесят три. Вот он и ударил. Великие люди, как правило: год рождения – девятка, а смерть – десятка. У Пушкина, например: 1799 и 1837. Нули – самое ужасное. Что такое нуль? Самая вымороченная цифра. Один нуль, миллион нулей. Какая разница. Вот что я терпеть не могу – нули. Я сильно сдал за последний год. Один останусь – верный конец. Некому лекарство дать, вызвать скорую помощь.
18 мая 1999 года. Он сидит за машинкой, работает.
– Внутри все болит, почки воспалились, – сказал он. – Но это не мешает мне писать свою книгу злобы. Называется «Кодекс: безнадежность». Вот уже сколько набралось, и тут, и тут, и там! – показал на кипы листов у него на столе. – Опять листов семьсот, как и в той, что сжег. Но сожженная перешла в эту. Книга, собственно, готова. Теперь обрабатываю. А возиться с этим лень. Работается еле-еле.
Ты говорил, что появилась книга «Поэзия русского футуризма». Футуризм – это эстетика двадцатого века. Все настоящее в искусстве двадцатого века развилось из русского футуризма. На Западе это развитие было правильное. Ташизм, дадаизм и так далее. Много других явлений рядом. В России – обериуты и ряд прозаиков. Потом коммунизм всех сломал. И вся литература откатилась на триста лет назад. Как теперь пишут, даже и говорить нельзя. Надо молчать. Я молчу. Самый маленький из футуристов неизмеримо выше любого из этих прославленных: Гумилева или Ходасевича. Это же для детей. Возьми Бабеля – тот же футурист. Сильно, ярко написано. Правда, я Бабеля не люблю, но это ничего не значит. Не люблю, потому что повтор Мопассана и 0’Генри. Хорошо прочитать первый раз. А повторение, знаешь, не звучит. Переклад на русский язык. Но ярко, сильно, талантливо.
Впрочем, первый футурист – Андрей Белый. Все они из него, и без него бы их никого и не было. Вот у кого каждая строчка сильна, горит. Да, это было только одно поколение. А в девятнадцатом веке – один Пушкин. Кто же Пушкин, ведь его стиль совершенно футуристический. Чистейший футурист. Ведь главная установка русского футуризма: самовитое слово, то есть слово, лишенное эмоций. То есть одна техника. А это значит потеря всех нюансов. Без эмоций нет и нюансов. У Пушкина разве что десять стихотворений наберется нюансированных. Я не терплю ни ту ни другую крайность. На одной только технике – читать нельзя. Одни только эмоции – ужас. В живописи дело другое. Тут мне понятно. Кубизм это реакция на сверхэмоциональность импрессионизма и постимпрессионизма. Надоел этот сахар, эти потоки патоки. Вот и стали писать сухую геометрию, кубы. В литературе это тупик. Вот такой был Крученых. А Маяковский, дореволюционный, наоборот: весь кипенье, эмоции. За это-то Крученых его и терпеть не мог. Да, при переводе не уловить, в чем нерв того поэта, в чем же его смак. Потому что не уловить нюансов языка и смысла. У поляков были крупные поэты в этом веке: Галчинский, Карпович.
На прогулке он говорил о войне в Югославии:
– Мне это интересно. Чем кончится. Тут Америка показала себя полностью: развязать войну не из-за чего. Да, мы воевали против немцев: закидали телами. И в этой стране всегда так, все войны. Да. Нужно потихоньку заниматься цифрами истории. Почему и ненавидят все они Наполеона, что он один побеждал стратегией, а не телами. Талантом. Русская революция – справедливое возмездие, все правильно было, века унижений, чего же они еще ждали. Да, тяжелая страна. Подумать только – устать от трех часов ходьбы, а когда-то бегал десять километров за полчаса.
Игорь Северянин единственный из поэтов дал картину того времени в стихах. Много подробностей и примет того времени и ритмов той жизни. Да, мещанство, рестораны. Но такова была и жизнь мещанская. Это Северянину было близко. Теперь эта его картина приобретает этнографическую ценность. Неизвестно, какой на него еще будет глаз в дальнейшем. Все меняется, приобретает патину времени. А у великих Маяковского, Хлебникова как раз очень мало примет времени, у них все мировое.
У Петровского есть проза: «Слово о полку Туруханском». Как у Бабеля «Конармия». Не слабее-то, не слабее. Но слишком все сделано. Не живое. А вот у Бабеля живое.
Подлинники умирают, а мистификации остаются. «Фауст» Гете, «Гамлет» Шекспира. Это значит, темы не важны.
Не то слово. Не ненавижу. Ненависть обременительна. А правильно сказать – отчаянье.
В лесу нас застала гроза. Вымокли. Дома он показал мне свою старую семейную фотографию. «Мой клан», – сказал. Дед с усами, бабушка, мать, отец, высокий, сильный, красавец.
2 июня 1999 года. Он один в квартире. Зазвенел телефон. Из журнала «Звезда»: что ему необходимо быть 4 июня в 11.00 в Таврическом дворце на Всемирном конгрессе писателей в честь двухсотлетия Пушкина. Выслушав, я записал ему это на бумаге. Он взял у меня трубку, стал объяснять:
– Я не могу, я давно никуда не выезжаю и нигде не выступаю, я глухой, где Таврический дворец, не знаю, добраться один не сумею, после каждого выступления я болею, три дня лежу не вставая.
Передал мне трубку. Я выслушал, что говорили в ответ из редакции журнала, опять написал ему на листе бумаги: «Говорят, что надо быть обязательно»! Наконец, договорились, что за ним пришлют машину.
– Ты можешь сварить суп? – спросил он. – Десять дней не ел горячее, питаюсь всухомятку, бутербродами. Даже разогреть себе сам не могу. Психоз. Вот видишь: ты свидетель моего величия. Да, велик. Прочитал тут книжку об ацтеках. Могучая цивилизация, больше европейской, три тысячи лет до Вавилона. Научные знания больше нынешних. Дошли только две книги. А была ведь громадная, великая литература, и где это все? Смыто. Что осталось от Сафо, Алкея? Строчки. От греческой живописи, музыки? Ничего.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































