Текст книги "Прогулки с Соснорой"
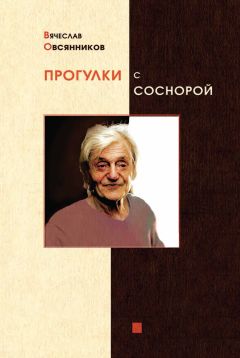
Автор книги: Вячеслав Овсянников
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Все-таки я не понимаю, как это получилось с Пастернаком. Необъяснимо. То, что он сломался: духовно, психически. «Сестра моя – жизнь» – лучшая в мире книга стихов. Откуда-то на него свалилась эта мистическая напряженность, музыкальность. Единственная книга стихов такого ранга за всю историю России. До этого у него так себе, мелькало несколько стишков. Подумаешь: «Поверх барьеров», «Близнец в тучах». У Асеева сильнее было, железный стих. А Пастернак: поехал на Урал, там свободно вздохнул и открылся. Гений! Привез в Москву, показал. Маяковский сразу понял и восхитился. Пропагандировал везде. А он поэт противоположного типа. А после «Сестра моя – жизнь» – откат. «Лейтенант Шмидт» – это уже мертвая конструкция. А дальше и совсем падение. То, что стал писать Пастернак, пишут тысячи. Да, конечно, не с ним одним это произошло. Но он гений, а они – нет. Наступило время полного сжатия, и они стали стих облегчать и облегчать, и облегчать. Но многие ведь не сломались. Хармс, к примеру. Он, может быть, и хотел по-другому, да не смог. Перешел на детские стихи, но и там остался тем же Хармсом, с той же его хренотой, ничуть не слабее. Увидели, что – не изменился, продолжает свое лупить, вот и прикончили. Кирсанов разве сломался? Нет. До конца тот же, прекрасные стихи. Но Кирсанов не гений. А тот ведь – гений! В чем дело?
Я думаю, что такой уж он, Пастернак, значит, от рождения. Легок на компромисс с собой. Но ведь никто из гениев никогда не шел на компромисс с собой! Такого не было в истории искусства! Это единственный случай! Платонов разве шел на компромисс с собой? Нет. До конца был какой есть. Его и не печатали, так, изредка, в журналах. А книг его не издавали. Одну только: «Военные рассказы». Но и там его сильный платоновский стиль, да еще гоголевский героизм, тарасобульбовский. Внешние причины, тяжелые условия жизни – ерунда.
Разве Вийона сломили тюрьмы и виселицы? Он и в тюрьме писал точно так же сильно, в своем духе. И его «Большое завещание» и его «Малое завещание» отделаны точно так же филигранно, как и все, что он писал.
Алкей – у него какие условия жизни? Нищий офицер. Кормился мечом. Устроил революцию на Лесбосе. Умер от ран.
А Цветаева! Она была поставлена в тысячекратно более тяжелые условия, чем Пастернак. Двое детей, вечная стирка. Не только не сломалась, а наоборот: тут-то она и взвилась!
Маяковский сломался? Ничего подобного. У Маяковского был свой точный путь. То, к чему он вышел, – закономерно. Лубки. Литература факта. То, что у Родченко. Потом – и фельетоны в стихах. Тот же полноценный стих, только голый. И для спичечных коробков он писал стихи. Почему нет. Что за чистоплюйство. И я стал бы писать для спичечных коробков, если бы этого не было уже у Маяковского. А так – путь закрыт. Все это открытия Маяковского, новые формы стиха. Это еще оценят в свое время. Пока не понимают. Советские поэты тоже потом стали писать стихотворные фельетоны. Вот и Евтушенко старался. Но какие это фельетоны! Рядом с могучим Эверестом какая-то пыль. Маяковский ведь открыл новую форму искусства для всего мира: рекламу. Это он первый. Конечно, после его ранних библейских поэм все это выглядит ужасно. Но ужасно это для слюней. Для меня это ужасно не выглядит, а как раз вполне нормально. А его «Во весь голос» – гениальная поэма. Знаешь, есть стиль оратора и есть стиль синицы. Это гениальная ораторская поэма. С такой мощью! Действительно – во весь голос! Ни у кого никогда в мире такого не было. Это не то что пастернаковское шамканье и полное падение стиха.
Вагинов тоже не изменил себе. Небольшой писатель, но со своим сильным «я», свой внутренний мир. Какой-никакой, но сам с собой.
Леонид Мартынов – десять лет на высылках, та же тюрьма. А вернулся все тот же – светлый, свежий, много музыки своей. Прекрасный поэт. Но не гений – как Пастернак. Тот-то – гений! А сломался. Давно это меня тревожит. С юности. В юности ведь все с прикидкой на себя. Как же так! Он, Пастернак, один такой в мире, за всю историю. Позорит свой цех гениев.
На стихах никто из них не разбогател. Другое дело, когда это врожденное. Гюго, Дюма – сказочники. Гюго – космический.
Дюма, тот – мушкетеры. Таким стиля и не требуется. Хотя я уверен, по-французски написано вполне грамотно. Ну, Бальзак, это полудурок, так и не разбогател. Деньги у него проваливались в бездонную бочку.
Зощенко переводил. Превосходно перевел финский роман «За спичками». Для писателя это не труд. А деньги – о! Это называется, его третировали, изоляция. А жить стал еще и лучше. Рекламу на весь мир сделали ему этими преследованиями. Тогда-то мир его и узнал – какой отличный писатель. Гонимые, знаешь…
Кропоткин в своей «Этике» спокойно пишет, как при побеге с каторги он съел человека. Да, он, Кропоткин – этический писатель! Свободномыслящий. Относительно людей он был свободен. Анархист. Нет, я никогда бы не смог такое. Тут у меня свободы нет: такой свободы. Я не могу не учитывать людей. Не мог, никогда. С людьми я несвободен. Да и брезгливость моя. Я ведь относительно многого брезглив. Например, к махинациям.
У Пришвина от Белого – ничего. Он плохой писатель. В смысле – как написано. Но я имел в виду метод, новую тематику в русской литературе: писать всякую ерунду, все, что видишь. Вот это и открыл Пришвин. Много пустого, но нет, нет да и попадутся меткие наблюдения. А Бианки пошел еще дальше: тот о людях вообще не писал, как будто их и нет. Только о зверях. Сходит в лес, посмотрит, запишет. Конечно, так можно написать – ого-го! Каждый день по странице и то в год триста шестьдесят три, целый том наберется. А за жизнь?
Да, типа дневников. Но в русской литературе жанр дневника не разработан. Да, у японцев это тысячелетняя традиция. У них все отточено. И концентрация, сжатость. Это их излюбленный литературный жанр. Русского дневника не может и быть. Потому что дневники тут писать опасно. Нельзя показать записи. Дневники – это полная свобода пишущего. А какая же тут свобода? То же – и автобиографии, воспоминания. Русских мемуаров как жанра нет. Я много раз пытался писать автобиографию и не мог. Я-то свободный человек, а все же многие еще живущие люди затрагиваются. Ведь если бы я настроился на это, то стал бы писать в полную силу. Иначе я не могу. Но с моим методом, что бы я сделал, во что бы превратились факты: я бы стал преувеличивать, фантазировать, так, что у всех бы волосы встали дыбом. Достаточно и тех книг, уже написанных мной, от которых все шарахаются. Биография – такой материал. Много натурализма. Вот что меня отвращает. Не мое амплуа. Я ведь всегда дозирую моменты натурализма, я же не реалист, перо-то другое, я бы нагромоздил. Только внешнее правдоподобие, а факт преображается фантазией до противоположного смысла.
Тот материал моей жизни: война, солдатчина, завод – такую книгу писать, браться за такое? Зачем? Два года копаться в жуткой, напряженной грязи. Да ну! Скучно. Это ведь надо много выдумать, найти много деталей.
14 ноября 1999 года. Сегодня я пришел к нему в новом пальто.
– Ты как мафиози, – сказал он весело. – Раздевайся, а я пока достучу на машинке фразу. Пришвина-то зря я ругал. Целые куски прекрасные. Что-то вроде Ремизова. Только попроще. Книга стихов моя вышла. С моими рисунками. Вот, видишь. Только текст рядом с рисунком их сильно бьет.
Когда мы вошли в лес, он заговорил о Горбовском:
– Позвонил мне и напросился на приглашение. Это было моей большой ошибкой. Я знаком с Горбовским с восемнадцати лет, его стиль: пить на халяву. Встал из-за стола с таким вот пузом и первый его тост был: «За русский дух!». Горбовского могила исправит. Какой он алкоголик! Настоящий алкоголик пьет без оглядки, насмерть. А этот трус, границу переходить боится, он просто пьяница. Настоящий алкоголик с пьяницей никогда пить не станет. Все. Больше я Горбовского на порог не пущу. Это была последняя встреча. Мразь человек, но таланта его это не снимает. По-уголовному – сука. Ведь продался коммунистам, лизал им задницу. И чины имел. Двадцать лет носил это чугунное коммунистическое пальто и этот чугунный коммунистический костюм. Все, хватит о Горбовском!
Минут пять мы шли молча, потом он заговорил опять:
– Да, талант это, конечно, бесстрашие, только внутреннее, наедине с собой. А в жизни могут быть при этом трусы. Сколько примеров. Почитай биографии. Гораций – трус. Бросил щит и бежал с поля боя. За это его едва не казнили. А другие – храбрецы во всем. И так и так.
Я не мог говорить, что все французские писатели рациональны. Всякие есть, как и у других наций. Бальзак, Камю – рациональны. Нодье рационален от макушки до пят. А Нерваль – нет.
И Мирбо отнюдь не рационален. Да много. О поэтах тем более нельзя сказать. Стихи же непереводимы. Как звучит на том языке – неизвестно. Всегда худший переводит лучшего, и все гибнет. А если и Пастернак переводит Шекспира, это не Шекспир, это хуже оригинала. Переводы Жуковского немецких поэтов и оригиналы – ничего близкого. Так и должно быть. Возьми, скажем, «Экклесиаст»: «Все суета сует». Вот великая истина! Спасибо! Но ведь древние превозносили же за что-то эту книгу. Она, поэма эта, звучала на их языке. А на нашем не звучит. И мы ее не понимаем. В чем тут дело? Закрыто.
Риторика риторике рознь. Когда в риторике есть накал и художественность, тем более ирония – это уже не риторика, то есть речи, это уже поэтика. И у Цицерона есть такие раскаленные речи. А вот, например, из коммунистического манифеста: «Призрак коммунизма бродит по Европе». Это уже поэзия! А Цветаева! Много ли у нее образов? Одни декларации. Но ее могучая звукопись их поднимает на библейскую высоту. Да и вся Библия из деклараций. Но как они звучат! Там ритм, это все стихи, поэмы.
У каждого народа свой менталитет: то, чем восторгаются и от чего трепещут французы, непонятно немцам или испанцам. Одни равнодушны к тому, из-за чего плачут другие. Вот я пробовал переводить сербского поэта двенадцатого века Негоша, его поэму «Золотой венец». Там ритм, который переводится на русский язык как что-то вроде: «Расцвела сирень у нас в садочке». Частушечный. А в оригинале звучит совсем иначе, звуки другие, вся звуковая система языка. Адекватного в русском не найти. Белград, например, у них звучит: Београд. Таким образом гениальный звук при переводе гибнет. А даже прагматический текст может звучать могуче – вот как в Библии.
Да, занимаются размышлениями. Все литературы – морализаторские, так или иначе. У всех литератур установка на мораль, обязательно под этим углом. Теперь этот морализм сильно себя скомпрометировал. Как же! Люди любят читать размышления великих писателей. Открывают для себя приятную новость: вот, оказывается, и они так же думают, как величайший мудрец в мире! А попадется им что-то художественное – это их ошеломляет, им непонятно. Ведь никто не понимает ни стихов, ни рисунков. И большинство поэтов и художников – то же самое, не понимают! Да-да. Чему ты удивляешься. Да и как иначе.
Это ведь вот как: создаются высокие произведения искусства. Но кто их видит? Слепые же все. Они, эти гении, невидимы. Проходит сто лет, больше. Пока не появится поколение зрячих. Да и то: поколение – громко звучит. Единицы. И опять поднимают тот же высокий уровень.
Сколько бы смыслов ты не вкладывал, они, люди, увидят только свой вот такой спичечный смысл. Потому что другого в их глаз не заложено, с чем родились, так и видят. Все равно никто никогда не поймет, как ты писал и что ты писал. Попытки объяснений себя бесполезны и бессмысленны. Поэтому никогда не надо ничего объяснять и объясняться. В шестнадцать лет я уже установил для себя на всю жизнь: взяв перо, оставь надежду. Будущее – только смерть. Отсюда и всеобщее – оставь надежду. Ничего не будет и ничего нет, кроме того, что ты думаешь сейчас. Живи этим мигом. Вот и все. Просто. Нет, надеются, строят планы, живут миражами. Художники из моего окружения тоже жили по принципу «оставь надежду». Михнов прежде всего. Они хорошо знали жестокость жизни. Уповать тут не на что. И Библия на этом. Библия ведь не оставляет никакой надежды. Там все жестоко. Нет надежды и у Будды. У него-то и вовсе никакой. В Библии бог сам себе противоречит постоянно. С ним людям было легко, говорили с богом по-домашнему. Иов – это же домашняя беседа с богом как с равным. Упрекает, что несправедливо поступил, аргументы неопровержимы, как тот не увиливает. Иов долбит и долбит свое. Бог думает: да ну его, зануду этого, осточертел, пусть получает все свое обратно. Хрен с ним. Чем не домашняя перебранка. Бог – невидимка. Очень умно сделал создатель этой книги. А потом церковь стала рисовать этого бога на иконах. Что вышло, мы знаем.
От графомании не избавлены и большие писатели, иначе – отчего же столько томов. Я свои дневники все сожгу. Оставлю только, где есть рисунки. Потому что дневник – материал, и я сам не знаю, куда и к чему приведет обработка. Так я пишу, моя особенность. Кроме того – чтобы не создавали мне потом по этим дневникам величие. Потому что, знаешь, великий и летучий не сочетаются. Как это ни назови: одаренность, божественность, гений, энергия. При чем тут величие? Великие это те, кто размышляет за всех на земле, объявляет одну на всех и на все века единственную истину. Этим величием набивают гробы и потом им молятся поколение за поколением. Катулл – летучий, а не великий. Летает, крылья, гений, летучий он! Разве у него есть какие-то философствования?
У Монтеня античные новеллы, Возрождение, очень интересно, живо. А размышлений – так себе, немного, можно и пропустить.
У латиноамериканцев много прекрасных писателей. У них много своих легенд. Да, Маркес мне нравится, а Кортасара я не люблю. Но кто ж его знает, как Кортасар звучит на их языке. Мы понять этого не можем, недоступно.
Мы остановились у железнодорожной насыпи. Поезд гудел вдали. Успеем ли перебраться через рельсы?
– Так и жизнь пройдет, как Азорские острова, – сказал он. – Я боюсь сумасшедших. Сейчас все чокнутые. Ты – единственный нормальный из пишущих. У Пришвина тот же принцип наблюдательности, что и у меня, то есть – мгновенное наблюдение. А не сидеть и тупо наблюдать за чем-нибудь. Глаз у него работал.
Когда мы вышли к городским домам и пошли по улице, которую пересекал трамвай, он показал на небо:
– Видишь: закат в черных и красных мечах. Мне надо много говорить, а то у меня разовьется заикание, это связано с моей глухотой, – объяснил он, – вот я на тебе и тренируюсь в речах на наших прогулках. Утомительна, должен я тебе сказать, эта болтовня.
19 ноября 1999 года. Он надел кожаную шапку на меховой подкладке, с наушниками. У него уши боятся мороза, как он выразился, отморожены еще в армии. Стал говорить о своей новой книге стихов:
– Разумеется, я отобрал эти стихи из множества, которое отбросил. Так ведь всегда и происходит. Никто не писал так, чтобы одни шедевры с пера лились. У великих тоже говна предостаточно. Никто от этого не убережется. Но отобрать актив – это я в силах и в своей воле. Что и делаю. Какое мне дело до того, что другие не отбирают. У себя-то я отбираю – вот и все. Если бы они стали у себя отбирать, то оказалось бы, что выбирать и нечего. Пришлось бы все выкидывать, все в печи сжечь, что они написали, все свои бесчисленные тома. Как же! Им и в голову не придет сжечь хоть одну свою страничку. Если бы я оставлял все, что мной написано, – ужас! Вся комната была бы забита бумагой от потолка до пола, ройся в ней, как крыса!
В лесу тихо, дорожка заснежена. Перейдя мостик, повернули налево и пошли у ручья.
– Что Хармс, что Зощенко – повторяют один и тот же свой трафарет, – сказал он. – У Хармса еще и философствования на две трети. То, что я написал о Цезаре, – зря. Зачем эти возвеличивания. Это получается: ходят насекомые и рассуждают о тиграх. Но у меня Цезарь – это метафора энергии. А так – хорош Цезарь: миллион пленных уничтожил и не моргнул. В Рим пленных не вели. Перенаселен. Города всегда на горах строили, потому и города, что – на горах. А этот придурок Петр на болоте построил.
Книга Марко Поло, да, живо написано, талантливо. Списал с арабских сказок. Теперь уж точно доказано: никогда он в Китае не был. Все сочинил, фантазии и чудеса, легенды, анекдоты. Буйная фантазия у человека. Писал в своей Венеции, никуда не выезжая. Талантливо написано, легко читается. Что еще надо? А какова действительность – иди и смотри. Если не дурак, сам увидишь: скука, мрак, ужас. Лучше уж о дворцах и чудесах сочинять. Да и арабские сказки списаны с вавилонских. Откуда у арабов такое богатство, как в этих сказках рассказывается, все эти сокровища? Ясно – от Вавилона. Да вавилонское царство и описано: Багдад это же вавилонский город. А наш Афанасьев русские сказки откуда взял? Главную часть от братьев Гримм. Выбрал самые мрачные сказки, чтобы как раз подошли к русскому колориту, вписались в русскую жизнь. А веселые сказки, скажем, «Бременские музыканты», уж никак бы нам не годились. А вообще весь русский сказочный эпос – перевод с каракалпакского.
Прочитал я недавно биографию Эдит Пиаф. Ужасная у нее жизнь была. Из низов. Мать – проститутка. Отец – уличный акробат. Вот и вся ее интеллигентность. По сути дела – безграмотная. А голос! Иерихонская труба! Алкоголь, наркотики. Такое жуткое напряжение все время, надо же было чем-то его снимать. К тому же у нее и рак еще. И сорока не было ей. Такие долго не живут. В Америке зал ей кричал: «Держись, малютка!» И кидали ей на сцену доллары. А она стоит, дрожит, кулаки сжала. И поет. Как поет!
Та же жизнь и у актеров. Так что лучше бы людям подальше от этих искусств. Такие не видели света божьего, понимаешь! Жить им было некогда.
29 декабря 1999 года. У него на столе, украшенные игрушками, еловые ветви в вазе.
– У меня идет поэма, – сказал он, складывая листы стопкой. – Начал в Германии, на прогулках. Делать-то было нечего, вот и закрутилось в голове. Назвал: «Сюита конца». На этот раз ни одной ноты на басах. Все на минорной скрипичной стороне фортепьянной клавиатуры. Это у Маяковского – басы, орган, во весь голос. У Хлебникова больше скрипка. А у меня – посередине. Тоже – скрипка скорее. С Маяковским – ничего общего, кроме корней – библейских. По два сердечных приступа в день. Так что эта моя новая поэма – стихотворная агония. Это у Нижинского сказано и в японском трактате о театре Но «Предание о цветке стиля», что приобретенная грация, полученная в обучении, с возрастом может пропасть, а грация врожденная ничем не ограничена, беспредельна и пропадает только со смертью. Вот и у меня стихи вернулись в шестьдесят три года. А пятнадцать лет стихов не писал.
Мы пошли гулять. Опять спустились в наш подвальчик выпить чая. Сидя за столиком в ожидании, когда нам подадут, он сказал:
– Эту автобиографическую книгу я писать не буду. Да, «На этих берегах». Не могу. Такое надо писать легко, рассказывая. А у меня стиль тяжелый, негодный для такого типа книги. Я не могу писать ненапряженно. И потом – вспоминать это все, копаться. Я хотел, чтобы имена тех ребят остались, написать об особой психике этих людей. Героическая психика. Это же все смертники, камикадзе. И они сами сделали свой выбор.
Я сообщил ему, что пишу книгу «Дневник конца». Он удивился:
– Что же это ты можешь писать – из головы? Из моих рассказов? Нет, так не годится. Такая книга имела бы смысл, если бы она была фактологическая. То есть записи фактов. Выписки из газет, разговоры, анекдоты, слухи, сплетни, состояние людей, себя. Такой был «Блокадный дневник» Панова. Первый муж писательницы Пановой, журналист. Сильная, честная, правдивая книга. Дневник этот так и не был опубликован. Может быть, хранится в сейфах КГБ.
Грядут чудовищные катаклизмы. Ураганы, бури. В Америке штат Аризона до сих пор пустует. А что сейчас в Европе делается, во Франции! Разрушены тысячи домов, трехвековые гигантские деревья вырваны с корнем. То ли еще будет.
Но у тебя эта тема не подтверждена твоей реальной жизнью. Другое дело – у меня. Моя жизнь – это же постоянно на грани смерти. В два месяца от рождения – операция на голове: отрезали вторую голову. В три года ползал на четвереньках: костный туберкулез, ноги в гипсе. Потом – партизанский отряд дяди на Кубани. Потом – с отцом по фронтам. Служба в армии, испытание атомной бомбы на Новой Земле. Пьянки насмерть, бесконечные операции, под ножами хирургов. И так – до настоящего дня. Смертник, камикадзе. И это врожденное, психика, передаваемая из поколения в поколение. У меня же в роду все военные по отцовской линии. То есть те же смертники. А камикадзе из простого рода не бывает. Только из благородных, из дворян. Это опять же – психика. По материнской линии – раввины и гангстеры. В Бразилии целый клан. У меня ведь во всем мной написанном, начиная со «Слова о полку Игореве» и кончая последней книгой, эта тема конца сквозная, постоянная, проходит лейтмотивом, это главная моя тема. И во всех написанных мной книгах – психика войны, напряженность, как в бою. Так что о самой войне мне писать решительно незачем.
Гуляли в лесу, снег пушистый, выпавший утром, лыжники.
– За десять дней, как вернулся из Германии – обвал звонков, – сказал он. – Предложения посыпались из издательств: выпустить мои книги, двух-, трехтомники. Даже из Оренбурга. С чего бы это все? Я не понимаю. Может быть, диктатуре понадобились сильные личности – и в культуре, и в искусстве? А я ведь в литературе и сам диктатор. Я всю свою жизнь диктую в книгах свое.
Я никогда ни о чем не мечтал. Что такое мечтать – я не знаю. Мечтания мне неприсущи, этим-то я и отличаюсь от прочих людей. Да эта страна и не располагает к мечтаниям. Разве ты, например, к мечтаниям расположен?
Самое музыкальное стихотворение Хлебникова – «Семеро». Я всегда считал, что оно по ритму уникально в русской поэтике. И вдруг в Германии, в библиотеке моего приятеля, где я жил, в переводах шотландских баллад Алексея Константиновича Толстого – стихотворение с точно таким же ритмом! Вот тебе и новшество! Для меня это был шок! Хлебников перешпарил строчка в строчку. Конечно, у Хлебникова духовно в тысячу крат сильнее. Но и у Толстого сильно, футуристично за сто лет до футуристов. Не написать ли и мне третий вариант этого стихотворения? Только за подлинник взять не Хлебникова, разумеется. Там уже ничего не сделаешь. Вот видишь, как в литературе. Книга всегда возникает от другой книги. Во всяком случае, так у больших поэтов и писателей. А у малых из ничего берется, в ничто и уходит. И говорить о них нечего.
Да, я-то думал, что я первый использовал этот прием: перефантазировать чужое произведение. У меня это «Слово о полку Игореве» и «Баллада Редингской тюрьмы». А оказывается, Хлебников все же первый. Да ну, первый! Это у всех. Это самый древний и распространенный прием. Пушкин весь состоит из чужих строк, только по-своему связанных. Этакий всеобъемлющий коллаж из всего им прочитанного и захваченного у других поэтов. А говорят: современная поэтика, постмодернизм. Какая чепуха! Только у Пушкина органично, а у наших Парщиковых – грубо, внешне.
Который час? Четыре? О, пора домой. У меня в шесть назначена встреча с издателем. Да, не очень-то поторопишься, шаг шире не получится – башмаки такие фашистские. Вот и твои «Восемь медных ос». Ведь ты украл у Брэдбери. Да, в чем ты себя найдешь? Вот вопрос.
Мы шли по улице, начинало темнеть, сырой снег, фары машин, ларьки, мандарины, елки несут.
Дома мы были ровно в четыре. Издатель еще не приходил. Прощаясь, он пожал мне руку:
– Передавай поздравления с Новым годом своей Ларисе, домашним. А я ведь Новый год уже отпраздновал. У меня по своему календарю. – Он поглядел на себя в зеркало, которое висит у него в прихожей. – Да, теперь я стал похож на Ричарда Третьего: и лицо такое длинное, сплющенное, и волосы эти седые крыльями до плеч.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































