Текст книги "Прогулки с Соснорой"
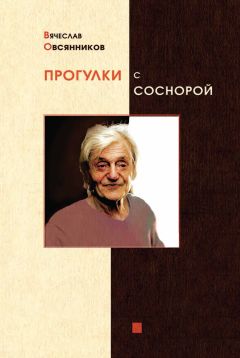
Автор книги: Вячеслав Овсянников
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
На подмосковной даче собрались старики из того поколения, и Роман Якобсон. Решали: кто из нас троих останется – Вознесенский, Бродский и я. Решили: Вознесенский останется только в поминальном списке, как имя. Бродский, сомнительно, что и в списки. А я останусь, пока будет русская литература. Но русская литература может исчезнуть очень скоро. Завоевание, скажем. Объявят государственным языком английский. А русский через полвека будет уже язык музейный, мертвый, как латынь, для единиц специалистов. Так что такое слава? Никогда никто о славе и не думал, когда писал, рисовал. Для своего удовольствия, жизнь в этом. Вот и все. Одержимость работой. Михнов до чего дошел. Пьяный, полубезумный. Только работа. И деньги за работу. В какие музеи пойдут его картины – его не касается. Хоть на свалку. А вот денежки давай сюда. Так и я: деньги. А съезды, афиша, слава мне не нужны. Я никогда не любил себя показывать. Поэтому и в Сибирь ездил, а не в Москве выступал. А теперь и вовсе – затворник. Они не понимают, что такое – быть глухим. Думают, я придуриваю. Какое там! Сам видишь: каждая мелочь – проблема. Им я всем желаю, чтоб они оглохли, узнали б, что это такое.
Художники ведь разные бывают, совсем разные типы. Один затворник, а другой себя постоянно показывает, как Маяковский. А у кого качество выше, это еще неизвестно. Вознесенский – самый культурный технологически поэт за последние пятьдесят лет. Вот, Кулаков. Ему мало, что его картины в музеях мира. Ему славы надо, шума похвал и поклонения.
Страдает, что нет корон и мантий, как у Пикассо. Видишь: противоположность Михнову. Разные, разные художники. Но в одном все одинаковы. Не зря люди называют их ненормальными. Маньяки. Может, я и сам загремлю в больницу. А может, и вообще – каюк. А что? Почему нет? Ничего теперь неизвестно.
21 июня 1999 года. Сегодня, придя к нему, я увидел у него на столе машинку с наполовину напечатанным листом. На мой вопрос, работает ли он, ответил:
– Я всегда работаю. Этим, как ты знаешь, я отличаюсь, это мое свойство. Не снимай обувь. Сейчас пойдем гулять. Вот закончу книгу к Новому году и напьюсь. Пока пишу, и мысли не может быть. Исключено. Я, как матрос у руля. Разве матрос у руля может пить? Нет. Вот сойдет на берег – тогда нарежется на всю катушку. Хорошо, как одеваться? Жарко? Не будет ли дождя? Слуховой аппарат я все-таки оставлю дома.
Пошли в лес.
– Трава уже какая высокая! – сказал он. – Зеленое все. Да, работа над книгой отвлекает меня от жизни, от мыслей об этой нищете и слякоти. От дум, как ты выражаешься. Ленинград – это же слякоть, и люди тут слякоть, пассивны, мелки. В Москве активней, крупнее. Писанина – это психотерапия. Забываешься. И у графоманов – тоже. Только – писанина их разрушает. Почему? Потому что, написав книгу, они ждут, что мир потрясется от ее величия. Я никогда не ожидал, и мысли никогда не возникало. Муки творчества – какая чепуха! Эти муки только у графоманов. Творчество, наоборот, удовольствие. Самые прекрасные минуты, какие у меня были и вообще какие могут быть в этой жизни – это творчество. Так зачем же эти минуты гасить. Когда мне пишется, когда идет работа, условия не влияют. Работа сжигает условия. Тут большое преимущество – глухота. Отличие графоманов: они завидуют чужим книгам. Это такая психика. Толстой завидовал. Пушкин – нет. Но в жизни он был дерьмо. Говорят: простодушный. Да нет, просто дурак. И я никогда не завидовал. Наоборот: каждая новая талантливая книга меня интересует и возбуждает.
Читал ты Жерара Нерваля? Он больше знаменит своими крупными прозаическими произведениями. О гашише. Недавно у нас вышла. Все было издано здесь до революции. А теперь переиздают кусочки. У Ницше не издали главное: его дневники. Без дневников не узнаешь биографию писателя. Внутреннюю. Цвейг? Да, только Цвейг у нас и есть. Цвейг – это же такой сладкоежка, романтик, у него все в цветах, то есть – сентиментально.
Был я на этом Всемирном конгрессе в Таврическом дворце. Да. Прочитал после Горбовского и ушел. Противно. Оказывается, даже не был включен в основной список выступавших, а в дополнительный, как и Горбовский. Замалчивают и людей, и книги с сильной, свободной психикой. Какими тиражами изданы мои книги! Это же почти самиздат. Я – первый русский писатель, который стал писать свободно, то есть то, что хочу. Не поэтика, а именно: то, что хочу. Тут всегда писали социальное. Это пресловутое социальное содержание, да и любое содержание, а не свои внутренние проблемы. Нет, там, на Западе, много свободных книг самого разного типа. И сексуальные проблемы. Свое, внутреннее. Мирбо, например. И такого типа там много. А китайская литература. Великая китайская литература! Неужели там только то, что пропускали советские идеологи? Вообще прозы двадцатого века нет. По сравнению с девятнадцатым, восемнадцатым, семнадцатым – разве это проза? Прославленный Кафка – что у него? Схоластические рассуждения, да два чудака болтают, игра на этом. И только. Больше нет у него никакой игры. Проснувшись, оказывается превращенным в насекомое. Вот открытие! Таких сюжетов полно в древних литературах. И Пушкин несвободен, полно социального. Гоголь – дело другое. У него все опрокинуто на декорации. И у Диккенса тоже – декорации главное, а не эта слюнявая любовь к бедным. Англичане его времени, наверное, так и думали: вот это парень – каких монстров строит! Ведь этот его «Оливер Твист» – сколько там монстров! Достоевский ведь прославился у них там, на Западе, этими «Бесами», жутким, отвратительным фельетоном.
Художники моего поколения, да, были свободны. Но это поколение уже ушло. Все же умерли. Да, и Зверев. Он же импрессионист. Но нашел в этом свое. Да, красиво. Но Грицюк куда сильнее. Михнов еще сильней. У Зверева лиричнее, а значит, – слабее. И вообще, смотря какую точку отсчета брать. Если здесь, в советское время, регионально – да, как-то бултыхались, кувыркались по-своему, свободно. А если брать точкой отсчета Филонова – то рядом с ним все они нули.
Я заметил по этому поводу, написав ему в блокноте: «При таких точках отсчета уничтожается все».
– Вот именно! – ответил он. – Это ты справедливо сказал. Вот поэтому мне так и противно смотреть вокруг – одни нули. Единицы все в прошлом. То, что сейчас, это уже и не нули, а какая-то минус бесконечность.
Мы углубились в лес, отмахивались от комаров сломанными ветками рябины. Его комары донимали меньше, чем меня.
– Я, наверное, выделяю ядовитые испарения, – пошутил он мрачно. – Да, о дневниках: дневники японок – тысячу лет назад написаны. А здесь ни одного дневника до сих пор. Одна Башкирцева. Ты за эти два года повзрослел. Не болел ничем, никогда? И даже геморроя нет? В таком случае ты уникум. В этом городе геморрой у всех поголовно, стопроцентный. Это город-геморрой. Абстракционисты и подхалимы – вот писатели в этой стране. Большие писатели никогда таковыми не являются. «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Вот уж хрен им.
29 июня 1999 года. Навестил его на Мшинской, был там два дня.
– Работаю с девяти утра без перерыва, – сказал он, показав на машинку. – У меня тут было уже три сердечных приступа. Последний приступ вчера – лежал влежку, скрестив руки на груди. Вот как работают герои! Доиграюсь. Так что еще неизвестно, кто раньше: Нина или я. Книгу гоню. Надо, чтобы к зиме была готова, а к Новому году вышла. Издадут в «Пушкинском фонде». Вот будет сюрприз к двухтысячному христианскому году. Так и быть, я тебе открою тайну: это книга стихов. С февраля начал писать. Стихи – после шестнадцатилетнего перерыва! Я уже и не думал, что когда-нибудь еще вернусь к стихам. Никому еще не говорил. Только Комарову, издателю. И тебе. Но ты должен держать язык за зубами. Это рак Нины, наверное, заставил меня сконцентрироваться. Книга из трех частей. Первая часть: «Солдаты уходят». Вторая: «Цыгане уходят». Третья: «Женщины уходят». Ладно, я тебе прочитаю отрывки. Тебе первому!
Он стал читать из второй части: «Цыганский романс». Читал в своей напевной манере, с нажимом, с акцентацией, странным своим голосом глухого. Патетично, мощно.
– Да, я и сам чувствую, что хорошо, – сказал он, выслушав слова моего восхищения. – Я собой доволен. Как это будет звучать в зале! Представляешь! Только бы Комаров успел издать к Новому году. Впрочем, и без издания мне нужно написать эту книгу и я напишу. Ты много мне помог за эти три года. Зайди в букинистический магазин на Литейном, месяц назад там продавали «Романсеро» Лорки, издательство «Наука», тогда издавал Широков. Там должно быть много комментариев. Без этого у меня не идет работа с цыганской частью, нужны подробности.
Вечером гуляли по дорожкам в садоводстве. Он говорил:
– Читаю книгу об Эдгаре По, взял из города. Слащавая, сентиментальная книга. Осуждает, что Эдгар По пьянствовал, что был безумен от пьянства. Чепуха. На то и алкоголь, чтобы сдвинуть эту реальность, уйти из нее хоть на время. Но после запоя, как только из него выходил, никакой он безумный не был, он был вполне нормальный. Наверное, у него была белая горячка, и кошмары мучили. Какие у него запои, у Эдгара По. Вот мои запои! Хотя… Наверное, такие же. Эти белогорячечные кошмары его и сгубили. Тогда лечить еще не умели. Жуткие видения, голоса. Ох, лучше не вспоминать. Раньше я спал на спине с поднятыми над грудью руками, согнутыми в локтях. Как собака. А при запое – вытянув руки вверх. Отчего? Наверное, от кошмаров. Какая у меня жизнь теперь. Бессмысленно тянуть. Как это я дотащился до шестидесяти трех, вот что удивительно. Писать? Да ну. Бессмысленно. Больше, меньше – какая разница. Я все сказал, что хотел. Что бы ни написал еще, будет то же самое. Ну, немного в иной форме, вариации. Так моя жизнь и прошла между пьянством и женщинами. Еще и писал? Ты, конечно, думаешь, это и есть главное. Ерунда. Главное – жить. А когда жизни нет, вот и занимаются пламенным творчеством. Да и всему, может быть, скоро конец, всему этому миру. В книге ацтеков, две тысячи лет до нашей эры предсказан конец мира: две тысячи двенадцатый год по нашему христианскому исчислению. Так что ждать недолго.
Вернувшись с прогулки, мы еще долго, до часу ночи, стояли на крыльце, в темноте, он курил, рассказывал о своем житье в Париже в первую поездку.
– Те три месяца – самое счастливое время в моей жизни, пожалуй, – сказал он. – Слава, молодость, тридцать три года.
Знаком был со всей литературной и артистической элитой. Через Арагона. И с Пикассо, и с Шагалом. Нет, живопись Шагала не в моем вкусе, я ведь не люблю этот кисель в красках. Пикассо некоторых периодов еще так-сяк.
7 сентября 1999 года. Еще раз навестил его на даче. Подхожу к дому, дверь распахнута. Он сидит на табурете, ко мне спиной, в тельняшке, ест борщ. Когда я подошел близко, он меня заметил:
– Хорошо, что приехал. Борща хочешь? Жара меня доняла. Работать не могу. У меня тут приступ за приступом. Я даже написал завещание. Но надо дописать книгу. Это мой долг перед собой. А не для чего-то там. Написать о людях, которые иначе будут забыты. Называется: «Эти берега». Да, именно. Тот ведь из купцов. О, как на него поднялась вся эмиграция! Нет, читать Набокова я не мог, эти слюни. Я, как ты должен был понять, совершенно без сантиментов, никогда никаких слюней ни по какому поводу у меня не было. Чего нет, того нет. Но когда человек рядом мучается, а ты ничего не можешь сделать, смотреть на это все же тягостно.
Ночью гуляли по дорожкам. Звезды.
– Вот, видишь: Большая Медведица, а кругом тучи, – он провел дугу указательным пальцем. – Эти мои стихи, через шестнадцать лет перерыва, уже совсем другие, чем те. Новая техника и много новых приемов. Бессознательно. Осознал, когда уже написал половину книги. Теперь не ставлю два слова по звуку рядом, а звук распределен на большом пространстве, тонко. А то – звукопись рядом стоящих слов уже стала мой штамп. Отказался. Много оригинальных ритмических оборотов. Ведь русского верлибра, собственно, и нет. Он возможен вот так: разнообразием ритмическим. Почему и выдохся Айги. Он только самородок. Русским стихом он не жил. А я жил. Только стихом и жил. А тот, кто живет этим, у того на саму жизнь уже нет времени, уже не знает другой жизни. Пьянки – разве жизнь? Или бабы – жизнь? Менять одну за другой, однообразие смен. Я пролетел по своему времени как черная птица. А можно было бы другое. Есть ведь жизнь с людьми: семья, дети. Да, дети для меня всегда были какой-то ужас, что-то непостижимое, ужасающее.
Когда нерв пойман, это идет и идет, само. Статья обо мне моего ученика, в журнале: что вот наконец издали мои книги и – никакого отклика. Заговор молчания. Наивный человек. Как будто кто-то сейчас может понять мои книги. Они недоступны их пониманию. Потому что – это русский язык, книги эти написаны русским языком. Где им понять язык. Тем я резко и отличаюсь от других, что никогда не шел против своей воли, не насиловал ее, а писал только как мне хочется и когда мне хочется.
Да, сейчас у меня, как в Сен-Назаре, тогда тоже шло потоком: рисунки, книга прозы, опять рисунки. Вот и сейчас: книга стихов, теперь эта книга, без перерыва. Но я уже отравился чаем, сигаретами, несметное количество сигарет, потоки чая. Это безумие, сдают почки, печень, сердце. Как я еще выдерживаю. Все лето там, наверху, на своем посту, на башне, за столом, стучал на машинке – до четырех, каждый день. Так что ты хочешь.
Я никогда не был вполне уверен в своих книгах, в смысле: что я сделал, что же это действительно такое. Будь те времена, был бы я от Барклая де Толли – светлейший князь. Да, написал книгу стихов. Порезвился. А вообще-то все это ни к чему. Вся эта писанина. К вечеру у меня всегда мрачное настроение. Я уважаю книгу Радищева, его «Путешествие из Петербурга в Москву»: за то, что так злобно написана и за архаичность языка. Он даже архаичней Державина. Такие поэты. Они для этого родились и состоялись в этой области, а читать их не будут.
Моя китайская повесть написана чистым языком. Да, ты меня правильно понимаешь: чистым, как сталь. Сегодня я отточил нож о камень в саду, за четыре секунды. Вот как надо ножи точить. Я тебя научу. Я тебя еще ничему не научил. Все мной написанное – такие отточенные ножи. В молодости ко мне нельзя было прикасаться. Неприкасаемый. Тело само реагировало на неожиданное прикосновение, ударами защиты, бессознательно, молниеносно. Это врожденное и навык, с войны. Когда кругом, всегда – опасность. Вот тело и готово защищаться в любую секунду, всегда настороже. Это наше военное поколение.
27 сентября 1999 года. Он снова в городе. Я пришел к нему в час дня, и мы сразу пошли гулять.
– Две недели не выбирался из дома, – сказал он. – Попробовал рисовать, ничего не получилось. Беспокойство, тревоги. Чтобы рисовать, надо себя взвинтить, довести до крайнего состояния, чаем, кофе, колоссальная сосредоточенность и отрешенность, какие-либо помехи извне исключаются.
Все наши писатели в девятнадцатом веке были под влиянием Мериме. Да, но у Лермонтова психологизмы. У него герой, психика, Печорин. А у Мериме Печорина нет. Да, верно: он жесткий, без психологии. У него новеллы, то есть мир новостей, действие. Богатая культура, знания в разных областях. Знал Испанию, вот и написал «Театр Клары Гасуль» и «Кармен». Открыл Испанию для Франции, да и для всего мира. Знал бы он тогда Китай, открыл бы и Китай также. А без культуры, без знаний получится в лучшем случае Горбовский. Высокий внутренний талант, а культуры не дано, крутит, крутит одного себя.
Нет, Павич мне неинтересен. Все они пытаются перехлестнуть Белого или Джойса. Никогда не перехлестнут. И зачем? Хотя вопрос «зачем» тут не стоит. Видишь, все берут отовсюду, прежде всего у тех, кто ярок, состоялся, велик. Тащат. Иначе и быть не может. Белого всего растащили. По косточкам. И Гертруду Стайн. Всегда так. Писатель, сделавший открытие, новую, яркую форму, то есть писатель со своим языком, обречен на то, что его растащат. Книги быстро устаревают. Конечно, бывает, за яркой гениальной формой ничего нет, пусто, как у Белого. Тем более. И Хлебникова растащили, еще при жизни. Его формальные открытия, приемы. Кроме того, что стоит за формой. То, внутреннее, растащить нельзя. Но то никто и не видит. Хлебникова не поняли. То есть только внешне поняли. Хлебникову надо было вернуть язык к чистым древним корням, к источнику. Корни эти древние – в народе, в фольклоре. Это была его цель. Да и не цель, а просто он любил это, и вела его только любовь к этому. А кричат – футуризм. Ну, какой же футуризм! Если на то пошло, футуризм открыл и начал Фридрих Гогенштауфен еще в двенадцатом веке. А испанский поэт девятнадцатого века Русефоль разработал теорию и дал образцы футуризма современной Европе. Он, а не Маринетти. Какие у нас футуристы? Маяковский только, и то взял одну лишь тему машин, а язык и нерв библейский, в древнерусском переводе. Опять же язык и его древние корни. Корневой язык. То есть настоящий, сильный, яркий, звонкий, во всем его богатстве. Как писателю без языка? Какой язык, так и пишет. То, что сейчас в ходу, – это язык? Это грязь. Писатели так и разделяются: язык и без языка. Беллетристика: там цель – как можно больше нарассказать. Тут не до языка и стиля.
А вообще все это необязательно: язык, корни языка. Вон Дюма – какой там у него язык. Зачем негру язык и его корни? А вон какие исторические сказки написал, живые, полные блеска! Его всегда будут читать. А писателей с языком и не читают. Потому что зачастую – мертвое мастерство. Вот что я скажу тебе, я ведь так выбираю: для меня главное – живое. А вершины мастерства подчас не имеют для меня никакой цены. Конечно, изучить новое необходимо. Но и все. Изучил. Неинтересно. Пусто. А бывает, совсем простые стихи, язык бедный, слова обычные, а – мистика. Живое. Просятся в песню. Интуитивно найденное и так безыскусно прозвучавшее в них что-то. Нерв жизни. Так, например, Есенин. Высокий внутренний интуитивный талант. Культура внутренняя, интуитивная. А такой культуры – знаний – ему было дано мало. Но когда у него срабатывала поэтическая интуиция то получались песни. И всегда найдется тот, кто на них отзовется как на песню. И в начале у него, в шестнадцать-семнадцать лет: эта его «Песнь о собаке». И в конце, после Америки: стихи и песни и поэма «Пугачев». Это в нем ценно, а совсем не то, что ему приписывают. «Анна Снегина» – пошлый газетный фельетон. Всего Белого, со всей его сложной гениальной сверхструктурой отдаю за одно маленькое стихотвореньице Есенина. Так и Блок, у него стихи – это древнерусская живопись.
Да, и Гертруда Стайн языковая. Ее растащил Хемингуэй. Роберт Фрост, поэт, тогда он в Америке считался великим, вздумал читать мне свои стихи. Стихи у него простейшие, типа деревенских. Стихи ведь можно оценить не зная языка, не понимая смысла слов, по звуку. Я английский не знал. Хорошо. Прочитал он. «Ну как?» – спрашивает. Отвечаю честно: «Никак. Пусто. Слова, поставленные в обыкновенном порядке». Он удивился. «А почему, когда вы читаете свои стихи у нас в Америке, вы имеете такой успех, хотя в зале никто не понимает ни слова по-русски? Оттого, что у вас, русских, музыкальная система?» «Да нет у русских такой системы», – отвечаю ему. «Это у меня музыкальная система. Но, видно, дело в чем-то другом». Вот такой случай. А бывает, по звуку не оценить. Особенно, если стихи простые, прозрачные. В них-то и есть иногда нечто мистическое, в этой прозрачности и простоте, а вне смысла слов это неуловимо.
У меня были все книги Чурилина. Весь его архив. Цветаева называла его гениальным? Да она всех называла гениальными. Да, конечно, гениальный, раз у него есть три стихотворения, которые никто не написал и никогда не напишет. Клюев полюбил кондовое и ничего у него нет. Афанасий Никитин, да, это – язык! И он – футурист. То есть все, у кого сжатый, энергичный стиль, – футуристы. Я хотел об этом написать. Но зачем? Для других – бессмысленно. Для себя – глупо. Ведь сам для себя знаешь, так зачем же это для себя еще и писать?
Испанский язык и культуру создали цыгане, арабы и евреи.
Эта машинная, западная цивилизация не должна существовать. Ее не должно быть. И Восток поднимется! Зачем ему эти машины, и работать за их конвейерами? Ему – петь, плясать, на ножичках биться!
Где то горение, кипение? Мое поколение прошло. Думал ли я, что буду жить так долго! Неприятное открытие. До пятидесяти я жил полной жизнью: писал, пил, множество женщин. Все это, конечно, механика только. Но ведь эта механика у меня была всю жизнь. И вдруг – конец. Стоп. Если остановить голову, которая привыкла сильно крутиться, – она разорвется. Нет, старость – черт знает что. Одни эти болезни. Я с ужасом думаю, что дальше.
Остановясь, он окинул взглядом роняющий листья, блестящий на солнце лес:
– Ах, какая чудесная погода! А я сидел дома безвылазно неделю.
4 октября 1999 года. У него озабоченный вид, ходит туда-сюда по комнате.
– Я предчувствую, что в этом году что-то произойдет, – сказал он хмуро. – Не к добру все это. Дурные знаки. В двухтысячном году парад планет, покажет себя во всем блеске! Землетрясения, катастрофы. В Турции уже сорок тысяч погибло. А в Америке, на Тайване! Число жертв скрывают. Как бы меня в голову не ударило. Боюсь инсульта. Может и парализовать, вот как Голявкина. Большой писатель, не чета москвичам. Они все в подметки ему не годятся. Проза чистейшая, а иначе я бы и не говорил о нем как о большом писателе. Тут важно определить жанр. Он пишет этакие современные притчи, гиперболические. А у притчи свой жесткий закон. Последний большой писатель одессит. Ну, из Баку. Интересно, что регионы дают столько людей с мировой известностью. Из Одессы в двадцатом веке – целая плеяда. Ну, город с западными декорациями. Ведь Одессу строили французы, англичане. Но это еще ничего не значит. И вообще в двадцатом веке в России южные регионы дали почти всех великих писателей и художников. Хлебников – Астрахань, Крученых – Херсон, Маяковский – Грузия, Малевич – Украина. Это интересно. Что же: молния туда ударила?
И вот еще что: поэты и писатели в начале века – из каких семей? Как правило – из профессорских. Блок – внук профессора. Белый – сын профессора математики. Хлебников – сын профессора орнитологии. А наше поколение? Все поголовно сыновья и дочери КГБ. Потому что это в то время был единственный процветающий класс. Видимо, тут закон: художники – сыновья процветающего класса. Генетически. Оттуда, где больше энергии. Из низов никогда нигде ничто не выходило. В низах талантов нет. Ну, назови пример. Ты хочешь сказать: Кольцов. Он из богатой скотоводческой семьи. Его отец – богатый скотовладелец. Горький – дед купец-миллионер. Есенин – отец богатый фермер. Бернс тоже – отец богатый фермер. Сумел разбогатеть, значит – энергия. Нищета ничего не значит. Державин был нищий, а он – потомок мурзы. Бетховен? Но музыка – чисто интуитивное искусство. Для музыки достаточно импульсов. А слово – это совсем другое. На пути к слову в потомке нужно много удобрения, чтобы в роду была подкормка от поколения к поколению. Это ген. Взращивание гена. Нет, нет, таланты только в верхах. Я говорю о поэтах. Среди поэтов такого примера, чтоб не сверху, нет.
Да ну, что об этом говорить. Нормальным людям для нормальной жизни, то есть вообще – для жизни, нужно всего-то – дом, еда и с соседями ладить. Достаточно для жизни. А поэты – это какие-то выродки. Недаром народ и называет их сумасшедшими. Да и вообще художники, все искусство. А разве не выродки? Зачем стихи? Кому они нужны? Кто их читает, кроме самих поэтов? Если и читают, так для культурности, чтобы продекламировать в обществе. Писать стихи – бесполезное и бессмысленное занятие, ненужное для жизни. Без них мир спокойно бы обошелся. Ничего бы в мире не произошло, никаких бедствий или огорчений. Ну, музыку, все-таки могут слушать, и не понимая в ней ничего. И картинки в живописи смотреть. А в общем-то, по большому счету, и музыка, и живопись также бесполезны и бессмысленны. Народ в лучшем случае использует их для украшательства, ничего в них не понимая. Жило же наше русское крестьянство, сто восемьдесят миллионов, не зная о каком-то там Бетховене. И ничего. Только здоровее было. Ничего не потеряло от того, что не знало. И бесполезное и вредное занятие. Я и говорю – выродки. Непонятно – откуда это и зачем. Эта именно такого типа энергия. Их же всегда очень немного, единицы.
Вот что я недавно еще для себя открыл: все современные русские писатели – как будто бы и хорошо написано у многих, а что-то не то. И вот вдруг понял, осенило: все они живут в своей стране! Это именно их страна, для них. Ужами извиваются, ловчат. А как иначе в этой стране? Для меня никогда никакой страны не существовало, ни этой, ни другой. Я жил вне стран. Так и все большие писатели. Достоевский? Что ты мне о нем говоришь! Этот был спекулянт в своей стране. Он продавался. Его книги печатала желтая пресса. Его здесь запрещали лет сорок, больше. Вот запретом и прославился на Западе. Говорю: они продавались. У них же и установка такая была: писать для читателя.
Эдгар По много мистифицировал. Он-то тоже слишком жил в своей стране, вот и написал столько дерьма. А вот когда он уходил в свое это, – указательным пальцем крутнул завиток у себя над теменем, – тогда он забывал о всех странах на свете и вообще, что есть какие-то там страны, тогда-то у него и получалось настоящее.
У Мамлеева тоже притчи. Но у него все мертвецы да мертвецы и ничего другого нет. Однообразно. И как ему не надоест. Эта его игра в мертвецов уже перешла границы. Хотя включишь телевизор – и там одни мертвецы. Я уже и включать боюсь. Да, похороны Лихачева. У него есть хорошая книга: о русских садах и парках. Замечательная книга и написана в древнем духе. А главная его книга «Поэтика Древней Руси» – это все неверно. О главном там вот столько: о летописях. Главное в древнерусской литературе – это могучий язык этих летописей. Не содержание, не события. Что события? Это ерунда. А вот язык! Летописный свод – несколько вот таких томищ!
Нет, почему же, у Пруста очень много подмечено тонких деталей. Очень точно. И писал он таким потоком, том за томом, столько томов, лет десять. Это, знаешь ли… У меня хорошо если три таких тома наберется, весь актив, это за всю жизнь. Я так говорю, потому что хорошо знаю, чего стоит написать такие книги. А – рационален… Так ведь и все французские писатели слишком рациональны. Нет, я ни одной книги Пруста не смог дочитать до конца. Такие томищи читать это выше моих сил. Да, это выше моих бедных сил. А сейчас у меня и совсем сил нет.
Древние рисовали лучше. Малевич мог бы свои доски и в избе рисовать. Супрематизм – это же доски. А шарики, кубики, лекала – это еще Египет рисовал. Лисицкий оттуда и взял. Древние и писали лучше, и воевали лучше. Рим – короткий меч. По сути дела – кинжал. Храбр – бейся в ближнем бою, грудь в грудь. А теперь и противника не видят. Девочки нажимают кнопочки. Не солдаты. Трусы. Эта цивилизация обречена. Писательство – мания. А что же еще? Мания, конечно. Бесполезная и вредная. То ли дело – мания садоводства. Плоды ешь со своего сада.
12 октября 1999 года. Пошли гулять. День ветреный. Ему захотелось есть, спустились в подвальчик. Он взял свинину.
– Голодный как собака! – сказал он, разрезая мясо. – Я же никогда не завтракаю. Черт! Жесткая! Мне не по зубам жевать эту подошву. Идем отсюда! Да, Гогенштауфен, был такой германский император и его литературный кружок. Изобретали стихотворные формы. Это Гогенштауфен изобрел сонет. Подумаешь, сонет. Я этих стихотворных форм мог бы изобрести сотни. Но зачем? Я ведь отнюдь не формалист. Новое изобретается только по насущной необходимости, когда этого требует работа с живой темой, само собой, естественно. Сонет как форма русскому языку несвойствен. Ни одного живого русского сонета нет, ни у Пушкина, ни у кого. Я сам написал венок сонетов, но я преобразовал, у меня это особая поэма. Но знать все эти формы необходимо, их тысячи, они, может быть, никогда и не пригодятся на практике, но раз любишь это дело, то и захочешь их все знать. Можно и не знать, но это хуже. Весь советский период литературы и есть это пренебрежительное незнание огромного разнообразия уже существующих форм. Это невежество. И что получилось: долбили, как дятлы, один размер. Жуткая убогость и фельетонизм: все эти Твардовские, Симоновы и поздний Заболоцкий, и поздний Пастернак. Уткнулись в одну тему, одну форму – это ли не убожество. Знать не значит специально изучать, то есть зубрежка, усилие воли, цель, а не живой интерес.
Как только ставится цель: досконально узнать все о том и о том, а любви к этому нет – это заведомо гиблое дело. В памяти остается только то, что живо интересует, что полюбилось. Только это и усваивается. А стремиться – тупость. Стремятся только тупицы. До советского периода поэты и писатели обладали высокой культурой и знаниями. А советские – это же имитаторы. Платон писал в «Государстве»: изгнать имитаторов. Не поэтов, а имитаторов, он о них говорил. Да что! Раскрой Мандельштама, его статья «Армия поэтов» – то же самое. Для чего писали в советское время? Для чинов, для денег. И вся советская литература – это фельетон. Нет напряженности.
Возьми Солженицына, первая его книга «Один день Ивана Денисовича» – это его единственная живая, настоящая книга. Это гениальная книга. Потому что сделана она чисто художественно. Там все завуалировано, а иначе как бы тогда напечатали. Вроде бы ничего страшного там не происходит, никого не пытают, не расстреливают, все вроде бы не так и плохо. Такой вывод. А напряжение в книге жуткое. И это контрастирует и говорит совсем о другом. А потом у него пошли толстые тома бездарной писанины. Почему? Потому что он весь выложился в одной книге. Весь сразу исчерпался. И больше писать ему было не о чем. А слава манит, власть, деньги. И он для всего этого и написал свои пустые и скучные томищи. Бывает и так. Всего одна книжечка. У многих писателей так.
У Алексея Толстого тоже есть настоящая, живая проза, первая его книжка, куда лучше Бунина, – «Хромой барин». А потом сколько бездарного дерьма, роман на романе, эти его «Петр Первый», «Хождение по мукам». У Помяловского «Очерки бурсы» – какая напряженная книга! У Ершова – «Конек-Горбунок». Мальчишка, семнадцать лет, в Сибири написал. Яркая, живая сказочка. А потом всю жизнь – тома скучнейших стихов. Приписывают теперь его «Конька-горбунка» Пушкину. Но это же смешно. Видно невооруженным глазом, что стиль другой, непушкинский, ни раннего, ни позднего Пушкина, никакого. Под влиянием – да. Но совсем другое.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































