Текст книги "Прогулки с Соснорой"
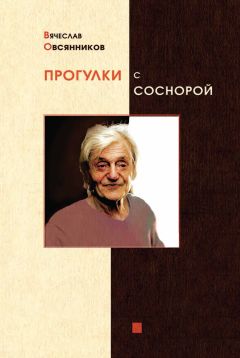
Автор книги: Вячеслав Овсянников
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Глухота меня изменила, все мое восприятие мира изменилось. От глухоты открылась музыка, память звуков. Обострилось восприятие музыкальное. Ведь Бетховен лучшие свои вещи написал глухим. У меня музыкальны и последние стихи, и книги прозы, начиная с «Дома дней». Эту музыкальную линию никто у меня так и не увидел и не понял. Только Пикач. Да, эта статья Пикача. Видно, что он любит это, но подводит логику. Впрочем, это грех всех литературоведов и критиков. А, так это ты и имел в виду? Что же, значит, и Бахтин и Шкловский тоже подводили логику под музыку? Да, ты прав. Ну, конечно. Ведь и структурализм Якобсона отсюда. Да, разумеется. Может быть, у тебя и есть чувство музыки. Я не отрицаю. Ты вообще для меня полная загадка, – сказал он с улыбкой.
Мы шли по лесной тропинке, под ногами поскрипывал сырой снег. Закурив, он сказал:
– Видишь ли, это все злополучная идея красоты. Структурализм, конструктивизм. Ведь что такое этот супрематизм Малевича – геометрические фигуры. Геометрия и сама по себе чрезвычайно красива. А если фигуры нарисованы рукой гениального художника – это уже во сто крат ценнее, это и потрясает. В свое время меня поражала сверхтехника Филонова. Это уже что-то нечеловеческое. Второго такого по технике в мире нет. Техника недостижимая. Как это он мог составлять такой колоссальный калейдоскоп из миллиона мазков, наглядных, а не скрытых. И ни одной ошибки, ни одного сбива. Да нет, второй такой – Леонардо. Вот только они двое по этой сверхтехнике. У Леонардо срабатывала интуиция: не доводить картину до конца, что-нибудь, хоть кусочек, оставлять недорисованным. Ведь у него все картины незакончены. А если бы вся картина, полностью, до микрона была бы нарисована в такой сверхтехнике? Ужас! Это было бы какое-то сверхматематическое совершенство.
Видишь ли, тут неприложимы определения. Назовем это: стремление к недостижимому и непостижимому, когда есть люди с таким стремлением. Но в мире ведь нет ни одного идеального произведения. Нет, уровень техники у китайской живописи не тот. У них ведь не подробности, им это неприсуще. У них другое. У них это самое дуэнде. Посмотри, как сделан портрет Ли Бо – как жестко, с какой жуткой энергией, одним духом, молния! У Леонардо тоже есть это дуэнде в рисунках, и посильнее есть. Этот его рисунок с кустом – какие-то безумные спирали. Видно, с какой яростью делал, тоже – молниеносно. Достичь этого состояния дуэнде – и сколько проживешь в таком состоянии? Год? Большие художники часто его достигали. Бывало и у маленьких, на миг, на искорку. У Пушкина эта музыка, это дуэнде – одно только стихотворение. Там ведь слова ничего не значат, там звучание этих повторов: «мутно небо, ночь мутна…». Или, «Книга перемен» – там же нет логики, ее смысл в музыкальности. Она на музыке. Понял ты это?
Монолог Гамлета, это его пресловутое «быть или не быть». Такой расслабленный перевод. В этой подаче Гамлет – толстый увалень, дурак, пошло философствующий. В оригинале же – самая жесткая ирония, энергия, парадоксы, многозначность. Этот человек знал, что хотел. Ему надо было отомстить, убить убийцу своего отца. Он и шел к этой цели, не останавливаясь, не задерживаясь и не колеблясь, неумолимо и беспощадно. Пьеса эта чрезвычайно многозначна. Но главная ее мысль – человеческое достоинство, что нельзя безнаказанно унижать человека. Таков был кодекс древних народов. Современные его утратили, современный человек потерял свое достоинство и не защищает его. Религия христианства, ее главный принцип и есть отказ от собственного достоинства. Чего у самого Христа, то есть такого отказа, не было. Да, Библия к человеку беспощадна, чтобы он был силен и надеялся только на себя.
Дойдя до деревни, повернули обратно. Наступили сумерки.
– Я вот что заметил, – сказал он, – внешняя моя жизнь шла вне моего сознания, сама по себе. Все крутилось само собой. Я никогда не ставил цели устроиться в жизни. Рано стал известен, и колесо закрутилось. Все делалось бессознательно, по внутренней потребности. И женщины. И книги так писались. Да, весь результат от жизни – остались книги. А где сама жизнь? Что-то вроде идиота. Идиот и есть. Не один я, конечно. В России было еще два таких идиота: Блок и Хлебников. Да, весь в себе. И тот и другой. Ничего для внешнего мира. Менделеева же так и писала о Блоке: «Он же идиот, в жизни он ни на что не способен». Практичная была, очень даже.
Когда мы вернулись домой, там его ждал гость, старый друг, вулканолог с Курил, Генрих. Знаменитый в свое время человек, оказывается, это он запускал луноход на луну.
25 февраля 2000 года. Гуляли, мороз, солнце.
– Этот год будет для меня тяжелый, – сказал он. – Я – девятка. А этот год с тремя нулями – гибель для всех девяток.
Правит Сириус, влияние этой звезды только вредоносное, она сама девятка и бьет своих. Девять – высшее число в космосе. Единственно истинное магическое число. Много чисел названо магическими, но все это выдумано, фальшивка. Только девять непререкаемо. Девять – высшее число у всех древних народов. Китай, Вавилон, Египет, ацтеки. Девять означает высшую энергию. Энергию высшего типа. Это все в комплексе: включает и интуицию. Девятки не могут брать энергию, а только отдавать. Вот их беда. Не могут брать по двум причинам: во-первых, энергия мира по типу ниже их собственной, во-вторых, у них нет устройства, чтобы принимать энергию. Все остальные и отдают и берут. Большинство. А девятки только отдают. Разумеется, их мало. Но они во всем – от бога до микроба. И среди микробов свои девятки, свой высший тип. Да, это высшие гении. Как среди людей, так и во всей природе. У девяток и отношение к миру совсем другое, чем у прочих. Они не принимают мир как дар. Наоборот: это они – дар миру. Они миру подарены. Пушкин был полная девятка. У Гоголя и Эдгара По девятка. У Моцарта. У Хлебникова. У всех гениев она есть, так или иначе. Я эту свою числовую теорию говорил одному крупному математику. Тот не возражал. Математики, высшие математики – те же поэты. И у них – фантазия, интуиция.
Все открытия – это воспоминания древнего знания, прорыв интуицией в память космического высшего знания. Тут все в одном сходится: это и фантазия, это и интуиция, это и импульсивность. Девятки обладают феноменальной памятью. И они же часто теряют память. Гельдерлин, потеряв память, написал лучшие загадочные свои стихи. До сих пор не могут разгадать. Да, потеря памяти обострила в нем нечто.
Да, японцы – это как другая планета. Полная загадка. Один из братьев Стругацких, ориенталист, знал японский язык. Это личность! Сухой, сжатый. Страшный, острый ум: мгновенно на все реагирует, мгновенно все парирует. Он-то и написал те резкие куски в их книгах, внес в их книги этот сильный дух. А другой Стругацкий – так, обыкновенно, его часть – эстрадные сцены. А тому – безразлично, он литературу и не ставил во что-то там. Я сам такой, я тоже не ставлю. И Пушкин не ставил. И потом – это же беллетристика. Это не проза. Беллетристика, то есть – литера, литература. То есть – содержательность, информативность, занятность, облегченное повествование. Дюма – чистейший беллетрист. У него же и стиля нет. Большинство книг он, наверное, и не сам писал, а нанимал, чтобы писали за него. Он только давал схемы. Как мастерская художника или цех, где работают подмастерья. А иначе как бы он успел при его образе жизни столько томов накатать?
Древние беллетристики не знали, вообще не понимали, что это такое. И Ксенофонт, и «Дафнис и Хлоя» Лонга – это же и не романы. Это поэмы. Проза – это поэмы. Собственно, те же стихи. Фрески Помпеи – реализм. Реализм и есть беллетристика. В живописи – это рассказы в картинках. В литературе – это занимательность. В прозе занимательность никак не может получиться. Проза принципиально незанимательна. Гоголь, что в нем занимательного? У него живопись фраз и увлекательность написанного для того, кто это любит и этим увлекается. А многие ли любят и читают Гоголя? Единицы. А девяносто девять и девять десятых процента любят и читают беллетристику, а не прозу. В России беллетристика появилась в девятнадцатом веке. Во Франции – в шестнадцатом. Французы вообще очень много пишут. Их традиция. Во Вьетнаме до сих пор пишут романы в стихах типа Андрея Белого и ни о какой беллетристике не знают. У японцев ее почти нет. Ранний Рюноске – чистая проза. Это он под конец скатился. А Кавабата – тот же Гоголь.
Дорога широкая, хорошо утоптанная, солнце слева. Большая черная собака залаяла на него у него за спиной. Он не слышал, продолжал говорить:
– Да, письма Дельвига – чистая проза. Фразы чисто сделаны. Сжато, изящно. Так они писали письма – как прозу. И письма Пушкина. И Батюшкова – и письма и проза. Проза Батюшкова – лучшая проза того времени. Но все они не знали – о чем писать. В России не было и нет декораций. В этой стране нет жизни, ничего не происходит, ничего оригинального. Даже архитектуры нет. Появился Петербург – появилась и тема. Сразу и книг сколько с петербургской тематикой было написано. А с Москвой и ничего, собственно. В Европе, во Франции – какие могучие декорации! Здесь, ну, Кавказ, война. А как написать об этом на русском? Марлинский – беллетрист. Пушкинская проза – тоже беллетристика. Только в «Пиковой даме» немножко, там за счет темы. А имена все нерусские. Первая русская проза – Лермонтов. Гоголь – у того украинские корни. Украина дала ему декорации. Но и Гоголю надо было фантазировать, то есть создавать свои декорации. Чего стоят одни только эти его выдуманные дикие фамилии. Всем большим русским писателям надо было фантазировать, чтобы восполнить отсутствие декораций русской действительности. Да, и Платонов тоже. И у меня в «Дне Зверя» эти фантастические фамилии – чтобы создать этот странный колорит. Да, русская проза в этом смысле вся фантастична. Я заболтался. Ты провокатор: провоцируешь меня на эти болтливые речи. О чем ни заговори – вполне можно и не говорить.
Генрих, которого ты видел у меня прошлый раз, вулканолог, – о, это героический Генрих! О нем много писали в газетах в советское время. Это он послал луноход на Луну. И его же обвинили в растрате: слишком много денег потратил. Разжаловали, сняли с академиков. Работал восемь лет простым кочегаром на Сахалине. В перестройку все ему вернули и восстановили в академиках. И он тоже устал от жизни. Он, всегда такой железный! Ошеломительное признание.
Да, весь мир – мусор. А чистое знание древних только у единиц сохраняется. Современное знание замусорено, загромождено свалкой пустой и фальшивой информации. Вот, солнце заходит, и меня уже начинает качать из стороны в сторону. Можно подумать, что пьяный. Это расстройство вестибулярного аппарата, потеря координации. А что ночью в темноте будет? Вот я и не могу один ходить в темноте, без поводыря.
3 марта 2000 года.
– Ты такой же придурок, как и я, – сказал он, впустив меня в квартиру, – приходишь точно минута в минуту. Гулять водишь. Да, водишь меня гулять. Я один уже не могу выходить на дальние прогулки.
Вышли на улицу. Он сказал:
– Если ты читаешь Кавабату, значит, ты и мою «Книгу пустот» должен понимать. В этой моей книге совершенно новый метод. В русской литературе ничего подобного до меня не было. Никаких конструкций, сюжетики. А все сливается в жесткое целое. Да, органика. А в «Дне Зверя» конструкции есть. Там без них и нельзя бы.
На чем бы держалось? Там ведь сюжет есть. Но это конструкции противоположного типа, чем у Андрея Белого. Ведь такой книги, как «День Зверя», в русской литературе тоже не было. Тоже открытие. А в том, что эта книга создана из разных стилей. Принципиально разностильна. Так и писалась: один кусок такой, другой – иначе. Свободно, само собой, не думая о единстве стиля и жесткой линии. А целое, тем не менее, сложилось и все встало на свои места абсолютно точно. Да, тогда у меня голова работала, как компьютер. Это была еще та машина! Какая быстрота! Интуитивные решения. Да ну, не хватало еще мне говорить о своем, о своих книгах.
Единый жесткий стиль – это тупость. Считают, что иначе и не может быть в литературе. В живописи, в картине – да, не может быть иначе. Картину не нарисовать вне единого стиля. Книга – другое дело. А у Андрея Белого всю жизнь – только один стиль. Канон его стиля. И это делает всю его прозу мертвой, эту его ритмизованную прозу. То же и Флобер: во что бы то ни стало добиться стиля, который он сам для себя возвел в канон, с великими усилиями, преодолевая великие трудности. А потому и трудности, что этот стиль не годится для этой темы. Тут уже нужно совсем другое. Но и Флобер в одной своей книге освободился. «Госпожа Бовари» написана и живо, и свободно. А сам Флобер, не понимая, эту-то книгу и проклинал. «Саламбо» – совсем закованный стиль. Красиво, конечно. Но это же из Гомера. Все-таки лучше самого Гомера почитать.
А возьми Гоголя, что ни книга – в новом стиле. «Петербургские повести» – стиль расслабленный, потому что надо рассказывать. А в украинских книгах он рисовал живые сцены, а не рассказывал. Да, и «Мертвые души», конечно – живопись. Там много из Гомера. «Тарас Бульба» особенно. А где бы он еще взял батальные сцены? Ведь он с войной был незнаком. Там еще и христианство. Ведь Тарас на казни Остапа: «Батько, слышишь ли ты меня?» «Слышу, сынку!» Как молитва Христа в Гефсиманском саду. И потом – Тарас Бульба, распятый на кресте. Врет так же живописно, как Гоголь, так же роскошно.
Радищев – такой чудак. Справедливости искал. Такие обречены на погибель. Ищут справедливости, которой в мире нет и быть не может. В этом мире все друг друга жрут. И бабочке и кролику выбор: или они сожрут, или их. Единственно, кого стараются не жрать – талантливых. Талантливых оберегают: это как бы их оправдание в мире, тех, кто жрет. Хотя, есть, конечно, и бескорыстное восхищение. Ну, Сковорода, он же очень живой, он, бывает, такую чепуху лепит!
«Кармен» у Мериме как раз самая слабая новелла. И рыхлая, и незакончена. Отчего она так прославилась? Наверное, из-за цыганской темы. Так в мире чаще всего и бывает: становятся прославленными самые слабые вещи. А сильные остаются в тени. Много ли кто читает Рабле?
Я ведь ходил к Джуне. Нужен был совет. Она мне сказала: «Вы сам экстрасенс, и посильнее всех экстрасенсов». То есть энергетик. Человек, только отдающий энергию. И никогда не берущий. Не может не отдавать. Даже себе на погибель. Таков он родился, с этим. Это его потребность – отдавать. А подавляющее большинство – только берут энергию. Везде, где только найдут. Хоть немного, хоть много, хоть что-нибудь. Да, инертны. Значит, потребность только поглощать, забирать энергию. Есть и такие энергетики, что захватывают человека целиком. Захватчики. Так Вагнер захватил Людвига Баварского. Обокрал все Баварское королевство. И Людвига держал полностью в своей власти. Психически. И до самоубийства довел. Впрочем, скорее всего, это было убийство. Я хотел об этой истории написать, и у меня есть много подробностей. Но зачем? Я не просветитель. Это не моя тема. Пусть другие пишут.
Вот как нас отбирали, чтобы послать в Тибет учиться борьбе кунфу: быстрота реакции, импульсивность, внимание к мелочам. У меня это врожденные способности. Да, таковы и мои стихи, и моя проза. Эта моя быстрота фантазии. И голос очень важен в этой борьбе, еще важнее, чем тело. Ведь можно побеждать одним только голосом. Знать вибрации. У меня особый бас-баритон. Победная песнь дракона. Два главных принципа кунфу: отсутствие зла к противнику, никакой злобы. Тогда будет полный самоконтроль и ориентация. Только бой и победа. Вот вся цель. Это первое. Второе: люди не представляют никакой опасности. Да, быстрый, как Чаплин.
10 марта 2000 года. Сегодня в третьем часу навестил его в больнице Бехтерева. Солнечный день, желтые больничные корпуса, пятое отделение, восьмая палата. Он стоял в коридоре, на нем полосатый халат, красные шаровары, небрит, седая грива. Увидев меня, обрадовался:
– А, ты! Яблоки твои мне не нужны. Идем в палату. Я лягу.
Он лежал на койке, я сидел на стуле перед ним. Он вскакивал, опять ложился.
– Крутит меня, – сказал он. – И голова туманная. Здесь мой «Остров Целебес». Эта моя книга о великих мировых алкоголиках не состоялась. Материал весь уже был собран, из книг. Собственно, книга была готова. Сжег. Почему? Видишь ли, есть так называемая этика. Так это принято называть. Да хотя бы это называлось… Какая разница. Не в названии дело. Но эти люди для меня святы. Если посмеяться и назвать их мне равными… Александр Македонский, Христос, Магомет, Сократ. Касаться их для меня запрет. Все они были алкоголики. Но это святые. Потому что эта жизнь для них была невозможна – вот их алкоголизм. Святые не те, что чистенькие, без греха. Это мертвецы. Нет, святые со всей грязью, живые люди. Эта книга дала бы мне мировую славу, деньги. Но зачем?.. Не разговор. Вот, видишь, лежит перед тобой герой нашего времени.
Вот, почитай интервью обо мне в газете. Пишут: самая загадочная фигура в нашей современной литературе. Да, потому и загадочная, что не читали ни одной моей строчки. Не понимают мои книги. А что там не понимать? Написано ясно и просто. Проще простого. Чистым русским языком. Художественная индивидуальность. Кто ж поймет? Мой мир, мой и язык. А все же… Живопись – другое, она интернациональна. У многих есть чувство цвета, глаза развиты, любят краски. Особенно женщины. Да, сжег и философскую книгу. Семьсот страниц. И больше того: и книгу писем сжег. А там за тысячу страниц было. Ответы на вопросы журналистов в разные европейские журналы. Да, это была бы книга отличных статей. Но – все это уже когда-то где-то кем-то говорилось. Знаешь, ведь писать надо только то, чего еще не было. Конечно, часто бывает, что темы и книги большими писателями переписываются заново. То есть – перефантазируются. Так, «Гамлет» до Шекспира семь раз писался для сцены разными драматургами. А Шекспир видит, что они за ахинею лепят. Невозможно смотреть. И написал свою версию. Но не хватало еще и статьи перефантазировать. Сжег и ничуть не жалею. Все это дело наживное. Буду жив, будет сила – появится новое, еще лучше, еще сильнее.
Да, Библией я жил много лет. Надоело. Религия. Да ну. К тому же шестой перевод, шесть языков: с древнееврейского – на арамейский – на греческий – на новогреческий – на болгарский или церковнославянский – на русский. Сейчас бы в лесу гуляли. Погодка-то! Все у меня так катастрофически сложилось. Последние дни еле держался. Ты же видел. Ничего я не помню.
14 марта 2000 года. Он вернулся из больницы. Сообщил мне:
– Все-таки я получил первую премию Аполлона Григорьева. Двадцать пять тысяч долларов. Во всех газетах звон об этом. Зря ликуешь. Половина уйдет на налоги и пожертвования. Так уж я устроен: чем хуже жизнь, тем сильнее мне пишется, а когда является что-то хорошее – никакой радости. Я уже и работать не могу, сижу часами за машинкой и – ни строчки. Я теперь смотрю на свою жизнь не иначе как на пропащую. Вот она, старость, и разговоры эти старческие. Безумие это полное расстройство мозга. Воображают себя женщиной, Наполеоном, змеей. Нет, писать в безумии невозможно. Гаршин писал только в перерывах. Многих излечивает инсулин. Это не настоящие сумасшедшие. Настоящие – постоянно в жутком напряжении и бредовые фантазии.
Мы вышли на улицу. Мокрая метель. Дойдя до угла, спустились в подвальчик. Пьем чай за столиком, друг напротив друга. Он стал говорить на интересующую меня тему:
– Нет, это не то что способность. Это высшие состояния. Эти состояния я знал и у совсем простых людей, никакие не поэты, никто. Например, меня потрясло, как десантники выбрасывались на парашютах на бреющем полете с высоты триста метров. Малейшее неверное движение, неточность и – смерть. Парашют едва успевает раскрыться. Это, знаешь ли!.. Я столько всякого повидал в жизни, что нет ничего такого, что еще могло бы меня потрясать. Но это потрясло. Состояния эти очень редки, даже и у гениев не так уж часто. У поэтов – нет, не часто. У Пушкина – два-три стихотворения. «Я помню чудное мгновенье» – оно же все звенит! Звенящее! А слова – пустяк, ничего не значат.
Нет, смысл-то не ерунда. А ерунда – прямой, поверхностный смысл слов. Но за этим смыслом ведь стоит второй, третий. Вот те и звенят. Да, так все и читают: поверхностный смысл слов. Девяносто девять и девять десятых процента. Беллетристику. А писать беллетристику вообще нельзя. Потому что там этих состояний быть не может. Моя книга «Властители и судьбы», конечно, беллетристика. Что же еще. Да и вообще при записи это состояние пропадает. У непоэтов.
Нет, у меня это состояние при записи не теряется. Нет, и не ослабляется. Состояние идентично записи. Не напрямую, а могут быть самые разные варианты. У меня стихи, написанные в этом состоянии, – процентов тридцать. Если это можно назвать писаниной. Деятельностью. Разве для славы, для потомков, для денег? Смешно. Для испытания самого себя. Для полного раскрытия себя, своих сил, сделать невозможное, как казалось бы. Часто это кончается смертью. Сверхнапряжения. Высшая реализация себя.
Почему же? Это состояние может быть и в статьях. Много вариантов. Это же словесность. Чтобы была словесность – нужно многообразие. И так, и так. Чтобы это высшее было не в одном только виде стиха, скажем. Это же речь. А речь влияет на весь организм. Речь может весь организм изменить, перестроить. Высшего качества речь делает и организм соответственно таким. Так устроено в мире.
Статья Белинского о Гоголе – самая сильная статья в русской литературе. А ведь никакого понимания о гении Гоголя. Все равно как громы парторга. Тем не менее могучая статья. Или – моя статья о сивиллизме. Мне нужно было для самого себя раскрыть смысл этого явления. В мире смысл этого раскрыт еще не был. Вот я и написал. В живописи это состояние редко, очень редко. Ну, музыка-то сама по себе и есть это состояние. Недаром у древних музыка была первым из искусств, на первом месте. У Гете этого почти нет. Вот Бетховен над ним и смеялся. Он же маленького роста – Гете. У всех маленьких – гигантомания. Да, музыка и астрология сопряжены. Музыка и звезды. Мою последнюю книгу стихов я так и назвал: «Флейты и прозаизмы». Там есть стихи с флейтовой музыкальной линией, а есть как бы стихи в прозе, верлибры. Там есть место: линии на ладони совмещены с Луной. Именно линии.
Это состояние и у спортсменов. Спорт на этом стоит. Все рекорды. «Рекорды Гиннесса» – это же самая гениальная книга мира в нашем веке! Да всех веков! Там почти все гении. А как же! Посвятить всю жизнь, чтобы сделать свой особый рекорд. Проявить сверхвозможности. Скажем, выпить двести бочек пива. Это какой могучий надо иметь дух! Я всегда говорил, что поэт, поэтический гений – это только малая доля, частичка в мире гениальных явлений. Жизнь громадна, проявления ее многообразны, гениальные явления жизни во всем. Это жизнь и есть. Древние греки правильно дали определение гения: крылатый. И вот этот крылатый взлетает, а там и музыка и все! Это состояние и есть – полет, крылатость. Получается – миллионы гениев, во всем, и там, и там, и сами не подозревают, что вот сейчас они гениальны, сейчас у них – полет, крылья.
Ну, Державин – учитель, громокипящий кубок, орган. У него эти состояния тоже, но больше в живописи. У него это не тонко, не флейтово. Да, Нижинский. Видел я Нижинского в видеозаписи, на пленке. Вот второе мое потрясение в жизни! Это не танец, это не прыжки. Это – бог летит! Даже эти его шажки перед прыжком – божественно! После этого Нуриева смотреть невозможно, всего лишь высшая техника. Это лишь великие мастера, а там – бог летит. Потрясение. Не было ему равных, и долго еще не будет. Может быть, никогда. Один такой рождается за всю историю. Таков Рембрандт после Рембрандта, сам после себя, начиная с «Ночного дозора». Таков и Гойя после Гойи.
Мы побывали в трех местах, везде он пил крепчайший чай, и теперь ему стало плохо с сердцем.
– Получил свое, – сказал он. – Но иначе и гулять бы не смог.
В лесу на дороге сырой снег. Навстречу нам лошадка дрова везет.
– Посмотри! – сказал он, остановясь и показывая на идеально гладкий, отливающий изумрудом, изогнутый грациозно ствол, – какая красивая осина!
По поводу предыдущего разговора мне пришли на ум два стихотворения: Тютчева – «О небо, если бы хоть раз сей пламень развился по воле…» и Анненского – «О дай мне только миг, но в жизни, не во сне, чтоб мог я стать огнем или сгореть в огне». Он ответил на это с саркастической усмешкой:
– Да, потому и просили, что у них этого ничего не было. Ни строчки. Не были способны на это. Их-то строчки только смысловые. Зачем эти молитвы к небу? Надо огня, так бросались бы в Этну. А у Блока не было этих всхлипов. Он всегда был за экраном, у него все за его музыкальным строем. Единственный его провал – поэма «Возмездие». Это можно было бы написать просто прозой. И что на него нашло?
Я в книге «Флейты и прозаизмы» полностью реформировал рифму. Не знаю, как это назвать. Я бы и в Америке не ужился, как мне никогда не ужиться здесь. Как уживется орел с пчелами в одном небе? У меня душа прямая. Что говорить о мастерах. Я тоже – один из высших мастеров в мире, и кому я нужен? Гении у обыкновенных людей вызывают ужас или отвращение. Как было с Верленом? Грязный, пьяный, голодный погибал у себя на чердаке, на голой койке. Приходили почтить, выразить восхищение, а тут – нате! И это великий Верлен! Бежали, затыкая нос от смрада. Чистенькие. Тот же Уайльд. А потом и сам попал в переделку, в тюрьму и кандалы.
Жизнь. Жизнь поворачивается и так и так. От гениев лучше подальше.
22 марта 2000 года. Придя к нему, как обычно, в час дня, застал его в чрезвычайно тревожном и напряженном состоянии.
– У Нины значительное ухудшение, – сообщил он. – Может быть, поедет на лечение в Швейцарию. На меня все это действует ужасно. Не сплю. Страх. Рассредоточенность. Работать невозможно. Отвести нервы в писанину, отвлечься. А с наступлением темноты – ужас! Тревога растет, и не знаю, куда себя деть. Забьюсь в угол у телевизора и смотрю. Нет, не фильмы, а иногда показывают китайскую борьбу. Это я смотрю с удовольствием: ритмично, изящно, быстро. Да, как бы мне не сорваться. То, что со мной происходит, может кончиться сумасшествием. Если называть мое здоровье Римской империей, то эта великая Римская империя теперь разгромлена наголову. Начался разгром в Тарту на том операционном столе.
Гуляли в лесу, сыро, темно, вьются мокрые хлопья. Он продолжал говорить:
– Распад, агония. Как это Гельдерлин написал свое лучшее при распаде психики? И написал же Нижинский, будучи сумасшедшим, свое «Послание к человечеству». Лучше бы он это не писал. Боец не должен раскрываться. А он раскрылся. Речи, речи. Этот беспрерывный поток речей. Это от глухоты. До сорока лет, до операций, я почти ничего не говорил. Молчал, только слушал. Была железная психика. Не знал, что такое усталость, просто-напросто не понимал – о чем речь. Мог работать за столом по шестнадцать часов, месяцы, с небольшим перерывом для сна. Так писал «День Зверя». Да, богом мой организм был задуман могучим. Задуман, но не осуществлен. Разрушен. Им же. И всегда я один. Как только появляется человек, меня любящий, Тот, сверху, его тут же убивает. Тот ревнив. Убивает всех вокруг меня, а меня тащит в дыру, дальше и дальше. Скоро уж дотащит. И кто ко мне всегда тянулся? Только самоубийцы и обреченные. То есть – подобные мне.
Всю жизнь отвращение к детям и семье. Даже если только вдвоем. Наверное, оттого, что у меня самого детство было ужасное, и семья – тоже. Теперь каждую ночь снятся кошмары на темы войны и армейской службы. И страх, страх! Все реальные события чудовищно преувеличены, как это бывает во сне. Это голова ищет страха во всем. Да, я всю жизнь прожил в ужасном напряжении. Каждая написанная мной книга – напряжение чрезвычайное. И вот результат. Развалина. Это с виду я не таков, лицо без морщин, такая порода. А внутри – полный развал. Асеев писал мне в письме: «Зачем Вы так чрезмерно напрягаете мускулы в подвале?» Я тогда не понимал. Теперь понял. Нужно расслабляться время от времени. Я не мог. Так устроен.
Чистая психика была у Платона. У Лао-цзы. А чаще – психопаты. Эмпедокл бросился в Этну. Психопатия. Да, у Гельдерлина при этом его распаде психики – какая-то высшая свобода. И такие стихи. Но в мировой литературе это единственный такой случай. Книги, книги. Если бы какое-то удовлетворение. А то кончил книгу и – никакой радости. Наоборот – жуткая тоска. Наверное, так у всех мне подобных. Магия ведь всегда с наркотиками. В разных странах свои наркотики. В Китае делали порошок из пяти камней и пили. Неоплатоники все занимались магией. Но магия древних – это совсем другое. «Книга перемен» – это же мантика. А ее толкуют как искусство. В корне неверно. Ну, вот, хоть немного успокоился к концу прогулки, и солнце вышло, светло!
31 марта 2000 года. Выпили чая и пошли гулять. День яркий. Он надел очки от солнца. Стал говорить о живописи:
– В Древнем Китае традиция: копировать старых мастеров. Так и в Европе. Сезанн регулярно приезжал в Париж (а путь от его дома немалый) копировать в Лувре Веласкеса. Веласкес совсем не то, что эти пышно-красочные художники. У него живопись мягкая такая, прозрачная, мистическая. А импрессионисты – пышные эти полотна, этот кисель! Терпеть не могу! Сезанн – другое. Он же, собственно, скульптор. Да, яблоки. У него везде скульптурность. А кисель этот начался с Рафаэля. С Рафаэля этот красочный кисель и потек по Европе. Эти потоки красоты. А фрески Помпеи – еще раньше. Реализм – романтизм. Копирование природы. Да ну. Неинтересно мне теперь ничего в живописи. Ничего нет для меня нового. Не вижу. Что же ты хочешь. Я слишком напряженно жил всем этим столько лет. При такой одержимости в моем возрасте естественно прийти к исчерпанности интереса. Устал. Слишком напрягал мускулы в подвале, как выразился Асеев.
Готовлю к публикации письма Лили Брик – ко мне. В свои книги никогда не заглядываю. Скука. Закончил книгу – никакого упоения. Наоборот: тоска. Отбросить ее подальше и не вспоминать. Скорей – новую писать, следующую. А теперь и новую не хочется. Обо мне пишут в газетной статье: «Он писал «День Зверя» с упоением и с самоуничтожением». Не понимают, что это несовместимо. Или одно, или другое. Никогда у меня не было упоения. Только – самоуничтожение. Упоение, это, знаешь, у Битова, у Кушнера. Вот уж Кушнер-то упоен своим творчеством, видно в каждой строчке. Нет, Михнов не дошел до того, чтобы потерять интерес к живописи. Его одержимость колоссальна. Но он ведь рано умер. Не успел устать. Пятьдесят это еще не возраст. Грицюк еще раньше. Видно, сумасшествие. Других причин нет. Жил он вполне благополучно у себя в Новосибирске, обеспечен, с женой нормально, весь Новосибирск его любил. Добрейший человек. Он тысяча девятьсот двадцать шестого года. Что живопись. С тех пор как Колабушкин показал мне рисунки на камнях, обкатанных морем, я уж стал терять интерес. На тех камешках есть все стили европейской живописи.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































