Текст книги "Прогулки с Соснорой"
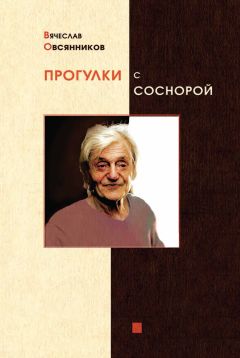
Автор книги: Вячеслав Овсянников
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
27 марта 1998 года. Мы гуляем в лесу, талый снег.
– Ты что-нибудь понимаешь в Айги? – спрашивает он. – А я вот не понимаю. Ну так и что же ты о нем думаешь? Отношения между словами, символизм? Вот именно. Согласен. То есть: филология и абстракции. Да, он примитив по сравнению со мной. Все символисты были далеки от жизни. Один Блок из них окунулся в жизнь. Стихам нужна конкретика, звукопись, ритм. Без этого нет стиха. Нужна жизнь, живые, конкретные ритмы и звукопись. Ничего этого у Айги нет. Абстракции. Так могут писать стихи все, кто угодно. Ребенок, старуха, солдат. Так можно сочинять стихи на компьютере. Это все с Запада. Там теперь все так пишут. Вначале, в шестидесятые годы это у Айги звучало ново. Единственный такой безумец в стране. Но писать и писать в одном и том же духе скука. А его теперь раздувают в великого поэта.
Блок тоже примитивен. Что у него за рифмы? Ушла, пришла, подошла, отошла. Или еще он любил рифмовать: кровь, любовь, вновь. Да, у Достоевского стиль журналистский. То есть – нулевой. Стиля нет. Он не прозаик, он беллетрист. Его даже называли: желтая пресса. Он – гениальный импровизатор. Да, как видишь, в литературе бывает всякое. Вот и так бывает. Что толку, что Флобер гений стиля. А Достоевский в литературе оказался впереди него и впереди многих и многих. Потому что, как ты называешь – колоссальный нерв. Да, можно это и так назвать. Что у Флобера в итоге? Только «Мадам Бовари».
Ты вот помнишь, что прочитал. А я уже не могу вспомнить. Старость налицо.
Я всю жизнь держал собак. В Эстонии на хуторе ко мне приходили ежики. Семья: папаша, мамаша и сынок. Мы подружились, я их подкармливал. Молоко из блюдечка хлебали за милую душу. Потом все трое в ряд, вся семейка, мал мала меньше, сидели на холме и созерцали закат. Мистики! В лесу ведь столько перемен каждый день. Можно было бы написать целую удивительную книгу. А в городе – какие перемены? Скука, однообразие, тут писать не о чем.
Перечитываю Кобо Абэ «Женщина в песках». Пустяки. Реализм по-японски. Подумаешь, ямы в песке рыть. Я был на торфяных заготовках во время солдатской службы. Вот где ужас! Жизнь фантастичней любой выдумки. Мне больше нравится его «Стена». Там отношения с женщиной. Интересно. У нее кости расширяются и исчезают. Тело превращается в этакую протоплазму. Это его, Кобо Абэ, потеря интереса к жизни. У таких, как он, начинается с потери интереса к женщине. Он же был бабник и много пил. Отказался от всего, отдал все состояние жене и дочери, ушел в самый нищий квартал Токио, квартал красных фонарей, то есть самых нищих проституток, и там сгорел за два года.
17 апреля 1998 года. Принес ему мою недавно изданную новую книгу «Дни с Л.». Ему не понравилось оформление книги:
– Митьков не люблю. Это не художники. Самореклама. Для денег.
На стене у него я увидел прикрепленный лист с удивительной акварелью. Яркая, фантастическая импровизация.
– Вот, попробовал так рисовать, – сказал он. – Назвал «Бычок в огне». Мне подарили краски, вот я и решил испытать себя в этом методе. Акварелью еще труднее, чем тушью и гуашью. Сохнет мгновенно и работать надо мгновенно. Напряжение жуткое. Ну к черту. Такой работы больше двух недель не выдержать. Сдохнуть можно. И бессмысленно. Может получиться что-то, может и нет. В цвете у меня нет открытия и я тут не вижу для себя пути. Цветовые сочетания исчерпаемы, у цвета свои ограничения и жесткие правила, иначе – хаос, мазня. А в черно-белом у меня, действительно, открытия. Я живу в этом. Так никто не сможет нарисовать. В такой манере. Это метод таких импровизаций. Были импровизации – одна, несколько картин. Но не на целую стену – как у меня.
Он оделся и мы пошли гулять. В лесу он продолжил разговор:
– В рисовании у меня призвания нет. Я не горю этим. Писательство – другое дело. Да, там тоже импровизации. Но там еще и самый жесткий коллаж этих импровизаций. Ведь вначале это только перемешанный хаотический набор каких-то кусочков. Нужно найти такое сочетание, чтобы казалось как сделанное естественно, словно органично вылилось, одним духом. Работа жуткая, но всегда было интересно. Это и есть психологический коллаж: чтобы казалось написанным одним махом. Коллаж теоретически обосновал Шкловский. Он открыватель этого явления. Оно из кино.
Я не могу писать ничего занимательного. Я – концентрат. Скоро брошу и писанину. Не о чем писать. Нет новых интересных декораций, обстановки, предметного мира. Без этого ничего не напишешь. Это не сочинишь, не выдумаешь. Нужна конкретика. Нет, не наблюдение, а живой контакт с предметами. Наблюдать можно сколько угодно, а будет мертво, ничего не возникнет. Мало у кого. Даже у великих. Стихи Лермонтова – одна риторика, высокопарная трескотня, никакого живого контакта с предметным миром. Ну, в юности один прорыв – «Парус». И в конце – «Выхожу один я на дорогу». Стихи – это же импульс, реакция на что-то конкретное, из жизни.
Да, ты самостоятелен. Но ты скован. Не знаю, может быть, в тебе что-то есть, но как этому развернуться, чтобы написалось свободно. Может быть, оттого, что нет чрезмерности. Свободы без чрезмерности не получается. Это энергия, переливающаяся через край. Видишь, у тебя много минусов: ты не пьешь, не гуляешь с девками. Пушкин написал все свои высшие стихи в деревне, зимой. Там у него были высшие порывы. «Буря мглою небо кроет…» Сколько тонкости, изящества, музыки, красок. И там же написаны «Бесы» – высшее у него. Чрезмерность во всем? Да нет. Только несколько вещей. «Бесы» – вот его единственная чрезмерность. Тут в одном стихотворении он высказал абсолютно все – и о себе, и о мире. В остальном же он был очень замкнут, всегда держался в рамках, и в жизни – тоже. Ну, в юности чуть-чуть побушевал – пьянки, дуэли, бабы.
Весь девятнадцатый век – потоки болтливых описаний, скучных, ненужных подробностей. Это и есть – реализм. Фотографирование. Забыли, как писали древние. Как написана Библия? Там описаний нет. Только действие. Лаконизм. «Он сел на осла и поехал». Все. Достаточно. Осел и так виден, зачем описывать, как он выглядел. Или – разве указан возраст Христа? Нет, ни в одном месте. А понятно – какой это был возраст. Ничего там не описывается, а все понятно. Почитай Евангелие, но только от Матфея и от Иоанна. Другие два не надо – написано бесталанно. Даже ювелирные описания Флобера в большом количестве – смертельная скука.
Ты читал этого современного гения, эту новую звезду в русской литературе, о котором шумят теперь все газеты и журналы? Этого на М. Не могу вспомнить. Да, Мелехов. Ну, думаю, посмотрим. Может быть, не зря шумят. Открываю одну книгу, листаю – ничего скучнее не брал в руки. Открываю другую: та же история. Называется «Жизнь с простатитом». Там герой только и делает, что ссыт по десять раз на каждой странице. Вот такой толстенный томище– целый поток мочи. Не понимаю я этих писателей и этих читателей. Мало ли у кого простатит или еще что. Подумаешь, какое несчастье – с бабами не может. Ну, несчастье, если не старик. Но зачем об этом писать? Разве это тема для литературы?
Кто жил в порядке, кто в беспорядке. Это на свободу не влияет. Я, например, в жизни люблю самый строгий порядок и всегда его соблюдал. Вот тебе пример: Гойя. Придворный художник, денди, очень собой гордился и своими картинами. Лощеный, и живопись такая же. А потом вдруг свихнулся. То есть как оглох, так и свихнулся. Запил, ходил в рванье, картины начал писать самые свободные, какие только могут быть. Ювелирная отделка, живопись самая виртуозная, тончайшая, изощреннейшая. Вот когда проявился его дендизм в картинах, а не в лощеный период, как, казалось бы, должно было быть. И при этом самая лютая ненависть к людям. Что тоже приятно.
Мунк беспорядочный, а Матисс любил во всем порядок. А кто крупнее? Таких художников, как Мунк, тысячи. Нет, тут нет правил. И так и так.
Да, у Кавабаты подробности. Но подробности эти чрезвычайно зримые, яркие. Диалоги, согласен, тривиальны. Но, может быть, виноват перевод. Зато у Диккенса диалоги самые блестящие. Видишь, что ни писатель, то – свои достоинства, особое дарование. Правил нет.
Диккенс, собственно, проститутка. Как и Достоевский, как и очень многие. Откровенно продавался, писал для читателей и только для них. Такова была дань времени. Но если отбросить его слюни, писатель-то получается блестящий, поразительный. Я никогда не пишу для читателя. Мне до него нет никакого дела. Пишу даже не для себя, а – для книги. Ей, книге, нужно, чтобы было написано это, и написано именно так, а не как-нибудь иначе. Опубликовать – долг перед книгой. А потом – не мое дело.
Да, сейчас не те академики. Вот прежние были! Найди книгу Наливкина: «Бури, вихри и землетрясения». И фамилия приятная. Это все веселые ребята, фантазеры. Да, и Чижевский, и Вернадский. Не то что нынешние. Лихачев этот. Ученый! В чем он ученый? В том, что стоял на страже у «Слова о полку Игореве» и никого к нему не подпускал, чтобы, не дай бог, не сказали то, что не положено. Сахар брал щипчиками. Ученый! Значит, о себе такого высокого мнения. Сколько ему сейчас? Девяносто семь? Он и еще столько же проживет.
Мы вернулись домой в восьмом часу вечера. Он пригласил меня поужинать. На первое щи с большим куском мяса, на второе лапша. Его жена вкусно готовит. После ужина он повел меня к себе в комнату, показал на толстую папку у него на столе:
– Видишь: листов семьсот. Полтора года работы. Работал для печки. Печкотрубная получилась книга. Хочешь, подарю авторство? Вот Толстой, скажем, этот ничего не сжигал. Дорожил каждой своей буквой. Для потомства, для величия. К чему он ни прикасался – все делалось великим. Одних дневников – горы. До сих пор прочитать не могут. Он даже написал в дневнике: все люди умирают. Но почему же и не может случиться исключения, чтобы какой-нибудь один человек оказался бессмертен? О себе. Смерти боялся. Так он себя любил. Футуристы на этот счет молодцы. У них было правило: не оставлять после себя черновиков. Никаких автобиографий, кроме как в книгах. Дневников никто из них не писал. Вот – книга, она говорит сама за себя. Что еще надо?
Самое лучшее, если ничего «там» нет. Отключился и все. На этом все кончилось. А вдруг окажется, что будешь тысячу лет чувствовать, как тебя черви грызут? Или еще какие-нибудь не менее восхитительные ощущения? Никто ж оттуда не возвращался. И куда возвращаться? Наследники сразу укокошат и отправят обратно – если богатый. А нищий – тоже, кому нужен лишний рот. Так что все правильно устроено. Рано думать о смерти, а вот что-то стал задумываться иногда.
В жизни животных есть какой-то большой смысл. Я три года наблюдаю свою кошку. У ее морды сотни выражений, постоянно меняющихся. И во всех наших делах она считает своим долгом принимать участие. Играем в карты, она тут же, смотрит, смотрит, наблюдает за игрой, потом вдруг – раз лапой, все карты – на пол. Или – разложу на диване рисунки для просушки, она взберется на стол и очень внимательно сверху их разглядывает. А когда кончу печатать на машинке и ляжем спать, она считает своей обязанностью выдрать из машинки ленту.
Я же тебе говорил: ничего я уже не могу читать и писать. Надоело. И письма писать – тоже, только по обязанности. И о литературе я меньше всего думаю. Литература вне поля моего сознания. И с тобой я о ней говорю в полутошнотворном состоянии. Это ты меня вынуждаешь, каждый раз пристаешь с ножом к горлу. Вот когда ты перестанешь думать о литературе, тогда и начнешь освобождаться. Так что не вздумай мне ко дню рождения книгу дарить. Уже купил? Какую? Гиппократа? Ну, это совсем другое дело. А Авиценны не видел? Как увидишь, тоже купи.
27 апреля 1998 года. Принес ему Гиппократа. Он доволен. Голова обрита наголо. Стол усеян листами с рисунками. Говорит мне, пренебрежительно махнув рукой:
– Ничего не получается, ерунда. Надо попробовать писать грязными красками. Но и это не открытие. Писали уже. Самое противное то, что все уже было, за что ни возьмись. Почему грязными? Потому что надоели яркие цвета. Мне вообще все быстро надоедает. Я и баб не мог вытерпеть больше недели. Менял постоянно. Такой уж уродился. Постоянство мне противно. И писанина надоела. Я ведь и писал только тогда, когда являлось что-то другое, новое – тогда загорался. Нет, рисовать еще не надоело. Но зима меня сильно ослабила. Голова мутная, не сосредоточиться, нет накала. Расслабленное состояние. А тут нужна чрезвычайная сосредоточенность и сила, горение. Ведь что в тебе есть, то и будет на бумаге. А что во мне есть после такой зимы?
У меня написано, если брать только актив, семьсот страниц в стихах и семьсот в прозе. А не актив нечего и брать. Скажем, мои исторические повести. Надо оставлять только то, что написано в высшем накале.
Ты знаешь, что нашли след, женский, древность – сто сорок пять тысяч лет? Нормальный след, судя по нему, женщина была ростом около ста шестидесяти сантиметров. Значит, и все остальное было, как у современных, как сейчас. Никто не знает, сколько было цивилизаций и в какой древности.
Сколько погибло. Сменится осевое вращение, или даже сдвинется ось и – конец. До нас же почти ничего не доходит. Кости гниют быстро, все превращается в прах. Разговоры о вечности – чепуха. Нет никакой вечности. Вот – то, что интересно в настоящий момент, чем живешь, эти рисунки, скажем – это только и есть. Больше ничего. Все рано или поздно уничтожается полностью.
Пошли гулять. Дорога сырая. Ручей бежит, буро-черный.
– Ты прочитал Плотина? – спросил он. – Я не смог. Скучища. Неоплатоники – последние противники христианства. Они о нем ни разу не упомянули даже, как будто оно и не существовало. Ужас этой религии в том, что она всех поставила на колени, всех сделала рабами. На коленях – перед кем? Перед этими мордатыми священниками, конечно. Не перед Тем, Тому – никакого дела до каких-то мошек. Он и не видит их. Да, догма. То есть кол в мозг, кол воображению, уничтожить его. А у человека самое интересное – это воображение. Способность сочинять. Жизнь ведь у всех однообразная, в конечном счете, серая. Ни одна религия не создавала такой абсолютной, жесточайшей, порабощающей догмы. То есть только так и никак иначе. Вон, посмотри у греков – какие веселые, человечные боги. Их сочиняли и крутили их, как хотели. Самые человечные в мире боги – у греков.
Да, футуристы у нас разогнули спины. А потом опять согнули. А ну их. И они перестали быть мне интересны. И методы их – тоже. Я не могу писать постоянно и не могу тогда, когда нет накала. Видимо, я не графоман. А Толстой никак не мог остановиться. А Набоков томов сто настрочил. Уж если начал писать о литературе или о том, как пишешь – все, значит, себя исчерпал, ничего в тебе больше нет, конец. Переводы значат то же самое. Даже если начинаешь просто болтать о литературе. Я никогда не болтал. Это ты меня насилуешь. Да, тогда и Пастернак графоман. Да еще какой. А Маяковский – нет. Он даже издание своего собрания сочинений поручил Асееву и не занимался этим. Хлебников и тем более. Нет, методы Маяковского совсем не от Уитмена. Только урбанизм от него. А стержень – Библия. Он же сидел в тюрьме, а там ничего не давали читать, кроме Библии. Вот он и зазубрил наизусть. Библейские образы в урбанистических декорациях, вот и вышло диковатое сочетание. Хлебников – другое, он чистоязычный.
Думаю, природа гениальности – это память. У Платона об этом ясно. То есть интуитивная память древнейших знаний, которые сохраняются в генах. Вот и вспыхивает то там, то там. Только у потомков древних народов. Евреи, кельты, персы, татары. Смешение кровей, но обязательное присутствие древней крови. Державин у нас – кровь древних татарских князей попала. Гении английской литературы – все ирландцы или шотландцы, то есть кельты. Индия – там много гениев-математиков, выше, чем в Европе. И – гениев божественных, вокруг которых видимая аура. Это, можно сказать, боги. Выше нет проявления гения здесь, на земле. Да, Кришнамурти и Ганди и многие еще. В древности – Будда. У американцев бог – доллар. Они перед долларом на коленях. Все крутится вокруг этого. Ужасно. Ужасные люди и страна. Чем поразил Запад Достоевский, как ты думаешь? Помнишь сцену: Настасья Филипповна швыряет сто тысяч в огонь? Вот этим. Вот это их потрясло: как, их бога – в печку, в огонь! Во-первых, дать такую сумму какой-то проститутке, что само по себе немыслимо, а во-вторых, та их – в огонь! Ну и провозгласили: вот он какой, русский народ, русская душа? А это не русский народ, а Достоевский. Тут то же самое: бог – рубль. Ну, разве не в таких масштабах пока, как там. Но скоро все будет так же. Ужасно.
Все можно из себя вытянуть, но не талант. Талант – единственное, что сам из себя не вытянешь.
23 мая 1998 года. Он спал перед моим приходом. Выпил четыре чашки крепкого чая – чтобы оживиться.
– Собираемся на Мшинскую на той неделе, – сказал он. – Может быть, легче будет, там воздух, движение, деревянный дом. А тут я как мертвый. Утром часа полтора работы, и то только когда солнце. И все – выдохся! А если солнца нет – ничего не делается, дохлый весь день.
За зиму из тысячи рисунков вышло, то, что называется шедеврами, три листа. То, что не стыдно дать на любую выставку. Бесцельная работа. Зачем? Это нельзя назвать моим призванием. Я не живу этим полностью. Это для меня разве что треть моей жизни. Писанина – другое. Там – вся моя жизнь. Такой уж я выбрал трудный метод: нельзя ничего исправлять. Или все получается сразу, или, если хоть одна помарка, дрогнула рука – отбрасывается. Хорошие куски почти в каждом листе, вырезаю, но это мне надоело, и это уже не то. Метод импровизации. Но так, как я, никто в мире не пишет и не писал. Сейчас весь мир пишет этим методом, то есть интуитивным. Но это не совсем то. Они подправляют импровизации, все так делают. Но это все равно что ставить протезы. Никуда уже не годится. Я упрям, я иду максимально трудным путем.
Китайская живопись? Нет, там тоже не то. Просто есть рисунки, которые очень быстро сделаны. Это же высшие мастера, гении. Но это не абсолютная импровизация, а только часть. Всегда есть дорисовка. – Он раскрыл книгу с древнекитайской живописью и показал портрет Ли Бо. – Видишь, туловище нарисовано одним взмахом пера. А голова, лицо явно прорисованы. А эта картинка вся тщательно прорисована, не импровизация, что не умаляет ее достоинств. Но это другое.
Японские стихи? В литературе? Нет, там совсем не так. Я тебе скажу вот что: все высшие вещи в искусстве получились и делались только как импровизации, из импровизаций. Но очень редко – сразу. Обычно же – это довольно длительная работа. То есть возвращение помногу раз в то самое найденное счастливое состояние, в ту первичную импровизацию. И доработка. Найдешь нерв, его и пытаешься раскрутить. Например, моя «Башня». Ведь впечатление, что написано легко, на одном дыхании. Стиль ясный, чистый. А ведь там сто восемьдесят листов, и писал я эту книгу не меньше года, отделывал каждую фразу, извел бумаги в семь раз больше оставленного объема. Только один раз в жизни у меня было, когда я написал сразу. Из «Двенадцати сов»: «Подари мне еще десять лет». Утром, проснулся, и вся вещь уже в голове. Осталось только сесть и записать. Ни единого исправления.
У меня нет такой безумной потребности писать, строчить каждодневно, как Бальзак, без передышки, всю жизнь. Идиотизм, сумасшествие. Другие писали без этой пожизненной одержимости, спокойно, с долгими перерывами, и писали лучше.
Мопассан прославился «Милым другом», а потом писал для денег. Там другое, чем здесь. Там пишешь – и свобода, деньги, слава. Здесь пишешь, и – обязательно задушат. Как Пушкина или Лермонтова, как всех после этой русской революции. Такая страна.
Пикассо там и Филонов здесь – художники равного уровня и значения. Тот в конце жизни – при мировой славе и гигантских деньгах. Этот, здесь – в полной безвестности сдох с голоду в блокаду. То же – замученный Малевич, художник, равный Сезанну. Вот тебе разница: где жить, в какой стране, при каком режиме. Нет в мире более сделанных картин, чем у Филонова.
4 июня 1998 года. Посетил его на Мшинской. Помог в хозяйстве, вскопал огород, поставил дверь в сарай. Он сказал мне:
– Ты так мало написал: три тоненьких книжечки. Все дело в том, что ты слишком поздно начал. У тебя не было чтения на высшем уровне. Знакомство с образцами, без которых ничего не сделаешь. Их перерабатываешь, чтобы вышло свое. Теперь: куда ты пойдешь дальше? Вот в чем дело. Что и как ты будешь писать теперь?
Я с прозой зашел в тупик. Видно, пора кончать с писаниной вовсе. А рисунки вдруг пошли. Нашел новый метод. В писанине и этом моем титаническом романе, который я хочу бросить в печь, а все что-то тяну, не найти решения. Вот в чем дело. Пусть полежит. Может, потом как-то использую.
Дом соседей обязательно сгорит, – он показал на дощатый домик на соседнем участке. – Там живет столетняя старуха. Она тайком топит печь, пока ее дочь и зять в отлучке. Те бывают по выходным и гоняют старуху кнутом на огород поливать грядки, а сами ничего не делают. Вот если бы сгорел их дом, было бы хоть что-то тут красивое. Красивый пожар. Ради такого случая я бы и книгу свою в огонь бросил. В такой-то красивый кострище как не бросить. По крайней мере, достойно для сжигания. А в печку я не решаюсь. Скучно и тривиально. Повторы.
Петр Первый – монстр, урод, сумасшедший. Его цель была – стать императором. И ради этого перевернул всю страну, из тринадцатого века сразу в восемнадцатый. Приказ – брить бороды, а лезвий нет. За небритье – громадный штраф. Построил бесполезный гигантский флот, который потом весь сгнил. Дома своего у него не было. Жил у Меншикова и гулял на его счет, привозя к нему орду человек в триста, растрачивал безумные суммы, тем самым и вынуждал Меншикова добывать их, то есть красть из казны, для его же, Петра, гульбы. А сам хотел Меншикова за растрату повесить. Кто же растратчик на самом деле? Он! Сумасшедший, самодур, идиот!
Спать легли во втором часу ночи. Утром он встал поздно. Плохо спал. Сидим за столом на кухне. Глотнув из чашки черного кофе, он глядит в окно, за которым сад, солнце, прекрасная погода:
– Сегодня – Фиораванти! – сказал он весело. – Красивое имя.
24 августа 1998 года. Опять посетил его на Мшинской. Под дождем пилим дрова.
– Напиши в своих мемуарах: он был мастер пилы! – говорит он, не прерывая работы. – Вожусь с книгой, которую хотел сжечь. Из семисот страниц отобрал сорок, но не знаю пока, что можно из этого сделать, нет решения, поэтому пока мертво. Может быть, когда-нибудь. Пусть полежит. А насчет всей массы остального пришла идея: повернуть все наоборот. Вот и возился, скрипя зубами, все лето. Но лучше бы бросить. Графомания какая-то.
Видишь ли, нужна многозначность. Много граней. А у меня в этой книге пока две-три линии. И только. Ведь никакой разницы: за или против, утверждение чего-то или отрицание. И так и так – тупость, примитив, одна грань, один знак. Что мне от так называемого содержания. Это нуль. Содержание – вот, в газетах, пусть там содержание и ищут. И вся советская литература такова и была: одно сплошное содержание, одна гигантская газета. Информация. Разве поэт пишет, чтобы дать информацию о чем-то, известие? Что же, Гомер писал, чтобы дать информацию о Трое? Так думают только пошляки и бездарности. Гомер дал отношения между героями, описания битв, богов, драматургию. Ни для чего как только для этого сочинял. Может быть, он все сочинил. А дураки ищут реальную Трою. Была ли она, не была – никакой разницы. Это смешно.
Я, например, в «Доме дней» превратил город Отепя в Эстонии в этакий святой город древних эстов и то, что там якобы был Цезарь, и так далее. То есть сочинил поэму. Поэт использует все: ландшафты, ситуации, происшествия, преобразуя их до такой степени, что они делаются не только неузнаваемы, но в них уже и нет того реального, из чего они были сделаны. Получается, что ничего этого не было или было только отчасти схоже с тем, как написал поэт. Потому что поэт пишет по иной потребности, у него потребности и цели эстетические, ну, скажем, красота – как это принято обозначать. А тупицы ищут во всем правду, факты, истины истории, как это все было на самом деле. Но никакой правды вообще не существует. Тем более – в истории. История – это собрание поэм. Вся она написана поэтами, нет в ней и тени истины, так на это и надо смотреть – как на поэтические произведения.
Библия? Но Библия – это сборник древних поэм. Вся она написана стихами. И это все, одна эта книга – все, что осталось от целой истории арамейского народа. Да и написана она в основном значительно позже, чем считают. Скорее всего, в четвертом-пятом веке. Я долго жил этой книгой и только после смерти в Тарту и ее откинул от себя на хрен. Книги пророков, если их поставить рядом, как картины, жутко однообразны – одни и те же проклятия и плачи. Но это же самая аристократическая книга в мире: почти все книги Библии написаны царями или вельможами. Аристократическая идея Христа, что на кресте все равны – и бог, и бандиты. Идея такого равенства: равенства в смерти – сверхаристократична. «Возлюби врага своего» – это же поэтические парадоксы, которые он швырял, как оратор, с горы в толпу, эта его нагорная проповедь. Но тупицы все понимают только в лоб, только в одном смысле. Вся история Средних веков – это борьба с насекомыми: вшами, блохами, клопами, пауками и меньше всего между собой.
Высшая математика? Да, это тоже своего рода поэзия. Потому что она абсолютно замкнута, ни для чего ее не использовать, она сама для себя, из любви к искусству, как говорится.
И вот, видишь ли, что такое вся история. Как она предстает. Просто-напросто находятся такие чудаки, которым нравится писать красиво и сочинять и которым нравятся красивые книги о красивом. И они переписывают эти книги на новый лад, на новом материале, используя красивые схемы, ситуации, героев прежних книг из древних времен. Где же тут правда?
Да, древние языки сильнее, сложнее, звучнее. Языки упрощаются, как и все в жизни. Идет упрощение по всему миру, во всем. То есть – опошление, отупение. Недаром Державин и его круг боролись насмерть с Жуковским, Пушкиным – против упрощения языка. Почитай Тынянова – «Архаисты и новаторы». Катастрофы в этом нет. Можно и на примитивном языке, каким является современный советский язык, написать очень сильные вещи. Но для народа упрощение языка значит – и мышления. Кто пишет для народа – явные бездарности. Народу не нужно никаких поэм, никаких стихов и книг, никакой эстетики, они не будут читать это, им это не нужно. Они живут одной гранью, одной линией. Поэты живут многими гранями, искусством и пишут только из любви к этому совершенно особому занятию, они замкнуты в своем деле и своей любви. При чем тут народ? Никогда они не думают ни о каком народе. Это идиотизм. Мышление газет.
Геродот, Фукидид. Они были очевидцами того, что писали. Но ведь у каждого свой глаз, свой угол зрения. Они были поэты, так и написали. Бездарный глаз и напишет бездарно. Да ну, что об этом говорить.
Язык Гомера – настоящий, звучный, гибкий древнегреческий язык. Язык Платона уже упрощенный. Так же как наш современный относительно древнерусского. Кто сейчас может на нем читать у нас? Ну, сотня-две ученых. Все. Я, так уж вышло, начал читать на древнерусском. Первые мои книги – летописи. По ним я научился читать, на этом вырос и воспитался. Это вошло в кровь. Ркох – насколько сильнее, звучнее, чем – сказал. Поэты поворачивают язык. Постоянно возвращаются к архаике и используют древние пласты, то есть воскрешают и обновляют язык, возвращают ему его богатства, его истинные ценности, его силу и звучание. Маяковский, например: у него архаизмов куда больше, чем у того же Пушкина. Новый виток.
Есть художники шизофренического типа. Когда нет никаких человеческих обоснований работать с таким фанатизмом, с такой безумной энергией, таким напряжением и отказом от всего, что есть в жизни. Филонов, который во всем себе отказывал и питался одной коркой хлеба и граммом сахара в день. Или Бальзак, проведший за столом всю жизнь. Это не объяснишь: такие люди или, как раз, не люди, нечто нечеловеческое.
На другой день мы пошли на рынок. По дороге он говорил:
– Надо купить навоз, пока не взвинтили цены. А что ты думаешь. Там, наверху в доме, работаю за машинкой, там – космические разработки, а тут – навоз. Так ведь все – навоз, и ты, и я, и там – в небе. Только навоз.
Навоз на рынке мы не нашли. Весь продан. Зато он купил нож с серебряной ручкой в серебряных ножнах, китайский, изготовлен сто лет назад. Редкость, красивый нож. Стал говорить о редких книгах, об антикварных, истинно ценных вещах, о том, что у него знание и вкус в этом. По дороге обратно читал мне наизусть свое стихотворение, написанное в 1960 году, неопубликованное: «На смерть Пастернака».
– Мне было двадцать четыре, когда я это написал, – сказал он. – Вот видишь, все мне было ясно об этой стране. 3аву-алировать, как ты видишь, не мой стиль. Мой стиль – писать прямо и жестко, не прячась и не виляя. Но я не люблю лобовое. А это стихотворение слишком лобовое. Публиковать его я никогда не буду. Оно и не написано. Текста нет. Оно здесь, в голове, все, до последней запятой.
Зачем мне общаться с теми, кто не любит и не читает книг. Мне – человеку книги. О делах – иное. Книга, которую я пишу, в целом мне ясна. Но это пока мертвая схема. Теперь, чтобы написать, необходимо напряжение, то большое напряжение, которым только и пишутся настоящие книги. Нужно вдохнуть вольты, а где их взять. То, что у меня сейчас, это энергия пятого порядка. Так что же может написаться, сам понимаешь.
Все, что происходит, мгновенно искажается в передаче других. Фактов не существует. Этот вот домик после моей смерти превратят в замок. Будут писать: «Он жил в громадном кирпичном замке и писал великие книги, не сходя на землю, даже прогуляться». Никто не поверит, что я жил в нищей лачуге и думал о навозе.
Вечером он сидел на кровати, опустив босые ноги на пол, и грустно шутил:
– Что, ноженьки, скоро вас сожгут, скоро, скоро, и пепел развеют над Мшинской. Вот видишь, – сказал он мне – что стоят все эти так называемые ценности: книги, картины, подвиги. Все только круговорот пепла.
16 сентября 1998 года. Неделя, как он в городе. Накануне он позвонил мне по телефону и пригласил прийти к нему. Узнав, что в Эрмитаже выставлена картина Гойи «Обнаженная маха», он сказал:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































