Текст книги "Прогулки с Соснорой"
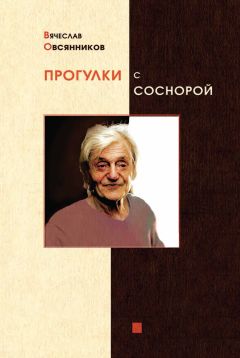
Автор книги: Вячеслав Овсянников
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
В русской литературе живых книг очень мало. И Лесков весь – фельетон. Но две или три его коротеньких вещи – настоящие. «Левша», «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник». Тоже фельетон, но все точно, чисто, сильно, о том, что нужно. И еще у него есть кусочки. Никаких идеологий.
И у Надсона есть. Он первый ввел в русскую поэзию Малларме. До Бальмонта. Бальмонт еще и не родился. Эти звуковые штуки. Открытое звуковое, а не скрытое, как у Пушкина. А Пушкин – самый настоящий формалист, ведь все его открытия это открытия технические: приемы, формы. Его заслуга: создал доступный всем, то есть общедоступный русский литературный язык, то есть сглаженный, сахарный, то есть сразу язык уронил. Уже Хлебников, Маяковский и все футуристы не могли пользоваться этим обывательским, гладеньким, общемещанским убогим языком и потянулись к древнерусскому – сильному, яркому, живому. А этот язык – для обывателей, мертвый. Собственно, первый его создал гениальный Жуковский, а Пушкин его общипал на глазах у всех и самого Жуковского. Пушкин его всего общипал, все лучшие его строчки, и Батюшкова также. Пушкин их пересилил, гений Пушкина. А Пушкину стали подражать незначительные, второстепенные, слабые поэты. Знаешь, когда гению подражают слабые поэты, какой-то он, значит, не совсем гениальный. Другое дело: гений берет у гения. Пушкин – мертвый поэт, никто его уже сейчас не читает, а в будущем и подавно.
Взять и Андрея Белого. Это гений формы. Сверхмастерство. Но неживой, ледяной, мертвее мертвого. А гениальность! Им создано бесчисленное множество форм. Из него формально вышел весь двадцатый век, все абсолютно. Никто из больших писателей без него бы не осуществился. И все футуристы, и Хлебников, и Маяковский. Цветаева – тоже. Но Цветаева – чистый, живой гений. У нее нет ни одной фальшивой ноты, она абсолютно чиста. Ее точка отсчета – отъезд из России. Ее «Вечерние альбомы» – чтобы было что вычеркнуть из себя. Она писала о Белом: «Пленный дух». Потому что Белый насквозь фальшив, во всех своих книгах и в жизни. А он и в жизни был гений. Настоящий гений во всем. Вот и такая гениальность. Фальшивил, кривлялся. Потому что только – гений формы. И его все общипывали, все растаскивали и растаскивают до сих пор, и еще долго будут. Он, в формах, в этом смысле неисчерпаем. Но все-таки его можно растащить, потому что это внешнее. А разве Пушкина так растащишь? Нет. У него есть нечто внутреннее, недоступное. А у Белого внутри – пусто.
Те поэты и писатели, и второстепенные, Бобров, Петровский, Петников, Спасский, Божидар – это культура формы, это все же всегда хорошая почва, хорошо унавоженная, из которой может вырасти новое, почва, питающая будущее. А что современные писатели, самые лучшие? Это уже не то золото. Это золото, но низкого качества. Почему? Читаем, например, Битова, раннего, все прекрасно, настоящее, и вдруг – сбив, один, другой, несколько. Фальшивые ноты, то есть ложь перед самим собой, неверность себе. Все! Крах книги! Не должно быть ни одного сбива. Ни одного! Книга нечиста. То же у Венички Ерофеева. Довел героя до белого каления, а что с ним сделать в конце – не знал. И зарезал, не нашел ничего другого. А большие писатели всегда знают, что надо сделать с героем. Гоголь знал.
То же и у Мамлеева, и у Довлатова. Довлатов же журналист. Журналисты все живые. Но живое это еще не все. Живых статей много, но они же ни о чем, пустые. Надо ведь еще чтобы было о чем. Чтобы все сошлось: и живое, и о чем, и чисто сделано, и качество письма. Последние книги Довлатова, и здесь, и в Америке – это все спекуляции. Это же видно. И эти его лагерные. Для читателя. Чтобы читать. А вот его маленькая книжка, одна, ленинградская – та настоящая. Там у него этот его маленький сдвинутый мир. И получается жутко и точно.
Да, и у Толстого есть кусочки в «Войне и мире». Но что это за страна, в которой из посредственного писателя делают культ. Он же посредственный писатель – Лев Толстой.
Живые книги. Сей-Сенагон писала под подушку. Не предназначала для чтения и не знала, что с этим ее дневником будет. Опубликовано после смерти. А родилась целая традиция дневников. И какие прекрасные дневники, много. Здесь, у русских писателей, я не знаю ни одного, ни из прежних, ни из современных. Все неживое, не из-под подушки. Пушкин? Не было у него никакого дневника. Это он мистифицировал. Он много мистифицировал. Все поэты и писатели, большие, мистифицируют. Это совсем не обман. Люди, лишенные воображения, говорят: вот врут! Они не способны понять фантазию. Приятно же слушать, когда человек фантазирует. Не то что, когда он тебе будет долбить свою занудную, тупую правду: бум, бум, гирей по голове. У меня об этом в «Башне» эпиграф из Ибн Сины (вот уж тот был мистификатор из мистификаторов): «Если тебе доведется узнать, что некий… рассказывает о неведомом таинстве, то верь этому, ведь вера в это не отяготит тебя». У меня все правда, но я так ее декорирую, что она превращается в фантазию.
Как Довлатов мог писать в проходной комнате. Я только в полном одиночестве могу работать, мне всегда было плевать, будет ли меня кто читать или нет, эти читатели, тем более думать о каких-то потомках. Но мне каждое утро надо выложиться. Вот и все. Без этого нет жизни. И надо-то часа три. Вполне трех часов хватит. За глаза.
Да, вот, скажем, Дефо. Как он написал эту книгу. Услышал или прочитал в газетах: моряк на необитаемом острове. И написал, но детально, скрупулезно, описывая каждый день, каждую мелочь. Жуть! Читать, казалось бы, скука. Взрослому человеку. А дети читают взахлеб и всегда будут читать. Это их вечная книга. В чем дело? В этой книге сказался несгибаемый дух Дефо: что для такого, как он, и необитаемый остров – ерунда. Справится и там, и на необитаемом острове можно жить, и каждый день будет приносить что-то интересное и удивительное. Великая книга! Сказочка для детей, еще одна сказочка. И что у нас получается: забываются в мире самые мастерские, первоклассно написанные книги, никто их не читает и они умирают, а остаются жить те, которые сделали какое-то открытие. Что-то общее всем. А не форма и приемы, как у Белого. Таких книг – раз, два и обчелся. У Дефо написано еще много прекрасных книг, но все они без открытия и потому забыты. У Свифта его «Гулливер» – то же самое. Хоть и тоже – фельетон. В этом фельетонном жанре. Тоже сказочка. Вечно живая. Главное получается – чистота, отсутствие фальшивых нот, отсутствие лжи перед собой и, если есть ложь, то сколько ее, сколько этих фальшивых нот в тебе, какой процент.
У графа Хвостова его нелепости – это же не специально, не сознательно, а такой характер. Все над ним смеялись, а Пушкин нет. Тот понимал. «Что-то у тебя есть», – говорит. Вот вкус у человека! От Хвостова вышло в двадцатом веке целое новое направление: обериуты, сильные дурики. Дурость, нелепость – сознательно. И Чурилин.
А твоя книга стихов крепко сделана, как брюсовские книги, но стихи твои, извини, неживые. У тебя-то фальшивых нот быть не может. У тебя все чисто. Потому что ты не переходишь за границу своих писаний. А Довлатов переходил, буйная натура, и фальшивил. И так бывает. Ложное состояние. Но лучше б ты перешел границу себя и сфальшивил. Было бы хоть видно что-то. Ты боишься. Нет, не боишься, а закрепощен. Отчего? Вот уж я не знаю. Внутренняя свобода и тому подобные выражения, никто уже не знает, что это такое. Смысл потерян или утроен, учетверен. Ты слишком много думаешь и говоришь об этой свободе. Раз говоришь – значит, ее и нет. У того, кто постоянно говорит о чем-то, – у того этого и нет.
Можно сказать точно: в прозе у тебя есть немного живого в первой и третьей книгах. Но в третьей – от имитации. Меня. Но это у тебя мимолетная имитация. Почему ты не можешь перейти границы своих писаний? А разве ты сам не знаешь? Те, о ком я говорил, все были раскрепощенные. Может быть, оттого, что ты слишком занят собой и литературой. Не надо думать об этом. Попробуй отвлечься. Не читать книг. Ты ведь их, наверное, уже читаешь чисто автоматически. Не можешь же ты все еще получать удовольствие от чтения. В том-то и дело, что я не чувствую, что ты любишь. Многие любили, а писали мертвое. Ложное состояние, да. Как из него выбраться. Рецептов нет. Это как топка паровоза: горит, сжигает дрова и ничего не знает о паровозе, ни куда он мчится, ни то, что это она его движет. Горит, и все, и ей все равно что жечь – дрова, лес, хоть весь земной шар. Кто хоть раз испытал такое состояние, знает, как его уловить или даже добиться. Только бы оно явилось хоть раз. Но бывает, что себя обманывают: думают, это то состояние, а оно ложное. Все это сложно. Я думаю, что все же у тебя когда-нибудь фитилек зажжется. Ты все еще не нашел себя, свою тему, может быть, жанр. Есть же тысяча жанров.
Наблюдать, но наблюдать не как надсмотрщик или шпион и все подряд записывать. Это гибель. А только то, на что интерес, живой отклик. Вот мне очень близки Бианки и Пришвин. Хотя я их и не люблю из-за их упрощенности. Особенно Пришвин. У него же нет людей. Коротенькие его рассказы. Большие его книги читать невозможно. А – коротенькие. Он выходит из дома и видит что-то и этому радуется. Чувствуешь, что в этом его жизнь, этим он живет. А вот у тебя такого и не чувствуется, может быть, твоя ошибка, как и почти у всех, в том, что ты абстрагируешь литературу как отдельное царство, исключаешь ее из жизни, исключаешь и себя, и жену, и дерьмо. Ты не участник процесса, ты не в жизни, а в литературе. А это жизнь кругом, ты ведь в жизни. А ты строишь иерархию: эти писатели нравятся, эти нет, школы, ранги и так далее. Фетишизм. А в жизни все равны, авторитетов нет. Для меня, например, нет никаких авторитетов. Всех этих великих писателей я знаю как облупленных. Что, правильно я говорю? В этом-то и ошибка твоя: в вычленении литературы из жизни, в абстрагировании ее. А надо просто жить и не думать, что ты и зачем пишешь. Пишется, вот и все.
Я и всегда писал только импровизации, а потом десять раз их обрабатывал. И в этой последней книге моих стихов: пойман нерв, а дальше – его усиление, обработка, огранка. Написать как можно больше, чтобы было потом из чего выбирать. Это мой метод. Вычеркивать – это я люблю и могу. А что-то добавлять или переделывать – никогда, ни строчки. Пришвин – тот же даос. Может быть, ты к семидесяти годам напишешь живую книгу. Начал же писать Аксаков в шестьдесят. Написал яркую, живописную, изобразительную прозу. А до этого писал какую-то чушь.
У Гоголя «Петербургские повести» – самая плохая книга. Кому нужны эти чиновники, эта сатира, их психика. Неинтересно, скучно. Как Салтыков-Щедрин. Хоть крестьяне, хоть кто. У меня в руках книга и я смотрю: какая. Яркая, живая. Вот все. А этот его «Нос» – самая худшая повесть в книге. А вот «Тарас Бульба» – тоже сказочка! Яркая сказочка. Самые живые фигуры там: еврей Янкель и татарка. А Андрий и Остап – ходульные. Да и Тарас. Держится все на этом Янкеле и речах самого Гоголя. Все вывозит его язык, яркий, пышный, живописный. Патетика и в ту и в ту сторону. И битвы. Это с Гомера. Только у Гомера герои выписаны детально, а тут русская мутота. Да, Гоголь, его язык, его речи, его заебоны. Удивительный он, Гоголь. У него был стальной дух. Лирики у него не было. Андрия ухлопал, Остапу отрубил голову. Еврей Янкель получился самый храбрый: дрожит, а ведет Тараса в тюрьму сквозь все преграды. На каждом шагу смерть. И деньги ведь все потерял все равно. Вел этого тупицу Тараса, ну, не тупицу, идиота, как у Гойи. Гоголя так и надо читать: убирая прямые смыслы. И письма его надо читать сквозь его заебоны. Это у него главное. Да, но как их, эти смыслы, убрать. У Гоголя сочные, живые картины. Он картинен. Как говорили китайцы: чтобы написать одну хорошую картину, надо прочитать девять тысяч книг и пройти десять тысяч ли.
Пока мы шли по длинной дороге в лесу, ведя этот не менее длинный разговор, солнце скрылось в тучах, забрызгал дождик. Он продолжал:
– Может быть, ты хочешь поймать птицу, которая в твоем лице не водится. Но ты и не гений формы, как Белый. Ты себя скорее занижаешь, чем завышаешь. Тоже плохо. Но хорошо, что я говорю тебе правду. Ты – вполне состоявшийся писатель, профессиональный, высокое качество письма и будешь писать хорошие книги. Ведь ты любишь это дело. Так что же тебе еще? Тебе захотелось большего. Но произойдет ли это? Произойдет, когда ты перестанешь об этом думать, неожиданно для тебя. Ты разделяешь литературу и жизнь, проводишь между ними границу, а ее нет и не должно быть. В этом твоя ошибка и почти всех, за исключением единиц.
Андрея Белого будут еще долго использовать как подтирку для задницы. Вот – гения как подтирку. Я прочитал книгу Елены Гуро. Для меня – нуль. Она интересна только как человек. Это о ней написал Евреинов: «Театр для себя». Что такое талант? Талантом я называю надежды. До двадцати трех лет я писал с большим воодушевлением и очень много, но чувствовал, что все это не мое. И потом сжег, во Львове, целый сундук. Да, до появления моего «Слова о полку Игореве». А явилось оно бессознательно, и я не понял вначале, что это мое подлинное открылось. А потом два года – опять пусто.
19 октября 1999 года. На прогулке он жаловался:
– В доме вечный кавардак. Надоело! Лучше бы я жил один. Мне работать надо. Трех часов работы мне за глаза хватает. Больше и не выдержать при таком методе. Такое напряженное письмо. А работать не дают. Все не дают. Почему я и жил один столько лет.
Похороны Лихачева: КГБ у гроба! Это называется: результат жизни. К чему он стремился – вот к этому? Симонов – тот был неоднозначный человек. Слава, свой у властей. А после войны его повернуло, шлея под хвост. Решил написать правду о войне. Он же на фронтах был, два или три ранения. Ездил по всей стране, записывал на магнитофон голоса солдат: что они о войне говорят, их правду. И речи маршалов – тоже. И хотел издать такую книгу. Чуть-чуть из этого, капельку, попало в «Живые и мертвые». И тогда звезда Симонова закатилась. По завещанию – сожгли и прах развеяли где-то над Могилевом, где он воевал. Вот у его гроба стояли герои, маршалы, а не ублюдки-чиновники. Симонов был человек колоссальной энергии, за что брался, то доводил до конца. Правду о войне до сих пор замалчивают. Опубликовано, что позволили, до неких пределов. А пределы эти – пшик, вот столечко!
Вот – Андрей Белый и вся та интеллигенция. Не трусы, чего им тогда было бояться. А – слабоумие. Профессорские сынки. Выросли и жили в богатстве. Что они знали о народе и реальной жизни? Ничего они не знали. А реальная жизнь, реальность – это жизнь бедных, тех, кому надо добывать себе кусок хлеба, тех, кто умирает с голода, в нищете. Это реальность. Ценен тот писатель, кто прошел эту школу жизни, с низов. Или: богачи, аристократы сами шли знакомиться с народом и реальностью. Денди шли в портовые кабаки драться на ножах с пьяными матросами. Не с крестьянами же им было знакомиться – скучная, тусклая жизнь и такие же скучные люди. Разве это народ? А вот матросы – народ яркий. Это матросы революцию делают. Что писал этот денди Уайльд до тюрьмы и что после. Сласти, розы и драгоценные камни или – «Баллада Редингской тюрьмы». Разница разительная. Пропасть. Державин знал жизнь, он же из нищих. Пушкин узнал в Болдино, у крестьян. Там он и написал лучшие свои вещи. Лермонтов – под чеченскими пулями. Там, на Кавказе, он все понял, там ему эта реальность открылась. Каждая минута между жизнью и смертью. И спокойно сидел и писал под пулями свою книгу. Абсолютно спокойно. Это и чувствуется в каждой фразе. И оттого такой мистический холодок от каждой его страницы, от всей этой книги. Потому что постоянно на грани смерти, и все сюжеты там со смертью, и все там гибнут, а тон такой спокойный, вне напряжения.
Бабеля Горький отправил в конармию. А не отправься туда Бабель и не узнай он реальную жизнь, и не было бы такой прекрасной, подлинной книги. Достоевский – на каторге. Сервантес – потеряв на войне руку, в нищете, в тюрьме. Узнал, что такое жизнь, там в тюрьме и написал свою настоящую книгу, где смеется над всеми героями. А что он писал до этого? Пасторали и назидательные новеллы. Платонов – что бы он написал, не закрути его революция и гражданская война. Неизвестно. Ничего бы путного. И так, кого ни возьми. Байрон сам шел к реальности: его Греция, эти грязные карбонарии, которых он возглавил. Лорд – и к карбонариям. Цветаева – в эмиграции. Там она хлебнула жизни, нищеты, неурядиц. Это был для нее шок. А человек гениальной одаренности. Ведь так жили все. Что ж такого. Но для нее это было – драма. Она все это гиперболизировала невероятно и стала писать свои поэмы проклятий. А кроме нее кто еще в эмиграции? Никого. Не Набоков же, не Бунин. Они так и остались, не знающие жизни. А Набоков ведь великий писатель, культура, словесность, никто не отнимет.
Шмелев? Ну о чем ты говоришь. Шмелев из богатой московской купеческой семьи и писал свои красивости, воспоминания о той богатой, счастливой жизни. То же и Ремизов. Все это красивости.
Марсель Пруст, Вирджиния Вулф – прекраснейшая, чудесная проза. Люди огромной потомственной культуры и колоссальной одаренности. А как же иначе, эта культура врожденная, всосанная с молоком. Но вот жизни они так и не хлебнули, и поэтому не хватает их книгам чего-то главного. Гениальными их не назовешь. Я называю гениями тех, у кого все пронизывает дух отрицания. Но не риторика, как у Байрона или у Лермонтова в стихах в подражание тому же Байрону. А отрицание на самом деле, подлинное, настоящее. То есть когда весь этот мир не принимается, отрицается. Не этот – растительный и животный. Этот как раз прекрасен. А мир людей, то, как он устроен. Такой мир принять нельзя, с ним нельзя примириться. Примиряется и приспосабливается к нему только подонок, холуй, раб. С таким миром только бороться. А формы борьбы могут быть самые разные. Да, это получается борьба с ветряными мельницами. Все мы Дон Кихоты. Ну так что ж. Все же это борьба.
Вот мне уже шестьдесят три, слава, мировая известность, а – молчание. Замалчивают, как будто я и не существую. Почему? Потому что понимают: я отрицаю этот мир людей полностью и остаюсь непримирим, несгибаем в этом отрицании, вне компромиссов и середин, в максимализме своего духа отрицания. Ну так и пусть остается один, раз он такой непримиримый. В нищете, без самой необходимой помощи.
Мы свернули и пошли у ручья. Дорожка засыпана почерневшими листьями. Сыро и холодно. Вдруг он остановился и посмотрел на меня пронизывающим, тяжелым взглядом. Так он смотрел минуты две, три. Я выдержал его взгляд, хотя мне было и не по себе. Затем он сказал:
– Меня все боятся, у меня взгляд такой, я всегда гляжу прямо в глаза, упорно и долго. Привычка. Взгляд зверя. Никто не выдерживает. Люди ведь прямо в глаза не смотрят. Только Лиля Брик и Кулаков были такие же, с взглядом зверя. С ними у меня было все нормально. Вот со мной и не общаются из-за этого взгляда. Боятся. Ты привык.
В Париже я одевался весь в кожу, чтобы дождь с меня скатывался, и гулял, элегантный, ночью по набережной Сены, а от меня шарахались влюбленные парочки и самоубийцы, принимая меня за фашиста. Я ходил пить в портовый кабак, не зная, что это бандитский притон, там шумели пьяные матросы, ссорились и дрались на ножах, каждую ночь кого-нибудь убивали, а я сидел в одиночестве за стойкой и спокойно выпивал свою порцию виски. Там меня тоже принимали за фашиста и боялись связываться. Говорю: весь в коже – пальто и даже гетры на ногах кожаные. Вот эти гетры больше всего и приводили в ужас. В них-то и щеголяли фашистские молодчики, это была их форма. А я и ведать не ведал, я – от дождя, удобно.
Ты, что же, постоянно думаешь о том, как ты пишешь, о своем творчестве? Да, эти думы о своем творчестве тебя доведут до сумасшедшего дома. Что тут думать. Надо писать книгу, а не думать. Вот и все. В этой стране садистов нельзя быть мазохистом. Мало, что тебя мучают, так еще и самому себя мучить! Путь в сумасшедший дом и к самоубийству. Тот, кто много думает о себе, считает себя великим. А как же? Это и есть мания величия. Как будто он один пишущий на земле. Я могу подарить тебе прелестный сюжет: прогулки в лесу. Один совершеннейший дурик рассказывает свои впечатления, а другой абсолютный дурик все это слушает. Вот ты и написал бы такую простую книгу, отвлекся бы от художественных вымыслов. А отвлекаться от них обязательно надо. Да ведь такие вот простые книги и оказываются зачастую самыми настоящими.
26 октября 1999 года. Он стал одеваться для прогулки.
– Сильный идет дождь? – спросил меня. – С зонтом ходить я не умею. Зонты у меня все ломались, сколько ни пробовал. Но что же делать, попробую еще раз, придется мне учиться под зонтом ходить.
Вышли из дома – дождь вовсю хлещет, лужи кругом. Раскрыв зонты, побрели к лесу.
– Недавно я побывал на Литейном в букинистическом магазине, – сказал он. – Да, книги есть роскошные, в великолепных переплетах. Видел книги Крученых, но без иллюстраций. А вот с иллюстрациями Розановой, скажем, даже с одной ее картинкой – огромные суммы. Крученых открыл новый тип книги на основе русских рукописных книг, сам и делал их, привлекая для оформления лучших художников. Книги рукописные, как и те, народные, но пером написаны совсем другим: перо Малевича, Розановой, Гончаровой, Ларионова. Крученых Маяковского ведь не любил, терпеть не мог. Да он и никого не любил. Примазался к Хлебникову. То, что никого не любил, это нормально. Так и должно быть. Крученых – великий эстет, он книги делал высшего качества.
Я опять заглядывал в твою книжку стихов и обнаружил, что в ранних ты шпаришь под Пастернака. Это для меня странно. Потому что понять и полюбить Пастернака может только человек той же психической силы и той же тонкости. У тебя от Пастернака только конструкции, а напряжения его, живой психической силы нет. Да и откуда ей быть. Стихи твои мертвые. И все же странно. Да, может быть, так и есть, как ты говоришь: ты был влюблен в пастернаковское напряжение. А сам ты его лишен. Ну и что ж. У Фета, например, тоже нет напряжения, и он лишен этого, а какой тонкий поэт! Да многие лишены этого. И Толстой лишен. А много ли у Пушкина? Вот ведь что интересно: «Сестра моя – жизнь» – самая мистическая, самая крылатая, самая живая, самая звучная, самая живописная, самая музыкальная книга в русской литературе. А у других так себе, понемногу. А чтобы целая книга – ни у кого нет. А понимают и любят ее единицы. Я ведь тоже не сразу понял. Хлебникова в шестнадцать лет, сразу во всем объеме. Ну, Маяковский еще в школе. А Пастернак был непонятен. И только в двадцать семь лет мне открылся. Мы тогда любили гулять по Невскому, фланировать. Я обычно гулял вдвоем с Сергеем Давыдовым. Высокий кудрявый красавец. Радиожурналист. Вот он и стал по какому-то поводу декламировать: «Ты так играла эту роль…» И тогда-то мне вдруг и открылась вся эта великая книга – через звук. Но влияния этой книги в моих стихах нет. Так, цитаты, разбросанные там и там. Реминисценции. Потому что я уже сам был открыт. Поэтому все, что ни попадало, переплавлялось в свое. А до того, как сам открыт не был, шла одна только графомания, то есть уже совершенное мастерство, но стихи мертвые, не свое.
Последнее время меня занимала мысль: всегда ли критика в России была так тупа, как в советское время. И пришел к выводу, что – да, всегда, во все века. Ну, Писарев, понятно:
демократ, вставал в позу демократа и обвинял Пушкина в аристократизме. То есть вместо того, чтобы разбирать сам стих, разбирали – какой в нем заключен смысл, политический, моральный, всегда с точки зрения идеологии, какой-то позы. Аполлон Григорьев, казалось бы, поэт – нет, то же самое. Анненский – та же картина, у того поза аристократическая, вот и вся разница. Я эту книгу Анненского, да, «Книгу отражений», выкинул из своей библиотеки вон. Держать у себя такой хлам. У французов, например, критика все же иная. Читал я Сент Бева. У него это художественные произведения, эссе, и при этом некоторая доля понимания стихов имеется. Это видно. У нас только Шкловский – живая, гениальная критика. Его книги о русских писателях восемнадцатого века, о Комарове, замечательном писателе Об английском сентиментальном романе. Потом Шкловский стал писать о Маяковском, но это уже была чистая ложь. Написано-то талантливо и так же сильно. А то, что талантливо, уже не ложь. Но фактологически это все ложь. Да Шкловский это и сам знал. Иначе написать было нельзя в то время. Писал Шкловский и о Толстом: что он, Толстой, изобретал конструкции. Конструктивист еще до Андрея Белого. Да, но изобрести такие сложные конструкции это, знаешь, тоже дар нужен. Попробуй-ка.
Теперь я ничего и читать не могу, отвращение уже к чтению. Потому что нового ничего нет. А перечитывать старое это, знаешь, как корове пережевывать пустую и сухую траву.
Никто в этой стране не понимает ни стихов, ни живописи. Да и в мире никто. Единицы. Для чего же они читают и ходят в галереи? Для престижа? Вот прочитал, посмотрел? Выходит, так.
Где взять деньги? Продать картины? Но сейчас за них мало дадут. Гроши. А это все гениальные ведь художники. Кулаков, Грицюк. Через сто-двести лет их картины будут стоить миллионы, десятки миллионов, как теперь Модильяни. При жизни картины Модильяни валялись по всем кабакам Монмарта, никому ненужные, никем непонятые. Продавал их за бутылку вина и закуску. Я хочу написать об этих двух гавриках-алкоголиках: Модильяни и Утрилло. Картины Кулакова и Грицюка тоже ведь никто не понял, кто ни приходил ко мне на квартиру. Только один понял – Боря Шаповалов. Его эти картины потрясли. Переродился и стал писать совсем другое. Но потом я его выгнал. Невозможно общаться. Как художник он хороший, а как человек – дрянь. Так часто бывает. Да и у художников другой склад мышления, чем у писателей. У писателей – слова, все же умение общаться. А художники – без руля и без ветрил.
Картины Михнова тоже лежат еще неоцененные. А этот выше тех на голову – Кулакова и Грицюка. Те – крупнейшие художники второй половины двадцатого века. А Михнов – крупнейший художник всего двадцатого века. У него есть такие ходы, каких нет ни у Малевича, ни у Пикассо. Он не выше их, но он им, конечно, равен. Он дал новую манеру. То, чего ни Кулаков, ни Грицюк не смогли. И те гениальные, но тот гениальней. Те не создали свой абсолют. А этот абсолютен. У тех не тот ранг. А этот зверь встал в полный рост, понимаешь. Он-то дышал полной грудью. У него все шедевры. Нешедевров у него просто нет. Есть люди, чувствуют, что великий человек, картины не похожие ни на какие другие. Великий – значит, ни на кого не похожий. Михнов – гигантского роста, рыжий, курчавый. Его отец был скрипач с мировой известностью. Он из высококультурной семьи. Гонор у него был – ого! Но у него-то гонор оправдан. Он считал: он один гений, а все остальные – мразь и гниль. Кто бы ни был. И с женщинами так же. Переспит, а потом говорит ей, что она гниль. Он жил на Рубинштейна, а я на Стремянной. Дома рядом. Мне было двадцать три, а Михнову тогда двадцать семь. Я часто заходил к Михнову домой. Он жил один, а я в одной комнате с сестрой, стол и две тахты, вся обстановка. Потом Михнов пришел ко мне однажды на улицу Росси. Не виделись мы лет десять. Михнов тогда уже страшно пил. Похудел, одни кости, нос вытянулся, еврейский, вот такой. Последние шесть лет Михнов только алкоголем и писал картины. Так и сгорел. В пятьдесят шесть лет.
Да, у нас там был кабачок на Литейном у соловьевского гастронома, напротив моего дома на Стремянной, там мы и собирались: я, Михнов, Кулаков. Приезжал и Зверев из Москвы. Сосиски там были восхитительные! Да, из ленинградских моих знакомых больше не о ком говорить, кроме этой компании художников. Потому что это все яркие личности. Яркие – потому что алкоголики. Алкоголики все – яркие, но очень уж похожие. Алкоголь на всех действует одинаково: доводит до озверения. Удивляюсь, как Михнов находил час-другой рисовать при его беспрерывном, убийственном алкоголизме. Утром, скорее всего. А рисовал он быстро, молниеносно, какая бы ни была картина, хоть маленькая, хоть гигантских размеров. Гений – одно слово. Последний год жизни вместе с ним медсестра жила. Он нанял, чтобы за ним ухаживала. Была у него еще и жена. Служанка, а не жена, как говорил сам Михнов. Забитая, безропотная. Последний раз я его видел тогда на Карла Росси.
Дождь пошел пуще. В лесу дорога размокла. Мы повернули домой. Он сказал:
– Лермонтов пришел на дуэль пьяный, веселый, выстрелил в воздух. А Мартынов с шести шагов ему в сердце. Подумаешь, ну, подзуживал, так ведь над всеми, ему прощали, герой войны, ну, дурик немножко, пустяки ведь. Книгу свою писал под пулями. И к этому можно привыкнуть, себя приучить. Не помешали же пули написать ему такую гениальную книгу. А этот тупица его и убил.
3 ноября 1999 года.
– Сейчас оденусь и пойдем, – сказал он. – Вот видишь, сколько возни по мелочам, быстро не получается. То, что я забываю то одно, то другое, не означает рассеянности. Это оттого, что я поглощен работой за машинкой и мне некогда обращать внимание на вещи.
На улице ветер, тучи летят, приоткрывается синева. В подвальчике он выпил три чашки крепчайшего чая.
– Без чая я бы не мог ни шага сделать, – сказал он, когда мы вступили в лес. – Чай дает силы и гулять и болтать. Лучше алкоголя действует! – Голос его звучал громко, на него оглянулись прохожие.
– «Один день Ивана Денисовича» – превосходный язык, – сказал он. – Школа двадцатых годов. Тогда еще была писательская культура. От Андрея Белого. Все они от него. От Андрея Белого много линий. Вот последующие поколения и разрабатывали. Да все от него: и Бабель, и Платонов, и помельче. Есть имитация, а есть влияние. Под могучим влиянием Белого. Но если человек творческий, высокого ранга, то это для него только благодатная почва, чтобы выработался свой стиль. Мало-мальски одаренный человек не может пройти мимо такой громадной фигуры. Это невозможно. Белого ведь не издавали шестьдесят лет. Специально, чтобы затушевать. Словно эти писатели с их качеством письма, языком и формами сами по себе, а не от него, словно это их самостоятельная заслуга. И теперь так получается, что читать Белого после них трудновато. Они его опростили, использовав. У всех тех писателей есть хоть по одной сильной книге. У Фадеева – «Разгром». А что он потом стал писать? И у Катаева есть, и у Сейфуллиной. У всех. А вот следующее поколение советской литературы – это уже чистейшая имитация, резкое падение уровня. Кто кого имитировал. Очень многие Маяковского. Роберт Рождественский – самый крупный из имитаторов Маяковского. Нет силы таланта на свой стиль.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































