Текст книги "Каспар Хаузер, или Леность сердца"
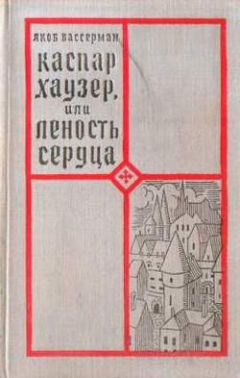
Автор книги: Якоб Вассерман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
О себе ничего хорошего сказать не могу; я больна, один доктор уверяет, что это нарыв на селезенке, другой, что это maladie du coeur [15]15
Болезнь сердца (франц.).
[Закрыть]. Сильное вздорожание продуктов тоже не способствует хорошему настроению. Дела у мужа, слава тебе господи, идут, в общем-то, сносно.
Отчет Хикеля о том, как он выполнил задание и перевез Каспара Хаузера в Ансбах
Седьмого, согласно предписанию, я прибыл в Нюрнберг и тотчас же отправился на квартиру барона Тухера, но его питомца дома не оказалось. К моему удивлению, я узнал, что после обеда он шатался неизвестно где и без всякого надзора, что противоречит предписанию, в настоящее же время находится у учителя Даумера, вероятно для того, чтобы затянуть отъезд с помощью своих друзей. Ибо при моем появлении у Даумеров сразу пошли отговорки да увертки: сам Хаузер тоже пустился на разные хитрости, довольно, впрочем, прозрачные. Все это мне, конечно, не помешало следовать полученным указаниям. Я стал строго его допрашивать, куда он подевался сегодня днем, но толку не добился, парень давал самые что ни на есть дурацкие ответы. Зато моя решительная позиция привела к тому, что об отсрочке уже и речи не было, ровно в девять экипаж стоял у подъезда. На улице скопился народ, многие вели себя вызывающе, видно, их заранее обработали, но притихли, когда я их пугнул; сейчас-де вызову стражников. Кучеру я приказал гнать вовсю, и минут через пятнадцать город остался позади. За все три часа до деревни Гросхазлах мой подопечный не проронил ни слова, сидел, уставившись в темноту. И то сказать, печально думать, что твои воздушные замки рухнули. Я послал сержанта в Гросхазлах, и, покуда кучер кормил лошадей, мы все зашли в помещение станции. Хаузер тут же улегся на лежанку и заснул. Я, однако, не мог отделаться от подозрения, что он только притворяется спящим, желая подслушать мой разговор с сержантом. В этом подозрении меня укрепило то, что у него вздрагивали веки всякий раз, когда я отзывался о нем в не слишком лестных выражениях. Мне захотелось проверить, имеют ли под собой почву россказни о том, что он впадает в глубокий, почти лунатический сон, и я прибег к маленькой хитрости. Мы разговаривали с сержантом, потом я подал ему знак, мы оба тихонько встали, словно собираясь уходить, и что же? Не успел я дотронуться до дверной ручки, как Хаузер вскочил, точно ужаленный, и с растерянным видом бросился за нами. Мы едва удержались от смеха. В экипаже Хаузер внезапно спросил меня, все ли еще господин граф находится в Ансбахе. Я отвечал утвердительно, но добавил, что его лордство собирается сейчас отбыть во Францию. Хаузер только тяжело вздохнул. Он забился в уголок, закрыл глаза и на сей раз уснул по-настоящему, что я заключил по его мерному дыханью. Поездка продолжалась без дальнейших происшествий, и в четверть третьего, в самый снегопад, мы остановились у гостиницы «К звезде». Теперь мне лишь с трудом удалось разбудить Хаузера, и только, когда я как следует накричал на него, он отважился вылезти ив кареты. Я не хотел будить господина графа и потому, вместе со швейцаром, отвел молодого человека в чердачную комнатку и приказал ему немедленно ложиться. Для верности я запер дверь снаружи, а сержанту велел караулить его, покуда не рассветет. В заключение мне, вероятно, следует охарактеризовать своего временного питомца. Так вот, признаюсь: он не внушил мне ни симпатии, ни сострадания. Его замкнутость, упрямство и скрытность свидетельствуют о том, что если он не насквозь дурной человек, то характер у него все же испорченный и неприятный. Удивительных свойств я в нем, по правде сказать, не заметил, разве что редкостный талант комедианта, и это еще мягко выражаясь. Боюсь, что здесь очень в нем разочаруются.
Биндер – Фейербаху
Надеюсь, сообщение о том, что у меня имеются кое-какие сведения относительно загадочного и длившегося более пяти часов отсутствия Каспара Хаузера в последний день его пребывания в нашем городе, пресечет нежелательные слухи и догадки, вероятно, уже дошедшие до Вашего превосходительства. Разумеется, мои сведения нельзя назвать исчерпывающими, и если юноша сам не пожелал объяснить свой поступок, то подробности, которые я узнал, уж конечно, не объяснят его до конца.
Постараюсь быть кратким. Наутро после отъезда Каспара ко мне пришел тюремщик Хилль и рассказал, что вчера днем, часу во втором, Каспар явился к нему в башню и попросил показать ему камеру, в которой он содержался, будучи узником. Камера в сторожевой башне случайно пустовала, и Хилль, после долгих удивленных расспросов, впустил туда Каспара. Тот нерешительно постоял в дверях, потом шагнул в угол, где некогда лежал на соломенной подстилке, сел и стал молча думать свою думу. Хилля это удивило, а так как все его попытки пробудить юношу от этого летаргического сна ни к чему не привели, он пошел к себе и рассказал жене о том, что происходит в башне. Они стали прикидывать, что бы им предпринять, как вдруг Каспар вошел в их комнатку, хорошо ему знакомую по прежним временам, но которую он тем не менее рассматривал сейчас задумчиво и внимательно, точно так же, как камеру в башне. Хилль и его жена решили, что бедняга малость тронулся в уме. Женщина подошла к нему поближе, спросила об одном, о другом, но ответа не дождалась. Тут блуждающий взгляд юноши упал на обоих детей тюремщика, игравших на приступке перед окном; Каспар внезапно улыбнулся, подбежал к ним и уселся рядом с ними.
Хилль сделал самое благоразумное из всего, что мог сделать, – оставил его в покое, дожидаясь, что будет дальше. Сидя все в той же позе, Каспар смотрел на детей так, словно отродясь с детьми не встречался. Вытянув шею, он, казалось, изучал их пальчики, губы, его жадный взор впитывал каждое их движение. Жене Хилля стало не по себе, она хотела броситься к детям, но муж ее остановил, сам он нисколько не испугался. «Я-то ведь знаю, какая у Хаузера добрая душа», – пояснил он мне. Вдруг Каспар вскочил, вытянул вперед обе руки, застонал, уставился в пространство, словно ему явился призрак, затем стремглав бросился вон из комнаты, сбежал вниз по лестнице и выскочил на площадь. Хилль побежал за ним, не без основания считая, что в таком состоянии его нельзя оставлять одного. Бегом спускаясь с горы, он не выпускал его из глаз.
Каспар метался по улицам без смысла и цели, затем через Глацис ринулся к церкви св. Иоанна. Хилль следовал за ним на расстоянии пятидесяти или шестидесяти локтей, неотступно следя за каждым его движением. Хотя с виду это и была бесцельная беготня, но юноша так спешил, так был нетерпелив, словно жаждал словить нечто, от него ускользающее. Вот он двинулся вниз по Мюльгассе; эта улица упирается в поле и переходит в луговую дорогу, ведущую вдоль стен кладбища в Пегниц и затем дальше в лес. У кладбищенской стены, такой низкой, что даже невысокий человек без труда смотрит поверх нее, Каспар вдруг остановился, сорвал шляпу с головы и прижал руку ко лбу. Вашему превосходительству, вероятно, известно, как он был потрясен в свое время при виде кладбища. У него и сейчас зуб на зуб не попадал, он задыхался, ужас был написан на его серо-бледном лице, казалось, он прирос к земле, но вдруг сорвался с места и бросился бежать с такой быстротой, что Хиллю стоило немало трудов не потерять его из виду. Хилль гнался за ним, так как ему казалось, что Каспар вот-вот свалится в реку, – добежав до берега, он уже шатался из стороны в сторону. По счастью, дорога свернула к лесу, и вскоре он скрылся за деревьями. Хилль, боясь, что Каспар уйдет от него, попросил парней, работавших в песчаном карьере, помочь ему. Трое или четверо пошли за ним и начали поодиночке прочесывать лес. Впрочем, Хилль после долгих поисков, когда он уже начал не на шутку волноваться, первым увидел Каспара. Юноша преклонил колена у основания могучего дуба и, с мольбою протягивая к нему руки, страстно взывал: «О, лесной великан! О, могучий дуб!» Только эти слова, но прочувствованные, как молитва в минуту душевного отчаяния! Хилль сказал мне, что у него недостало сил окликнуть Каспара, и вообще этот простой малый выказал себя на редкость деликатным и человечным, так что в признательности и уважении ему отказать нельзя. Окликнули юношу рабочие, которых Хилль взял с собой. Каспар между тем в испуге вскочил и поочередно смотрел на каждого из них: казалось, он не узнавал Хил ля. Последний поблагодарил своих спутников и сказал, что больше в них не нуждается. Он взял под руку Каспара, и тот безропотно последовал за ним. Они вышли из лесу. В противоположность недавнему своему возбуждению Каспар был совершенно спокоен. Хилль спросил, куда он хочет идти, и Каспар сначала замялся, но потом ответил, что обещал прийти обедать к господину Даумеру. Хилль рассмеялся и сказал, что обеденное время давно миновало; когда они добрались до городской стены, уже смеркалось. Каспар едва передвигал ноги, и, хотя Хиллю в четыре часа надо было заступать на дежурство, он проводил его до дома учителя Даумера и ушел не раньше, чем дверь закрылась за бывшим его питомцем.
Вот, Ваше превосходительство, точный сколок с того, что рассказал мне этот человек. Поскольку сомневаться в его показаниях не приходится, я велел их запротоколировать. Сам я ничего не могу извлечь из упомянутых событий, да и не мне предрешать выводы Вашего превосходительства. Вчера я попросил Хилля свести меня к тому месту, где он нашел коленопреклоненного Каспара: мне думалось, что там я увижу что-нибудь необыкновенное. При такой близости к городу это необычно мирный уголок; лес там густой, тишина и уединенность, настраивающие на созерцательный лад. Хилль тотчас же узнал это место и даже показал мне следы и разворошенный мох. Больше ничего примечательного я там не обнаружил.
Полицейский нижний чин, приставленный к Каспару, по небрежности которого все это случилось, понес заслуженное наказание.
Лорд Стэнхоп – Серому
Я все еще торчу в богом забытом городишке, хотя к рождеству хотел быть в Париже, и уже истосковался по изящной беседе, по маскарадам, итальянской опере, по оживленным бульварам. Здесь на меня устремлены все взоры, все на меня посягают. Говорят, что в семействе некоего не слишком зажиточного надворного советника в заклад снесли семейную реликвию – настольные золотые часы, чтобы устроить вечер в честь его лордства. Одну даму, из древнего патрицианского рода, по имени фрау фон Имхоф, подозревают в слишком близких отношениях со мной, вероятно, лишь потому, что бедняжка несчастлива в браке, о котором судят и рядят вот уже много лет. Но все это чепуха. Дама, к сожалению, ведет себя безукоризненно. Остальные даже упоминания не заслуживают. Подобострастие бравых немцев поистине тошнотворно. Симпатичный директор канцелярии, в раболепном поклоне снимающий шляпу передо мной, прикажи я ему, охотно стал бы чистить мне сапоги. Ничто не мешает мне здесь разыгрывать из себя Калигулу.
Но к делу. Внешнего повода для моего пребывания здесь более не существует. Первая часть задания, мною полученного, выполнена. Чего еще хотят от меня? На что считают меня способным в дальнейшем? Если у Вашего высокоблагородия или у повелителя Вашего высокоблагородия имеются еще пожелания интимного характера, то я хотел бы о них услышать, ибо Ваш покорный слуга уже сыт, сыт по горло и пора ему подумать о пищеварении. Я ношусь с намерением стать прелатом в Риме, а не то укрыться за монастырскими стенами, но предварительно мне необходимо сколотить солидный капитал для индульгенции. Если папа меня отвергнет, я вернусь в лоно пуританской церкви и, по крайней мере, буду избавлен от омерзительной необходимости отращивать себе бороду. В моей отчизне ведь тоже имеются маски и даже отличные маскарадные костюмы. Уведомлен ли отставной министр X. из С. обо всем происшедшем и огражден ли от возможных преследований? В каком банке прикажете мне в следующий раз получить очередную подачку? Тридцать сребреников, на какое число должен я помножить сию сумму? Ибо сейчас умножение – суть моей жизни. Господин фон Ф. несколько дней назад отбыл в Мюнхен – сообщаю для сведения. Пресловутый документ, словно кусок протухшего мяса, уже запримечен совестливым вороном, но пока что ему недоступен. Какая назначена цена и, если дойдет до военных действий, разрешаются ли более крутые меры? И что заслужит тот, кто увеличит население ада еще на одного подданного? Мне надо это знать, в наше время даже ничтожнейшие слуги сатаны предъявляют свои требования. Если господин фон Ф. и впрямь вступит в переговоры с королевой, а таково его намерение, понадобится представитель, который сумеет потушить занявшийся огонь. Правда, кусок мяса при этом неизбежно начнет смердеть. Мне, поневоле, вспомнился характерный абзац из последнего письма Вашего высокоблагородия. Кажется, он звучит так: «Вы, милейший граф, стали придавать непомерно большое значение нечестивому и сатанинскому, едва оно приобретает видимость целесообразного и удобного». Сняв слой грима с этих слов, я читаю: «Ну и мошенник же вы, граф!» Известна ли Вам очаровательная реплика старого князя М. американскому послу, который в лицо назвал его обманщиком? «Голубчик мой, – отвечал князь с самой ласковой из своих улыбок, – как это вы не умеете соблюдать меру в выражениях!» Так давайте же будем умеренны, если не в поступках, то на словах. К чему взаимные обиды? Мошенник родится на свет точно так же, как джентльмен. Тот, кто нагло сует свой нос в чужие дела и судьбы, – филистер или дурак, либо то и другое вместе. Кто знает меня? Кто захочет сделать меня не тем, кто я есть? Разве каждый мой вздох не выдает меня? Родственные звезды светили над Вашей и моей колыбелью. Вы верный слуга. Прекрасная отговорка! Отбросьте все, что Вас связывает, бегите в пустыню, к морю, на полюс, на другую планету, к себе самому, испытайте, будет ли Вас еще радовать блеск неба и свет солнца, и, если будет, мы продолжим разговор на эту тему. Будем пробиваться в ночи, подобно волкам, и будем храбры, ибо жертва может начать обороняться.
Вверенный нашей защите молодой человек в последнее время тревожит меня, и, должен признаться, именно из-за него я до сих пор сижу в этой жалкой дыре. Он-то, конечно, ничего не знает, но я в чем только не стал его подозревать. Иной раз я кажусь себе глухим музыкантом, которого заставили играть на заткнутой флейте. Но не только это удерживает меня здесь, а еще и другое, чем я не хочу обременять Ваш слух, чуждающийся любых сентиментов. Но так или иначе, на сей раз я вполне серьезен, дозвольте мне уйти с арены. Я как в дурмане, я устал, нервы мои не повинуются, я старею и уже теряю вкус к охоте загоном, мне претит, когда напуганный заяц сам бежит в пасть злейшей из собак, я слишком прекраснодушен, чтобы этому радоваться, и меня так и тянет в последний момент пробить брешь в цепи загонщиков и помочь удрать несчастному созданию. А в этом случае может ведь произойти удивительная метаморфоза: заяц превратится в льва и кровавой своре останется только, дрожа, заползти в свою берлогу. Но не бойтесь, все это лишь судорожные фантазии стариковской совести. Я тоже верно служу – самому себе. Дело повелевает человеком. Наши страсти умерщвляют душу. Повешения заслуживает лишь вор, понятия не имеющий о философии. В юности у меня навертывались слезы, когда в Венеции я смотрел на «Мальчика с гитарой» Карпаччо, теперь я бы не дрогнул, если б на моих глазах дитя оторвали от материнской груди и раскроили ему череп о придорожный камень. Вот до чего доводит философия. Если бы за нее больше платили денег, я, вероятно, пребывал бы в лучшем расположении духа. Кстати, должен рассказать Вам презабавный сон, который мне на днях привиделся, по чудовищности, право же, не уступающий горгоне. Мы оба, вы и я, приценивались к некоему товару, вдруг Вы меня прервали словами: «Берите, что я Вам предлагаю, не то проснетесь и останетесь ни с чем». Я счел этот аргумент настолько божественно неопровержимым, что и в самом деле проснулся, весь в холодном поту.
Но хватит, давно уже хватит. Мой егерь привезет Вам это письмо, которое, несомненно, раздражит Вас своей бессодержательностью. Прилагаемый вексель, заодно с просьбой таковой подписать, тем более Вас против меня восстановит. Учителю я заплатил за полгода вперед. Он человек полезный, неподкупный, как Брут, и послушный, как смирная лошадка. Истый немец, он полон принципов, сделавших его самоуверенным. Однако ночью положено спать.
ПОКЛОНЕНИЕ СОЛНЦУУтром после прибытия Каспара лорд дольше обыкновенного не выходил из своих апартаментов. Но и потом не велел звать его, а сначала совершил свою обычную утреннюю прогулку. Когда он вернулся, Каспар взад и вперед расхаживал перед дверями в гостиную; движения Стэнхопа, вознамерившегося его обнять, он как будто и не заметил, так как упорно смотрел в пол. Они вошли в комнату, лорд сбросил запорошенную снегом шубу и стал засыпать Каспара возможно более простодушными вопросами: как он жил это время, как распрощался с Нюрнбергом, как прошел переезд и тому подобное. Каспар охотно на все отвечал, правда, не пускаясь в подробности, был дружелюбен и отнюдь не выглядел угнетенным или обиженным. Это озадачило Стэнхопа; ему стоило известных усилий продолжать странно сдержанную беседу. Его даже пробирал страх, когда он поднимал взор на Каспара, неотрывно и отчужденно смотревшего на него глазами цвета винограда.
Приход лейтенанта полиции явился для лорда облегчением. Он принял его в соседней комнате; там они с полчаса вполголоса что-то обсуждали. Едва граф скрылся за дверью, Каспар подошел к письменному столу, неторопливо снял с пальца бриллиантовый перстень и положил его на незаконченное письмо, написанное по-английски. Затем он подошел к окну и стал смотреть, как метет метель.
Стэнхоп вернулся один. Спросил, знает ли Каспар, где будет жить отныне. Каспар отвечал утвердительно.
– Самое лучшее нам сейчас же отправиться к учителю и осмотреть твою будущую квартиру, – сказал лорд.
Каспар кивнул:
– Да, это будет самое лучшее.
– Мы можем пойти пешком, – заметил Стэнхоп, – тут рукой подать, но если ты опасаешься навязчивости встречных, пожалуй неизбежной, то я велю подать экипаж.
– Нет, – отвечал Каспар, – я предпочитаю идти пешком, да и люди успокоятся, увидев, что и я хожу на двух ногах.
Стэнхоп вдруг заметил перстень. Удивленный, он взял его в руки, взглянул на Каспара, еще раз взглянул на кольцо, задумался, сдвинув брови, усмехнулся бегло и злобно, молча положил перстень в ящик и запер его. Засим, словно ничего не случилось, надел шубу и произнес:
– Я готов.
На улице им не слишком докучали; прогулка протекала спокойно, народ здесь жил добродушный и робкий.
Над дверьми Квантова дома висел венок из вечнозеленых листьев, в середине которого на куске картона красовалась надпись: «Добро пожаловать». Учитель Квант, в праздничном костюме, вышел им навстречу, жена его накинула на плечи шотландскую шаль, чтобы не так бросалась в глаза ее беременность.
Сначала они осмотрели комнатку Каспара, расположенную на втором этаже. С одной стороны стена была скошена, но, в общем, комнатка выглядела премило. Над пестрым старинным канапе висела гравюра, изображавшая несказанно прекрасную девушку, в отчаянии протягивающую руки кому-то вослед. В кустах еще можно было разглядеть ноги беглеца и его развевающийся плащ. Противоположную стену украшали два маленьких матерчатых коврика с вышитыми изречениями. На одном стояло: «Поздно лег и рано встал, все вернул, что потерял»; на другом: «Надежды человеку милы от колыбели до могилы». Подоконник был уставлен горшками с комнатными растениями, радовал глаз вид, открывавшийся за невысокими крышами: заснеженные горы высились по обе стороны далеко простиравшейся долины.
Трудно приходилось Каспару, смотревшему в окно; прежние представления, не имевшие теперь под собою почвы, отягощали его душу: езда к далекой цели, дорога, весело бегущая впереди лошадей, облака расступаются, когда они подъезжают ближе, горы услужливо отодвигаются в сторону, воздух звенит чужедальней песней, леса и луга, деревни и городки пролетают в озаренном солнцем тумане, а горизонт, отодвигаясь, открывает все новые и новые миры.
Но этому не бывать!
Внизу в гостиной, казалось, еще идет пар от свежевымытых полов. Квант разъяснял лорду важнейшие пункты намеченной им программы воспитания. Изредка он взглядывал на Каспара, и взгляд его был пронзителен и напряжен, как у стрелка, всматривающегося в цель, прежде чем выстрелить.
Стэнхоп сказал, что почитает себя счастливым – наконец-то у Каспара появились виды на регулярное образование, все, чему его учили прежде, было произвольно и приблизительно. Если бы господин Фейербах не так настаивал на пребывании Каспара в Ансбахе (эти слова, видимо, предназначались для слуха юноши, молча внимавшего разговору), они сейчас уже были бы в Англии или на пути туда.
– Но поскольку он остается в бесспорно хороших руках, – добавил лорд, – то я все же рад, убеждаясь, что иной раз даже насильственные действия приводят к полезным результатам.
Слова его звучали сухо, как будто не он их произносил, а его шляпа или трость. Комплимент, им отпущенный, был давно стертой монетой, но Кванта точно маслом по сердцу смазали. Он заметно оживился и сказал, что, по его мнению, Каспару следовало бы сегодня же к ним перебраться. Стэнхоп взглянул на поникшего Каспара и улыбнулся ему принужденной улыбкой.
– Не будем так спешить, – сказал он, – завтра утром я прикажу доставить сюда багаж, а сегодня пусть Каспар еще побудет со мной.
Было уже темно, когда они оба вышли на улицу. Квант проводил их и постоял у двери, потом, по своей привычке, медленно и бесшумно затворил ее, вошел в комнату, скрестил обе руки на груди и, наверно, с четверть минуты простоял так, удивленно покачивая головой.
– Что это ты головой качаешь? – поинтересовалась фрау Квант.
– Не понимаю, ничего не понимаю, – растерянно ответил учитель и, потупив взор, стал бродить по комнате, словно ища что-то упавшее на пол.
– Чего ты опять не понимаешь? – с досадой спросила жена.
Квант пододвинул стул, сел рядом с нею, пристально на нее взглянул своими белесыми глазами и продолжал:
– Скажи, милая Иетта, заметила ты в нем что-нибудь особенное, что-нибудь отличающее его от всех других людей?
Фрау Квант расхохоталась.
– Заметила только, что он не слишком вежлив и ходит в шелковых чулках, точно маркиз, – отвечала она.
– Да? Ты считаешь? Не очень-то вежлив и чулки шелковые, верно, верно, – проговорил Квант с такой поспешностью, словно он стоял на пороге великого открытия. – Ну, от шелковых чулок мы его отучим и от модной жилеточки тоже; для нашего скромного дома это не подходит. Но я спрашиваю тебя, понимаешь ли ты людей, понимаешь ли свет? О нем уже годами говорят, как о чуде, небывалом чуде! Умные люди, люди со вкусом, образованные люди затевают споры из-за него, честное слово, это непостижимо. Неужели никто не умеет взглянуть на него собственными, данными ему богом глазами? Что все это значит?
Тем временем Каспар и лорд пришли в гостиницу. Стэнхоп пребывал в не слишком радужном настроении. Молчаливость Каспара выводила его из себя; ему казалось, что кто-то, скрытый за занавесом, навел на него пистолет.
Тревожное чувство человека, загнанного в тупик, мучило его. Существует точка, в которой, как на узкой тропе над пропастью, сходятся судьбы, и решение становится неизбежным. Тогда с языка срываются непрошеные слова, и демоны встают ото сна.
Стэнхоп дернул сонетку, велел слуге зажечь свет и принести дров для камина. Через несколько минут тот же слуга доложил о надворном советнике Гофмане. Лорд не пожелал его принять и приказал больше ни о ком не докладывать. Он начал перебирать свои бумаги и, не отрываясь от этого занятия, спросил Каспара:
– Как тебе понравились учитель и его жена?
Каспар толком не знал, понравились ли они ему, и ответил весьма неопределенно. На самом деле он уже не помнил, как выглядел господин Квант, его супруга, его дом.
Помнил только, что фрау Квант пила кофе из блюдца да еще вприкуску, что очень его насмешило.

Внезапно Стэнхоп обернулся и с видом человека, уже теряющего терпение, спросил:
– Что это за выдумки с перстнем? Что ты хотел этим сказать?
Каспар ничего не ответил и в печальном своем упорстве смотрел прямо перед собой. Стэнхоп подошел, ткнул его пальцем в плечо и злобно сказал:
– Отвечай, не то горе тебе!
– У меня и без того довольно горя, – мертвым голосом отвечал Каспар. Он посмотрел на Стэнхопа, как смотрят на что-то склизкое, мгновенно отвел глаза и стал смотреть на отблеск огня, плясавший по темно-красным обоям.
Что мог он сказать? Ведь чувство его к Стэнхопу, который впервые указал ему путь, впервые заговорил с ним, как человек с человеком, оставалось почти неизменным. Поведать ему о страшной ночи в доме господина Тухера, когда он, Каспар, сидел, прижав руки к растерзанному сердцу, одинокий, покинутый, и мир был украден у него? Поведать о том, как он начал искать, искать, как разгребал время, точно землю в саду, как потом занялся день и он убежал, как смотрел на детей, на реку, как преклонил колена перед дубом. И все было по-другому, чем когда-либо, и сам он был другим: освобожденный от незнания, он по-новому смотрел на мир… Невозможно передать это словами, ибо нет таких слов.
Он продолжал смотреть в пустоту, в то время как Стэнхоп, заложив руки за спину, расхаживал из угла в угол и время от времени бросал, неохотно, отрывисто:
– Ты в чем-то меня винишь? Мне следует перед тобой оправдаться, не так ли? Goddam[16]16
Проклятие (англ.).
[Закрыть], я боролся за тебя, как за собственную плоть и кровь, я поставил на карту свое состояние и свою честь, не страшился унижений, затесался в толпу простолюдинов и педантов, чего ж тебе еще? Тот, кто требует от меня невозможного, – не друг мне. Не все еще кончено, Каспар, не весь клубок размотан, я еще сумею постоять за себя, но я запрещаю тебе говорить со мной как с должником, придираться к каждой букве, проставленной на моем векселе, и подвергать сомнению мою добрую волю. Если ты предъявляешь мне требования, вместо того чтобы с благодарностью принимать то, что я для тебя сделал, то нашей дружбе конец.
«Что он такое говорит», – думал Каспар, не в силах даже уследить за словами лорда.
Далее Стэнхопу пришло на ум, что у Каспара появился некий тайный доброжелатель, нашептывающий ему слова одобрения и житейскую мудрость, ибо он видел и со страхом осознавал, что перед ним уже не прежнее безвольное существо. Он в упор спросил об этом Каспара, надеясь застать его врасплох, но у того сделалось такое удивленное лицо, что лорд немедленно отказался от своих подозрений. Каспар молитвенно сложил руки и сказал, как всегда, силясь говорить отчетливо, что он и в мыслях не имел чем-либо огорчить Стэнхопа. И тем, что он перестал носить кольцо, тоже. Только вот случилось нечто, касающееся сказок, тех сказок, что вечно ему рассказывали, сказок о нем самом. Он их слушал, но никогда толком не понимал. Это все равно как он в тюрьме играл с деревянной лошадкой и разговаривал с ней, а она ведь была неживая.
– Но теперь, – запнувшись, добавил он, – теперь моя деревянная лошадка ожила.
Стэнхоп вскинул голову.
– Что? Как ты сказал? – испуганно крикнул он. – Выражайся яснее. – Высокомерным движением он поднес лорнет к глазам и бросил хмурый взгляд на Каспара, но это высокомерие разве что прикрывало его замешательство.
– Да, деревянная лошадка ожила, – многозначительно повторил Каспар.
Видно, этим ребяческим символом он думал выразить все, что прочитал во внезапно ему открывшемся лике прошлого. Возможно, он стал догадываться о силах, что определили его участь, и, уж во всяком случае, понял правду, страшную непостижимую правду своего долгого заключения в башне, беззакония, превращавшего его в полуживотное. Возможно, ему уяснилось, что в основе его злосчастья лежало нечто ему неведомое, но бесконечно ценимое людьми, что его право на это неведомое оставалось в силе, и стоило ему заявить о своем существовании, заявить, что он знает все, и произволу придет конец, и ему немедленно возвратят то, чего он был кощунственно лишен.
Таков приблизительно был ход его мыслей. И еще: случилось, что лорд, боясь за себя, боясь за своих работодателей, за будущее, за все здание, строить которое он помогал и которое, рухнув, низринуло бы в бездну его искалеченное тело, нашел и выговорил слово, волшебным и жутким светом осветившее для Каспара все то, великое и несказанное, что он смутно предчувствовал.
Ибо Стэнхоп чувствовал себя почти побежденным, у него не осталось охоты бороться с силой, как бы возникшей из ничего и, наподобие Ифрида из волшебной бутылки Соломона, все небо застлавшей мраком. «Я был слишком великодушен, – думал он, – и нерадив тоже; за нерасторопность платишься собственной шкурой. Не стоит будить лунатиков, а то они схватят вожжи и до смерти перепугают лошадей. Сласти приедаются, сейчас кашу надо посолить покруче».
Он сел к столу, насупротив Каспара, и начал сквозь зубы цедить слова, улыбаясь все той же мрачной и застывшей улыбкой:
– Мне кажется, я тебя понимаю. Нельзя поставить тебе в вину то, что ты сделал выводы из моих, признаюсь, немного неосторожных рассказов. Но сейчас я пойду дальше, и большей ясности тебе уже не надо будет домогаться. Я хочу взнуздать твою ожившую деревянную лошадку, и ты, если пожелаешь, будешь скакать на ней, сколько твоей душе угодно. Я тебя не обманул: по своему рождению ты равен могущественнейшим из земных владык, но ты жертва самого страшного коварства, которое когда-либо изобретал в своей ярости сатана. Если бы в мире царила только добродетель и нравственное право, ты бы не сидел здесь, а я бы не был вынужден тебя предостерегать. Слушай меня внимательно! Чем более обоснованны твои притязания, твои надежды, тем гибельнее они для тебя, ибо они дадут тебе возможность сделать лишь первый шаг к цели. Первое твое действие, первое слово неизбежно повлечет за собой твою смерть. Ты будешь уничтожен, прежде чем протянешь руку, чтобы взять то, что тебе принадлежит. Возможно, придет час, завтра, или через месяц, или через год, когда ты усомнишься в искренности моих слов, но заклинаю тебя: верь мне! Семижды запечатай свои уста. Бойся воздуха, бойся сна, они могут тебя предать. Возможно, придет день, когда ты осмелишься стать тем, кто ты есть. Но до тех пор, если тебе дорога жизнь, будь тише воды, ниже травы, и пусть твоя деревянная лошадка стоит в конюшне.
Каспар медленно поднялся с места. Ужас, как лавина, несущая обломки скал, гремел и грохотал вокруг него. Чтобы отвлечься, он со вниманием, уже граничившим с безумием, смотрел на неодушевленные предметы: стол, шкаф, стулья, подсвечник, гипсовые фигурки на камине, кочергу. Разве то, что он услышал, было ново, неожиданно? Нет! Все это, словно ядовитый воздух, его окружало. Но ведь чаяние, предчувствие – все еще не убийственное знание.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































