Текст книги "Каспар Хаузер, или Леность сердца"
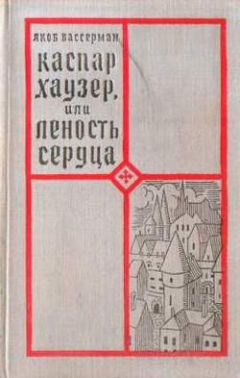
Автор книги: Якоб Вассерман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Загадка своего времени (лат.).
[Закрыть]
Через день, то есть в пятницу, когда Каспар вскоре после полудня собрался покинуть здание суда, на лестничной площадке перед последним маршем с ним заговорил какой-то незнакомый господин весьма почтенного вида, высокий, стройный, с черной бородкой и бакенбардами, который попросил уделить ему две-три минуты внимания.
Каспар остановился в смущении, ибо голос незнакомца звучал столь же настойчиво, сколь и почтительно.
Они отошли немного в сторону, где никто не мог им помешать. Заметив растерянность Каспара, незнакомец ободряюще улыбнулся и заговорил все так же настойчиво и почтительно:
– Вы Каспар Хаузер? Вернее, были им до сегодняшнего дня. Завтра вы отбросите это имя. С первого же взгляда на вас мне все уяснилось, я потрясен до глубины души. Принц, мой принц! Дозвольте мне поцеловать вашу руку!
Он нагнулся и запечатлел благоговейный поцелуй на руке Каспара.
У юноши слова замерли на языке. Он был похож на человека, у которого внезапно остановилось сердце.
– Я посланный вашей матери, приехал за вами, – продолжал незнакомец все так же быстро и в тоне глубочайшего уважения. – Думается, вы давно уже были готовы к этому. Но нам надо вести себя осторожно. На нашем пути серьезные препятствия. Вы должны бежать со мною. Все готово. Вопрос лишь в том, пожелаете ли вы безоговорочно мне довериться, и еще, смею ли я рассчитывать на ваше безусловное молчание?
Откуда могли у Каспара взяться силы ответить на такие слова? Он смотрел в лицо человека, с ним говорившего, и это лицо представлялось ему совсем необычным, словно явившимся из сказки, взгляд же его между тем был нелепейшим образом прикован к оспинам на носу и на щеках незнакомца.
– Ваше молчанье для меня достаточно красноречиво, – сказал тот с быстрым поклоном. – План мой таков: завтра в четыре часа пополудни вы придете в дворцовый сад к липовой аллее со стороны дома Фрейбергов. Вас проведут к экипажу, который уже будет наготове. Наступающие сумерки будут благоприятствовать нашему бегству. Приходите без верхней одежды – так, как вы сейчас здесь стоите; для вас будет приготовлено платье, соответствующее вашему рангу. На первой же станции возле границы – до нее мы домчимся за три часа – вы переоденетесь. Меня вы не знаете. Не следует верить на слово незнакомому человеку. Прежде чем вы сядете в экипаж, я вручу вам знак, несомненно свидетельствующий, что я прислан вашей матерью.
Каспар стоял не шевелясь. Но тело его едва приметно раскачивалось из стороны в сторону, словно весь он заледенел и ветер вот-вот его опрокинет.
– Могу я считать, что мы обо всем договорились? – спросил незнакомец.
Ему пришлось повторить свой вопрос. На сей раз Каспар кивнул, едва-едва склонив голову, ибо в горле у него, казалось, пылал огонь.
– Значит, мой принц, я могу ждать вас в условленный час на условленном месте?
Мой принц! Мертвенная бледность залила лицо Каспара, Он опять с жадным вниманием смотрел на оспины незнакомца. Затем кивнул вторично, и в этом движении была какая-то холодность, если не сонливость.
Незнакомец с подобострастной учтивостью приподнял шляпу, повернулся и исчез в направлении Шваненгассе.
Итак, во время этой сцены, длившейся минут восемь – десять, ни единое слово не сорвалось с уст Каспара.
Испытывал ли он радость? Или радость может быть такою, что холод пробирает человека до костей? Такою, что мурашки бегут у него по спине и он чувствует себя словно под струей ледяной воды?
Через каждые несколько шагов Каспар останавливался, ему чудилось, что земля расступается у него под ногами. «Люди, не попадайтесь мне навстречу, – думал он, – не сыпься на меня, снег; ветер, прекрати свое неистовство». Он стал смотреть на свою руку и в глубокой задумчивости дотронулся кончиком пальца до того места, на котором запечатлел поцелуй незнакомец.
Почему подмастерья еще работают, ведь время обеда, размышлял он, проходя мимо мастерской сапожника, А мороз все время пробегал у него по спине.
Прекрасно было сознавать, что с каждым шагом, с каждым взглядом, с каждой мыслью проходит время. Ибо все теперь сводилось к одному – чтобы побыстрей проходило время.
Придя домой, он сказал служанке, что не хочет есть, и заперся в своей комнате. Подошел к окну – слезы текли по его щекам – и тихо проговорил:
– Дукатус прибыл.
Мысли его были подобны полету ночных птиц. «До сегодняшнего дня я был Каспаром Хаузером, – думал он, – а с завтрашнего дня буду другим человеком; кто я теперь? Вчера еще – жалкий писец, а завтра, возможно, я надену голубую шинель с золотым шитьем; и шпагу мне должен дать Дукатус, длинную, узкую и прямую, как тростинка. Но неужели все правда, может ли это быть? Разумеется, может, ибо так должно быть».
Свет Каспар зажег, только когда уже совсем стемнело. Учительша послала узнать, не хочет ли он поесть. Каспар попросил кусок хлеба и стакан молока. Служанка немедленно принесла просимое. Потом он принялся опорожнять ящики своего стола; бросил в огонь целую кучу писем и бумаг, тетради и книги сложил почти в педантическом порядке. Открыл ларь, из-под всевозможного хлама извлек белую лошадку, которой играл еще будучи узником в башне. Он долго смотрел на нее: блестящую, белую с черными пятнами и длинным хвостом, спадающим до самой подставки. «Ох ты, моя лошадка, – думал он, – сколько лет ты была со мною и что теперь с тобой станется? Я приеду, заберу тебя, велю построить тебе серебряную конюшню». Он бережно поставил игрушку на угловой столик возле окна.
Невероятным кажется, что Каспар, человек с вещим сердцем, прошедший через столько разных испытаний, с первой же минуты так слепо уверовал во мнимое изменение своей участи, что даже искорка недоверия, страха или хотя бы удивленного сомнения не затлела в нем. Событие, по своей чрезвычайности выпадающее из обыденной жизни, поразительное в своей неожиданности и при этом до того неприкрашенное и шитое белыми нитками, что школьник, ребенок, сумасшедший исполнился бы подозрений; этот же человек, перед чьими глазами промелькнуло столько незакрытых лиц или лиц, разоблаченных своею виною, человек, для которого мир был тем же, чем было для ласточки, воротившейся с юга, гнездо, разоренное руками озорников-мальчишек, этот человек с неколебимой уверенностью схватил неведомую руку, протянувшуюся к нему из неведомого мрака, холодную, сухую, неподвижную руку.
Но у него ведь не оставалось другой надежды. Вернее – о надежде и речи быть уже не могло. Здесь же было нечто безусловно окончательное, потусторонне надежное, несомненное, не обозначаемое человеческим словом, невидимое, непредставимое, и свершилось это естественно и закономерно, как восход солнца. О, тело, измученное цепями, его отягощающими, медлительные минуты, молчаливые часы! Еще шуршит что-то за обоями, еще лает вдалеке собака, ветер еще швыряет снегом в окно, еще потрескивает фитиль зажженной свечи, и все это зло, ибо прочно и задерживает бег времени.
В девять Каспар лег в постель и крепко уснул, но ночью слышал, как каждые пятнадцать минут бьют часы на церковных башнях. Время от времени он приподнимался и мучительно вглядывался в темноту. Потом ему привиделся сон, в котором неприметно смешались явь и мечтание. Будто он стоит перед зеркалом и думает: «Как странно, я ясно ощущаю гладкость зеркального стекла, а между тем это сновидение». Он проснулся, или ему почудилось, что проснулся, встал с кровати, или это тоже ему почудилось, что-то переставил и передвинул в комнате, опять лег, заснул, снова проснулся и стал раздумывать: «Неужто зеркало и все прочее мне приснилось?» Теперь он и впрямь подошел к зеркалу, увидел себя и какие-то тени вокруг, это было страшно, и ужас объял его, тогда он закрыл зеркало синим платком с золотою каймой. Когда он, наконец, лег и через некоторое время действительно проснулся, ему стало ясно, что все это было сном, ибо ничто не закрывало зеркало.
Долгой была эта ночь.
Утром он, как всегда, отправился в суд и писал там словно бы с завязанными глазами. Ровно в одиннадцать он захлопнул чернильницу, аккуратно прибрал бумаги на своем столе и тихо вышел.
Квант не обедал дома из-за какой-то учительской конференции. Каспар сидел за столом вдвоем с учительшей. Она все время говорила о погоде.
– У нас ветром сорвало трубу с крыши, – рассказывала она, – а нашего соседа-сапожника Вюста чуть не убило свалившимся кирпичом.
Каспар молча смотрел в окно, но не видел даже здания напротив; снег и дождь вперемешку кружились над потемневшей улицей.
Каспар поел только супу, когда подали жаркое, он поднялся и ушел в свою комнату.
Ровно в три он опять спустился вниз в своем поношенном коричневом сюртуке, без шинели.
– Куда это вы собрались, Хаузер, – крикнула ему из кухни учительша.
– Мне надо взять кое-что у генерального комиссара, – спокойно ответил Каспар.
– Без шинели? В такой-то холод, – удивленно сказала она, появляясь в дверях.
Он скользнул рассеянным взглядом по своей одежде, потом сказал:
– Всего хорошего, фрау Квант, – и ушел.
Прежде чем закрыть за собою входную дверь, он бросил прощальный взгляд на сени, на узорные перила лестницы, на старый коричневый шкаф, с окованными медью углами, стоявший между кухонной и столовой дверью, на мусорное ведро в уголке, полное картофельных очистков, сырных корок, костей, щепок и осколков стекла, на кошку, которая вечно разнюхивала здесь, чем бы поживиться. Хоть это и был лишь мимолетный взгляд, Каспару показалось, что никогда он не видел всего этого так отчетливо и раздельно.
Когда дверной замок защелкнулся, нестерпимая тяжесть, давившая грудь юноши, слегка отпустила, и губы его сложились в слабую улыбку.
«Учителю я напишу, – думал он, – или нет, лучше сам к нему приду; вот кончится зима, и я сюда подъеду в карете, подгадаю так, чтобы прибыть в обеденное время, когда он дома. Он выйдет мне навстречу, но я не подам ему руки, притворюсь, что я не я, в моем новом пышном платье где ему меня узнать. Он отвесит мне низкий поклон и скажет: «Не угодно ли вашей милости войти в мой дом?» Когда мы будем в комнате, я встану перед ним и спрошу: «Ну, теперь вы меня узнаете?» Он упадет на колени, я же протяну ему руку и скажу: «Вот вы и убедились, что были ко мне несправедливы!» Он признает свою вину. «Ладно, – скажу я, – покажите-ка мне лучше ваших детей и пошлите за лейтенантом полиции». Детям я привезу подарки, а когда явится лейтенант, я ни слова ему не скажу, буду только смотреть на него, смотреть, смотреть…»
На церкви св. Гумберта пробило половину четвертого. Значит, еще слишком рано. На Нижнем рынке Каспар прошелся вдоль домов, а возле дома пастора немного постоял в раздумье. Из-за внутреннего жара, его сжигавшего, он не чувствовал холода. На улице лишь изредка мелькали подгоняемые ветром пешеходы.
Когда он свернул направо от придворной аптеки к Дворцовому проходу, пробило три четверти. Кто-то его окликнул, Каспар поднял голову, вчерашний незнакомец стоял рядом с ним. На нем была шинель с несколькими воротниками и поверх еще меховая пелерина. Он поклонился и сказал несколько учтивых слов. Каспар ни одного из них не расслышал, ветер дул с такой силой, что надо было кричать, чтобы слышать друг друга. Посему незнакомец жестом попросил у Каспара разрешения следовать за ним. По-видимому, он как раз направлялся к месту условленного свидания.
До дворцового сада оставалось каких-нибудь несколько шагов. Незнакомец открыл калитку и пропустил Каспара вперед. Каспар первым вошел в сад, словно это было чем-то само собой разумеющимся. На лице его появилось простодушно-смиренное и в то же время спокойно-горделивое выражение, мгновенно уступившее место выражению ужаса, ибо слишком грандиозен был этот миг, слишком невыносим в своем величии. За время, которое требовалось юноше, чтобы от калитки пройти через густо запорошенную снегом площадку перед оранжереей до деревьев первой аллеи, перед его мысленным взором предстали не связанные между собою сцены далекого прошлого, – явление, которое психологи могли бы отнести к тому же разряду феноменов, как и то, что перед падающим с башни за краткий миг падения проходит вся его жизнь. Каспар вдруг увидел дрозда с распростертыми крылышками, лежащего на столе; затем с невероятной отчетливостью – кружку, из которой пил воду в тюрьме; красивую золотую цепь, лорд достал ее из шкатулки с драгоценностями и показывал ему, он ощутил еще и приятное прикосновение белой узкой руки Стэнхопа; далее он увидел себя в зале нюрнбергского замка, туда его привел Даумер, и он не в силах был отвести взор от мягкой линии готической оконной арки, восторг, им испытываемый тогда, еще был бессознательным.
Они подошли к перекрестку, незнакомец обогнал Каспара и, подняв руку, подал кому-то знак. Каспар приметил за кустами еще двоих, чьи лица были скрыты поднятыми воротниками.
– Кто эти люди? – спросил он и помедлил, полагая, что они уже дошли до условленного места.
Он искал глазами карету. Но из-за вьюги видно было не дальше чем на десять локтей.
– Где карета? – снова спросил он. Поскольку незнакомец не ответил ни на один из вопросов, Каспар растерянно взглянул на двоих за кустами. Те приблизились или ему это только померещилось? Что-то они крикнули человеку с изрытым оспой лицом. Сначала один, потом другой. Затем опять отошли и теперь уже стояли на обочине с другой стороны дороги.

Незнакомец обернулся, вытащил из кармана шинели лиловый мешочек и хрипло проговорил:
– Откройте, в нем вы найдете знак, врученный нам вашей матерью.
Каспар взял мешочек. Покуда он тщился развязать шнурок, его стягивавший, незнакомец поднял кулак с зажатым в нем длинным блестящим предметом; рука его метнулась к груди Каспара.
«Что это?» – недоуменно пронеслось в мозгу юноши. Он почувствовал, как что-то холодное глубоко вошло в его тело. «Бог ты мой, да это же колется», – успел он подумать, но тут его шатнуло, и он выронил мешочек.
О, ужас, безмерный ужас! Каспар схватился за ствол ближайшего деревца, хотел крикнуть, но не смог. Колени у него подогнулись, в глазах потемнело. Хотел попросить незнакомца помочь ему, но ноги этого человека, секунду назад стоявшие перед ним, исчезли. Темная пелена упала с глаз юноши, он огляделся; поблизости никого не было, даже тех двоих за кустами.
Тогда он пополз на четвереньках вдоль кустов, низко опустив голову, чтобы защитить лицо от колючей снежной пыли, которую ветер гнал ему навстречу. Он двигался, словно ища нору, в которую можно было бы заползти, но изнемог и остался сидеть. Ему чудилось, будто что-то сочится в самой глубине его тела. Теперь он мерз уже нестерпимо.

Надо посмотреть, что там в мешочке, подумал он, зубы его стучали. О, безмерный ужас, не позволивший ему взглянуть на то место, где за минуту перед тем стоял незнакомец.
«Если бы я знал слово, от которого мне станет легче», – думал он с детской верою в волшебство заклинаний. И дважды повторил: «Дукатус».
Чудо свершилось: он вдруг почувствовал облегчение. Ему показалось, что он в состоянии подняться и дойти до дома. Он и вправду поднялся. Понял, что может ходить. Сделав несколько неуверенных шагов, побежал. Тело его словно бы не имело веса, и он, казалось ему, не бежит, а летит. Он бежал, бежал. Бежал до калитки сада, через дворцовую площадь, через рынок мимо церкви, до Кронахского бука, до Квантова дома, бежал, бежал, бежал.
Весь в поту, он ворвался в сени. И больше не мог ступить ни шага, задыхаясь, он прислонился к стене. Первой увидела Каспара служанка. Испуганная его видом, она громко вскрикнула. Квант появился из комнаты, за ним жена.
Каспар смотрел на них, но ничего не говорил, только показывал на свою грудь.
– Что случилось? – кратко и сурово спросил Квант.
– Дворцовый сад… укололи меня, – лепетал Каспар.
А Квант? Мы видим, что он ухмыляется. Да, видим, что он ухмыляется. И если бы столетия, облаченные в пурпур, как ангелы господни, подступили к нам, заклиная не искажать факты, мы могли бы сказать лишь одно: Квант ухмылялся, как-то странно ухмылялся.
– Куда же вас укололи, мой милый? – спросил он, растягивая слова.
Каспар снова указал на свою грудь.
Квант расстегнул на нем сюртук, жилет и рубашку, чтобы посмотреть на рану. Правда, на груди у него был прокол, величиною с лесной орех, но вокруг ни следа крови. Раны без крови не бывает, как не бывает утверждения без доказательств.
– Укололи, значит, – произнес Квант. – В таком случае немедленно идемте обратно, и вы мне покажете место в дворцовом саду, где это произошло, – энергично добавил он. – А что, спрашивается, вам понадобилось в дворцовом саду в этот час и при такой погоде? Марш, идемте за мной! Это дело должно быть выяснено немедленно.
Каспар покорно потащился вслед за учителем на улицу. Кванту пришлось взять его под руку, как дряхлого старика.
После долгого молчания Квант злобным голосом сказал:
– На сей раз вы совершили самую дурацкую из своих проделок, Хаузер. И она уже не кончится столь благополучно, как кончилась с учителем Даумером, за это я вам ручаюсь.
Каспар остановился, бросил быстрый взгляд на небо и пробормотал:
– Господу… ведомо…
– Оставьте ваши штуки, – заорал Квант, – я что знаю, то знаю. Сколько бы вы не взывали к господу богу, меня вы этим не купите, вы безбожник с головы до пят, и мне это известно. Рекомендую вам больше не разыгрывать из себя немую из Портичи[21]21
Героиня одноименной оперы французского композитора Обера (1782–1871).
[Закрыть] и немедленно во всем признаться. Вздумали малость припугнуть нас и вдобавок всех перессорить. Укололи его! Кто же это, интересно, вас уколол? И зачем? Чтобы вытащить несколько жалких грошей из вашего кармана? Чушь какая! Идите немного быстрее, Хаузер, у меня мало времени.
– Мешочек… Я хочу взять мешочек, – тихонько пробормотал Каспар.
– Какой еще мешочек?
– Незнакомец… дал мне его.
– Какой незнакомец?
– Который меня уколол.
– Но, Хаузер, это же бог знает что! Неужто вы воображаете, что я верю в этого незнакомца? Не больше, чем в черного Петера. Или вы сомневаетесь, что мне известно, кто это сделал? Признайтесь лучше! Признайтесь, что вы сами легонько себя укололи. Я и об этом смолчу – еще раз окажу вам милость.
Каспар плакал.
Они уже почти дошли до дворцового сада, когда силы оставили Каспара. Квант был совершенно сбит с толку. Навстречу им попались несколько парней, он попросил их отвести юношу домой, ему самому-де нужно зайти в полицию. Парням пришлось довольно долго дожидаться, прежде чем Каспар немного очнулся, но и тогда им нелегко было заставить его идти.
Позднее врачи сочли непостижимым, что человек с такою страшною раной в груди смог проделать путь от дворцового сада до дома учителя, затем от дома учителя до дворцовой площади и, наконец, от дворцовой площади снова до дома учителя, первый раз бегом, второй – опираясь на руку Кванта и третий, поддерживаемый парнями, но так или иначе сделать более тысячи шестисот шагов.
Когда Квант направился к ратуше, уже стемнело. Дежурный чиновник объяснил ему, что без специального разрешения бургомистра, который в данный момент находится в водолечебнице, никакие заявления не принимаются. Учитель немножно поболтал с ним и с неохотой отправился в деревню Клейншротт, до которой от города было минут пятнадцать ходу. Там он застал бургомистра, распивавшего пиво в кругу своих приближенных. Квант доложил о случившемся. В ответ послышались удивленные, недоверчивые возгласы, кто-то произносил горячие речи в защиту Каспара, кто-то предложил встать на формально-законную точку зрения, и в конце концов бургомистр дал разрешение на снятие протокола. В шесть часов сей интереснейший документ, уже при свете фонарей, был передан в городской суд для доследования.
Квант отправился домой. На улице перед его домом толпилось множество людей разных сословий, явившихся сюда, несмотря на непогоду, и стоявших в полном молчании, что очень и очень озадачило учителя. Он немедленно поднялся в комнату Каспара, которого тем временем уложили в постель. У него находился доктор Хорлахер, уже успевший осмотреть рану.
– Как дела? – поинтересовался Квант.
Доктор отвечал, что причины для серьезных опасений не имеется.
Вошел надворный советник Гофман. Полицейский принес ему лиловый мешочек, найденный на месте преступления.
– Известно вам, что это такое? – спросил надворный советник.
Блестящими от жара глазами Каспар смотрел на мешочек, который сейчас развязывал Гофман. В нем лежала записка, как всем поначалу показалось, испещренная иероглифами.
Учительша, стоявшая возле кровати Каспара, покачала головой. Потом отвела мужа в сторону и шепнула:
– Странное дело, Хаузер всегда складывает свои письма точно так, как сложена эта записка.
Квант кивнул и подошел к надворному советнику, который пристально вглядывался в записку и потом потребовал ручное зеркальце.
– Зеркальное письмо, как видно, – улыбнулся он.
– Да, – отвечал надворный советник, – какое нелепое.
Держа в одной руке записку, а в другой зеркало, он прочитал: «Каспар Хаузер сможет рассказать вам, каков я из себя и кто я есть. Чтобы избавить его от труда, а также потому, что он может и промолчать, я сам скажу, откуда я Прибыл. Прибыл я с реки у баварской границы. Я открою вам даже свое имя: M. Л. О.».
– Это же звучит как прямая насмешка, – удивленно помолчав, произнес, наконец, надворный советник.
Квант горестно кивнул.
Каспар, услышав прочитанные слова, тяжело уронил голову на подушки; бесконечное отчаяние отобразилось на его лице. Он сомкнул губы так, словно решил никогда больше не говорить ни слова. Но то, что он мог бы заговорить, чего, видимо, не предусмотрел этот M. Л. О., исполнило его лихорадочным торжеством.
Квант, держа в руках записку, которую ему передал надворный советник, взволнованно шагал из угла в угол.
– Недурная проделка, – воскликнул он, – очень недурная! Вы надругались над состраданием своих современников, Хаузер, и вас следовало бы хорошенько высечь, ничего другого вы не заслуживаете.
Гофман нахмурился.
– Спокойнее, господин учитель, оставьте эти разговоры, – сказал он необычно серьезным тоном. И, прежде чем уйти, пообещал завтра утром прислать окружного врача, из чего явствует, что и он не подозревал о непосредственной опасности.
Между тем окружной врач, медицинский советник Альберт, явился в тот же вечер, уступив просьбам фрау Имхоф. Он тщательно осмотрел Каспара, и лицо его приняло весьма серьезное выражение. Квант странным образом воспринял это, как обиду, и сказал тоном, едва ли не вызывающим:
– Из раны ведь даже кровь не идет.
– Кровь сочится вовнутрь, – отвечал медицинский советник, удостоив учителя лишь мимолетным взглядом. Он поставил Каспару на сердце горчичники и предписал полный покой.
Квант схватился за голову.
– Может ли быть, – сказал он жене, – что этот малый из легкомыслия нанес себе серьезный вред.
Учительша промолчала.
– Я в этом сомневаюсь, не могу не сомневаться, – продолжал Квант. – Смотри сама, такой неженка, а даже не жалуется на боли.
– Он и на вопросы не отвечает, – добавила учительша.
Около девяти вечера Каспар начал бредить. Квант был убежден, что это притворство. Когда Каспар попытался выпрыгнуть из постели, он заорал на него:
– Перестаньте так отвратительно себя вести, Хаузер! Немедленно ложитесь.
В эту минуту на пороге показался пастор Фурман.
– Что вы делаете, Квант! – гневно воскликнул он. – Немножко кротости, Квант, во имя нашей веры.
– О, – Квант покачал головой, – кротость здесь неуместна. В Нюрнберге, где Хаузер разыграл не менее омерзительную комедию, он вел себя точно так же, должен заметить, что его при этом держали два человека. Что касается меня, то я таких спектаклей в своем доме терпеть не намерен.
Фрау фон Имхоф прислала больничную сиделку, которая всю ночь бодрствовала возле Каспара. Сном он забылся всего часа на два или три.
С самого утра в дом Кванта явилась правительственная комиссия. Каспар был в полном сознании. На вопрос следователя он ответил, что незнакомый господин велел ему прийти к артезианскому колодцу в дворцовом саду.
– С какой целью?
– Не знаю.
– Он ничего вам об этом не сказал?
– Нет, сказал, что можно будет осмотреть глинистые породы колодца.
– И после этих слов вы за ним последовали? Как он выглядел?
Каспар коротко, отрывисто, с трудом выговаривая слова, описал незнакомца и то, как он ударил его кинжалом. Больше у него ничего выведать не удалось.
Суд объявил розыск свидетелей. Свидетели явились. Слишком поздно для преследования преступника. Уже с первой возможной уликой, отчасти по вине Кванта, произошла недопустимая задержка. Когда следственные власти собрались исследовать следы крови на месте преступления, оказалось, что там побывало множество людей, потоптавших и разворошивших снег. Итак, на выяснении столь важных для дела обстоятельств пришлось сразу же поставить крест.
Свидетелей нашлось предостаточно. Хозяйка почтовой станции на Розенгассе показала, что около двух часов к ней зашел человек, которого она никогда раньше не видывала, и спросил, когда отойдет обратный дилижанс на Нердлинген. Человеку этому с виду было лет тридцать пять, роста среднего, смуглый, с оспинами на лице.
На нем была синяя шинель с меховым воротником, круглая черная шляпа, зеленые панталоны и сапоги с желтыми шпорами. В руках он держал хлыст. Просидел он не больше пяти минут и говорил очень мало; ее удивило, что он не пожелал сказать, где проживает.
Асессор Доннер точно так же описал человека, встреченного им около трех часов в дворцовом саду неподалеку от липовой аллеи, в компании двух других, которых он, асессор, не разглядел.
Зеркальный мастер, некий Лейх, за несколько минут до четырех вышел из своего дома и по новой дороге через Постштрассе отправился на Променад, а оттуда на дворцовую площадь. Проходя мимо дворца, он заметил двоих мужчин, которые, оставив слева дорожку для верховой езды, двинулись к дворцовому саду. В одном из них он признал Каспара Хаузера. Когда оба дошли до углового фонаря, Каспар Хаузер обернулся и посмотрел на дворцовую площадь, так что он, Лейх, еще раз отчетливо его увидел. У калитки незнакомый человек остановился и с вежливым жестом пропустил Хаузера вперед. Тут он, Лейх, подумал: «И что эти господа задумали прогуливаться в такую пургу?»
«Через три четверти часа, – продолжал мастер, – когда я сделал свои покупки у Бюттнера и возвращался домой, на дворцовой площади толпились люди, они охали и говорили, что Хаузера закололи в дворцовом саду».
Далее: младший садовник, работавший в оранжерее, около четырех часов услышал голоса. Выглянув в окно, он увидел бегущего человека. Человек в шинели бежал сломя голову. Голоса слышались приблизительно на расстоянии ружейного выстрела от оранжереи, но ближе, чем стоит памятник Уцу[22]22
Немецкий поэт эпохи Просвещения.
[Закрыть]. Он разобрал два голоса, бас и звонкий молодой.
Возле мельницы живет швея. Окно ее комнаты выходит в дворцовый сад, из него видны две аллеи, ведущие к деревянному храму. В сгущающихся сумерках швея заметила человека в шинели, он вышел из новых ворот и спустился по луговому склону. Но, завидев вздувшуюся реку, остановился. Повернул обратно к мельнице, по мосткам прошел на Эберштрассе и скрылся из глаз. Женщина успела разглядеть только его черную бороду.
Для дачи свидетельских показаний явился и писец Дильман. У старого канцеляриста вошло в привычку каждый день, несмотря ни на какую погоду, два часа прогуливаться по дворцовому саду. Он, однако, заверил следователя, что Каспар шел не впереди, а позади незнакомца.
– Он плелся за ним, как овца плетется на бойню за мясником, – закончил старик свои показания.
Поздно. Ни к чему уже это рвение. Ни к чему дозоры и беглые грамоты, разосланные полицией. Ни к чему уже отводить реку Рецат в новое русло, в чаянии найти орудие убийства, которое незнакомец мог ведь и зашвырнуть куда-нибудь подальше. Да и что толку, если бы кинжал и нашелся.
Что толку было от свидетелей? Допросов? Что толку от косвенных улик, которыми мешкотная юстиция хвастливо приукрашала свою бездарность? Поговаривали, что следствие ведется беспорядочно и бестолково. Поговаривали, что в этом деле замешана таинственная рука, которая мало-помалу злокозненно стирала следы преступления и сбивала с толку следствие. Кто именно распускал эти слухи, установить, конечно, не удалось, ибо общественное мнение столь же трусливо, сколь и неуловимо и ораторствует только из надежного укрытия. А вскоре оно и вовсе умолкло там, где клевета, злоба, ложь, глупость и ханжество, как жерновами, размалывали прекрасное человеческое дитя, покуда не осталась от него всего-навсего жалостная сказка, которую, греясь у печки в суровые зимние вечера, рассказывали друг другу обитатели здешних мест.
Под вечер в воскресенье Квант встретил на улице молодого Фейербаха, философа.
– Как себя чувствует Хаузер? – спросил он учителя.
– Спасибо за внимание, господин доктор, он вне всякой опасности, – словоохотливо отвечал Квант, – правда, у него началась желтуха, но это обычное следствие сильного волнения. Я убежден, что через несколько дней он уже будет на ногах.
Они еще поговорили о том, о сем, в первую очередь о железной дороге, которая должна была соединить Нюрнберг с Фюртом, причем Квант обрушил на это начинание целую лавину скепсиса, затем он распрощался со своим скромным молодым собеседником с благодарным видом восторженно приветствуемого оратора и поспешил домой, все время чему-то про себя ухмыляясь. Он пребывал в том благодушнейшем настроении, когда человек готов быть снисходительным и к злейшим врагам своим. Почему? Одному богу известно. Может быть, из-за хорошей погоды. Не следует забывать, что Квант в душе был немного поэт! А может быть, потому, что близилось рождество, праздник, сулящий душевное обновление каждому доброму христианину? Или, наконец, потому, что в последние дни столько знатных и видных лиц посещало его скромный дом, он же в этом скромном доме, бесспорно, занимал первенствующее положение. Короче говоря, он был доволен собой, и ухмылка его, несомненно, шла из чистейшего источника.
У своего дома он столкнулся с лейтенантом полиции.
– Ах, уже возвратились из отпуска, – с бездумным дружелюбием приветствовал его учитель. И тотчас же сказал себе: «Ну, с этим я еще поквитаюсь».
Хикель зажмурился, вид у него был такой, словно он вот-вот расхохочется.
Они вместе поднялись наверх.
Каспар сидел на кровати, обнаженный до пояса и неподвижный, как статуя; лицо у него было серое, словно из пемзы, кожа на теле, напротив, сияла ослепительной белизной, как вспышка магния. Врач только что снял повязку с раны и промыл ее. Кроме него, в комнате находился еще актуарий следственной комиссии. Он сидел за столом, перед ним лежал протокол, в котором было кратко записано: «Подследственный настаивает на своих прежних показаниях». О пойманном разбойнике с большой дороги нельзя было бы выразиться изящнее.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































