Текст книги "Каспар Хаузер, или Леность сердца"
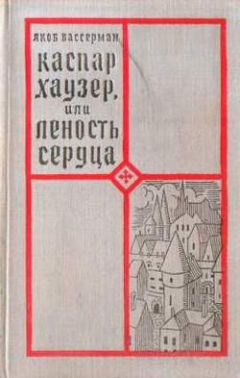
Автор книги: Якоб Вассерман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Каспар прилег на канале в своей комнате. Стоял жаркий августовский день, грозовые тучи обложили небо, мимо окна, боязливо чирикая, то и дело пролетали ласточки, знойный воздух жужжал и звенел в тесной мансарде. Усталый после бессонной ночи, Каспар быстро уснул и проснулся, лишь когда кто-то с силой потряс его за плечо. Перед ним стояли Квант и Хикель; Каспар приподнялся, протер глаза и молча посмотрел на обоих. Хикель привычно-официальным жестом застегнул мундир на все пуговицы и сказал:
– Я вам приказываю, Хаузер, вручить мне дневник.
Каспар встал, тяжело дыша, и отвечал с твердостью, внушенной скорее внутренним принуждением, нежели смелостью:
– Господин лейтенант полиции, я вам дневника не отдам.
Квант всплеснул руками и жалобно воскликнул:
– Хаузер, Хаузер, вы слишком далеко заходите в своем уже отнюдь не детском упорстве!
Каспар окинул обоих взглядом, полным отчаяния, губы его дрожали, когда он проговорил:
– Разве я чья-то собственность? Разве я животное? Что вам от меня нужно? Я ведь уже сказал, что сжег тетрадь!
– Не собираетесь же вы отрицать, Хаузер, что сегодня писали при свече? – настойчиво домогался Квант, – Писем вам никаких писать не надо было, уроки вы сделали днем.
Каспар молчал, не зная, что сказать.
– Хорошему человеку вообще нечего страшиться, если кто-нибудь и прочтет его дневник, – продолжал Квант, – напротив, он будет рад, что люди убедятся в его беспорочности. А у вас, мой милый Хаузер, меньше чем у кого-либо оснований утаивать свой дневник.
– Как долго нам еще придется ждать? – с учтивой холодностью осведомился Хикель.
– Нет, лучше мне умереть, чем терпеть все это, – крикнул Каспар и поднял руку, чтобы закрыть ею лицо.
– Полно, полно, – заговорил встревожившийся Квант, – мы же хотим вам добра, Хаузер, как я, так и господин лейтенант.
– Разумеется, – поддакнул Хикель, – и вообще я должен вам сказать, что в данное время смерть для вас не наилучший исход. Учитывая данные обстоятельства, на вашем надгробии можно было бы прочитать: здесь лежит обманщик Каспар Хаузер.
– Не говоря уж о том, что подобная надпись свидетельствовала бы о низком поведении, – поучительно добавил Квант, – и о позорной трусости души.
– На что мне жизнь, если меня с утра до ночи мучат такими разговорами и не верят мне, – упавшим голосом отвечал Каспар, – я ведь и прежде не жил и долго не знал, что живу.
Хикель меж тем прохаживался вдоль стены и как бы ненароком, то там, то здесь, постукивал по ней согнутым пальцем. Внезапно он остановился, картина над канапе, видимо, привлекла его внимание. Улыбаясь, он снял ее с гвоздя и нажал на шарнир, доска отодвинулась.
Каспар смертельно побледнел и задрожал, как осиновый лист.
Но когда Хикель, ухмыляясь, взял в руки синюю тетрадь, непостижимая перемена произошла в юноше. Казалось, он вырастает на глазах и вот уже стал выше на целую голову. Он шагнул к лейтенанту. Лицо его преобразилось, приняло гордое и величественное выражение. Пылающий взор повелевал. Хикелю почудилось, что сейчас он будет раздавлен или растоптан, медленно, как зачарованный, он стал отступать к двери. Холодный пот выступил у него на лбу, когда Каспар двинулся вслед за ним, протянул руку, выхватил тетрадь из сжимавших ее пальцев, разорвал пополам, каждую половину еще раз пополам, потом еще раз, покуда мельчайшие обрывки бумаги не усыпали пол.

Кто знает, что бы произошло, если бы появление четвертого действующего лица мгновенно не изменило положения вещей. Пастор Фурман, проходя мимо, решил зайти к Каспару, спросить, почему тот не явился на урок. Переступив порог, он, видимо, сразу почувствовал, что здесь происходит, и молча переводил взгляд с одного на другого. Квант, с ужасом взиравший на разыгравшуюся сцену, с трудом пришел в себя и смущенно проговорил:
– Зачем это вы стружек понаделали, Хаузер?
Хикель большими шагами прошел по комнате, отдал честь пастору и направился к двери с лицом суровым и мрачным. Но на пороге вдруг остановился, глазами показал Кванту на кучу бумажных обрывков и повелительно мотнул головой.
Тот понял и нагнулся, чтобы сгрести их в кучу. Но Каспар предугадал его намерение, встал на них и произнес:
– Все это пойдет в огонь, господин учитель.
Потом опустился на колени, собрал клочья все до одного, пошел с ними к печке, ногой открыл дверцу, бросил их туда и мгновенно высек огонь, который ярким пламенем охватил бумагу.
Пастор Фурман был только молчаливым свидетелем этой сцены. Хикель ушел, а учитель, кашляя, ровным шагом часового ходил взад и вперед перед печкой, в то время как Каспар, сидя на корточках, не сводил глаз с огня, покуда не погасла последняя искорка. Тогда он взял кочергу и золу истолок так, что она превратилась в пыль.
Несколько позднее у пастора состоялась беседа с Каспаром, которая, несмотря на подавленное душевное состояние юноши и болезненную неохоту говорить, привела к такого рода открытиям, что духовный отец счел необходимым посвятить президента Фейербаха во все случившееся.
– Странная это история с учителем Квантом, – сказал Фурман, как бы между прочим, – человек вообще-то превосходный, он становится одержимым, как только дело коснется Хаузера. Спокойствие юноши бесит его, мягкость заставляет быть грубым, молчаливость – болтливым, меланхоличность – насмешливым. Веселость Хаузера его печалит, à житейская беспомощность толкает на самые коварные выходки. Из всего, что тот говорит и делает, учитель выводит как раз обратное, даже таблица умножения в устах Хаузера кажется ему лживой. Мне думается, он с удовлетворением рассек бы ему грудь – посмотреть, что там внутри. Знаю, знаю, что нехристианские мысли посещают меня, но ничего не могу с собой поделать, когда вижу, что Кванта все, решительно все наводит на подозрения. Подозрительно, когда что-то оказывается новым для Хаузера, и подозрительно, когда он что-то знает; подозрительно, когда он поздно спит, и подозрительно, когда рано встает; подозрительно, что он любит театр, а не музыку; подозрительно, что он молча слушает, если его бранят, но всегда старается уладить ссоры между другими, например, между Квантом и его супругой. Очень подозрительно! Все взято под подозрение! Все чревато опасностью!
Но слово за словом, а в результате беседа ни к чему не привела.
Президент, очень рассеянный сегодня, пообещал вызвать к себе Хикеля и его расспросить. Когда тот явился, он с места в карьер так на него накричал, что у Хикеля с перепугу ум за разум зашел. Но, к сожалению, и этот разнос только повредил делу, ибо Хикель живо оправился от испуга, и спокойствие, равно как и хитро рассчитанная уступчивость, помогли ему уйти победителем с поля боя. Все осталось по-старому. Только что, глубоко уязвленный в своем тщеславии, лейтенант полиции стал обделывать дела вдвое осторожнее и осмотрительнее.
– Все наши усилия создать Хаузеру сносное существование потерпели крах, – сказал однажды Фейербах своей дочери. – Он очень страдает в своем теперешнем окружении, а то, как с ним обходятся, противоречит не только разуму, но и справедливости.
– Пожалуй, что и так, – пожав плечами, отвечала Генриетта, – но можно ли тут что-нибудь изменить?
– Меня успокаивает только уверенность в том, что решение будет принято, когда мой труд наконец увидит свет, – сказал президент, словно бы ни к кому не обращаясь.
– Я считаю, что невелика беда для молодого человека, если волны жизни и разбиваются над его головой, – продолжала Генриетта. – Может быть, это научит его плавать. Не тебе же, отец, играть роль его наставника.
– Может быть, это научит его плавать! Хорошо сказано, дочь моя. Со временем он, возможно, будет с благодарностью вспоминать испытания, посланные ему судьбою. Венценосец, прошедший такую жизненную школу, поднявшийся из самых глубин до самой высокой вершины, да, это обнадеживает! Будь у земных владык немного больше знания жизни, народ не был бы для них всего-навсего дойной коровой. Итак, пусть сталь закаляется и становится тверже. Что, корректур сегодня еще не приносили?
Генриетта ответила отрицательно и, вздохнув, вышла.
Существует внутренний голос, красноречием превосходящий все доводы разума. В присутствии Каспара Фейербах всякий раз заново ощущал могущество этого голоса. Он не умел обманывать себя и не обращался к верховному существу, почитая высшей инстанцией собственный разум и свою умудренность опытом. Чувство ответственности перед самим собою с годами только усугубилось. И он не мог себе не признаться, что мучила его просто-напросто дурная совесть.
Какая дилемма для человека его духовной стати! С одной стороны – преданность идее, доведенная до самоотрицания, с. другой – укоризненный взор того, кто был воплощением этой идеи и кому он не смел предаться из страха замутнить свое суждение, из страха, что ангел справедливости покинет путь, ему предначертанный, ежели в затеянную им, Фейербахом, борьбу за справедливость вторгнутся любовь, забота, сердечное сближение.
Как раз в эти дни президент послал пробные листы своего труда о Каспаре Хаузере ближайшим друзьям, а также лорду Стэнхопу, находившемуся в Риме. Граф поблагодарил за присылку, сиречь ни слова ему не ответил.
Для Фейербаха это был плохой знак; хуже не придумаешь! Как звучала фраза, которую он в минуту сердечного волнения сказал этому человеку? «Если лжив взгляд, который сейчас устремлен на меня, милорд, тогда…»
Тогда? Что тогда? Чепуха! Ребяческий вздор! Мир не рухнет оттого, что ошибся какой-то там Фейербах! Человек многосторонен, разные у него обличья, и нет числа словам, которые он произносит во имя жалкой своей выгоды! Добиваясь куска хлеба, каждый нищий становится властелином слова. А чего стоит пэрство, чего стоят парадные кареты, приятнейшие манеры, изящно выраженные чувства, если для всего этого слово – только грим, прикрывающий отвратительную кожу прокаженного?
Значит, он расчленял сердца, рылся в потемках чужих душ, истратил весь свой запал, применил все свое искусство, весь пафос судьи, силясь человеческой меркой измерить поступок и преступление, лишь для того, чтобы из Англии явился расфранченный мошенник, затеял здесь сардоническую игру и, улыбаясь, свел к абсурду все его усилия.
Тошно было старику. Но представление о мощи и вспомогательных средствах врагов, с которыми он вступил в неравный бой, мало-помалу выросло в его воображении в нечто неимоверно огромное, и хотя ни малейшего ущерба не было еще нанесено его предприятию, мрачное, тревожное настроение завладело им. Со времени ночного налета – преступники, точно назло, так и не были обнаружены, несмотря на все старания полиции, – он не позволял себе даже спать подолгу. Вставал по ночам с постели, со свечой в руках бродил по комнатам и лестницам, проверял, хорошо ли закрыты окна, испытывал прочность замков на дверях и, случалось, пугался собственной тени. Страшно и больно было его детям смотреть, как их отец, человек недюжинной смелости и несгибаемой воли, ведет эту призрачную жизнь. Однажды утром на створках ворот они прочитали нацарапанные мелом стишки:
Эй, Ансельм фон Фейербах!
Угрожает дому крах.
Ты ударь, а не тяни,
Друга лживого гони,
Иль твои недолги дни!
В конце октября в дом Фейербаха явился Квант и заявил, что ему необходимо переговорить с президентом. Тот велел просить и сразу же заметил, что посетитель чем-то смущен и подавлен. Учитель, пренебрегая своей обычной обстоятельностью, немедленно выложил, что привело его сюда. Дело в том, что третьего дня Каспар получил письмо от графа и с той поры совершенно переменился; так вот, не выберет ли его превосходительство часок, чтобы побеседовать с ним, сам он ни единого слова от своего воспитанника добиться не может.
Президент спросил, в чем состоит эта перемена.
– Он словно сделался глухонемым, – отвечал Квант. – За столом ни к чему не притрагивается, во время занятий до того рассеян, что производит впечатление ненормального, уроков больше не готовит, на вопросы не отвечает, бессмысленно бродит по дому с видом смертельно больного человека. Вчера ночью мы с женой подслушивали у его дверей; сначала до нас доносились тихие стоны, потом он вдруг испустил страшный крик.
– Вам неизвестно, что было в письме графа? – спросил президент.
– О, разумеется, известно, – наивно воскликнул Квант, – я привык вскрывать все письма, которые к нему приходят.
Фейербах поднял голову и с мрачным любопытством взглянул на учителя.
– Так что же все-таки?
– Содержание письма никак не вяжется с его воздействием, – задумчиво отвечал Квант.
Президент в нетерпении топнул ногой.
– Хватит уже, – грубо крикнул он, – выкладывайте, что было в этом письме, раз уж вы его прочитали!
Квант испугался.
– Там говорится, что в нынешнем году граф не сможет вернуться в Анебах, нежданные обстоятельства заставляют его отложить приезд на неопределенное время. Я, конечно, знаю, что Хаузер очень рассчитывал на возвращение лорда, он даже называл дату его приезда, более того, ему казались кощунственными любые доводы против этого, ибо в детской своей наивности он все еще верит, что граф возьмет его в Англию, в свои родовые поместья, он даже не подозревает, что граф давно от него отвернулся.
– С чего вы это взяли, сударь? – вскипел президент и поднялся так стремительно, что опрокинул стул.
– Прошу прощения, ваше превосходительство, – робея, пролепетал Квант, – но ведь это же яснее ясного. – Он поднялся, вежливо поставил стул на прежнее место и, покуда президент, такова уж была его привычка, дробными стремительными шагами бегал взад и вперед по комнате, нерешительно проговорил: – Несмотря ни на что, впечатление, произведенное отказом лорда, облегченным в учтивейшую форму, остается для меня непостижимым; что-то за всем этим кроется, и, может быть, вы, ваше превосходительство, сумеете выяснить, что именно.
– Я разберусь в этом деле, – круто оборвал разговор Фейербах. Квант отвесил низкий поклон и удалился. Он пошел не домой, а в предместье Херридер, чтобы зайти за женой, которая навещала свою мать. Дул отчаянный ветер, листья и обломки веток носились в воздухе, полы Квантова плаща высоко вздымались, а шляпу ему приходилось держать обеими руками.
Вскоре после ухода учителя Каспар потихоньку выбрался из дому, собственно говоря, без всякой цели. Уже очутившись на улице, он подумал, не пойти ли ему к фрау фон Имхоф, и мигом утвердился в этой мысли, невзирая на непогоду и на то, что до виллы Имхофов от города было ходьбы минут пятнадцать. Однако, дойдя до садовой решетки и взглянув на ряд освещенных окон, юноша утратил всякое желание войти в дом, светлые комнаты наводили на него страх. Он уже видел себя наверху, слышал разговоры, пустые и неинтересные, которые он давно знал наизусть. Да, все слова были давно знакомы, ничего нового люди не могли ему сообщить, эти слова маленькими мутными каплями падали в море его печали, и звук их падения поглощала глубина.
Чья-то тень скользнула за окном, вслед за нею другая. Так вот жили они в своих домах, спокойно и безмятежно, зажигали свечи, не подозревая, что кто-то в непогоду стоит у ворот.
И вдруг среди воя ветра Каспар различил другие звуки, казалось, кто-то играл на струнном инструменте. На крыше виллы находилась эолова арфа, но он не подозревал об этом и звуки ее принял за потустороннюю музыку. Он пустился в обратный путь, и торжественные аккорды, время от времени, доносились до него.
Домой ему еще не хотелось. Непонятная сила, пригнавшая его к дому Имхофов, теперь привела его к дому генерального комиссаре, потом к дому Фейербаха, и, наконец, он очутился перед заброшенным зданием; своими закрытыми ставнями, замшелыми карнизами, высокими сводчатыми воротами, над которыми в камне было высечено око и надпись: «Око господне», это здание давно уже возбуждало его любопытство. Поговаривали, что во времена маркграфа здесь жил алхимик.
Каспару чудилось, что во всех этих домах он бывал гостем, незримо бродил среди их обитателей по пустынным покоям, удивительнейшим образом постигая настоящую и прошлую жизнь этих людей.
Усталый и до глубины души взволнованный, добрался он до дома учителя. Квант и его жена еще не вернулись, дети спали, служанки нигде не было видно, тишина царила кругом, только ветер выл, ударяясь о стены дома, да огонек лампочки в прихожей трепетал словно от страха. Уже поднимаясь по лестнице, Каспар вдруг услышал протяжный, тонкий голос, напоминающий стрекот кузнечика, и голос этот позвал:
– Стефан!
В недоумении он остановился и осмотрелся кругом. Все было тихо, и Каспар решил, что ошибся, голос, наверно, донесся с улицы. Но стоило ему подняться еще на две или три ступеньки, как голос послышался снова, теперь уже отчетливее и ближе:
– Стефан!
Бесконечное отчаяние и ужас звучали в этом голосе. Так кричит утопающий, когда вода уже вот-вот сомкнётся над его головой. То был, без сомнения, мужской голос, и в третий раз, казалось, приглушенный рыданьем, он позвал:
– Стефан!
Зов относился к нему, к нему, Каспару. Юноша простер руки, вопрошая:
– Где ты? Где ты?
И тут он увидел над дверью бестелесно парящий, блекло светящийся лик. Лицо Стэнхопа с широко открытыми глазами и отверстым ртом, до неузнаваемости, до безобразия искаженное бескрайним ужасом.
Каспар стоял как вкопанный, руки, ноги, даже глаза его словно окаменели. Когда он наконец собрался с силами, лицо над дверью исчезло и голоса больше не было слышно. Сени, лестница ярко освещены, все двери закрыты, – нигде ни души, ни звука.
ФЕЙЕРБАХ СОБИРАЕТСЯ УЕЗЖАТЬОднажды декабрьским вечером, к вящему удивлению соседей, учитель Квант как сумасшедший выскочил из дому и, сломя голову, ринулся в Нейштадт, к лейтенанту полиции Хикелю. Он ворвался в комнату лейтенанта и, не успев даже снять шляпы, выхватил из кармана тоненькую брошюрку и протянул хозяину дома.
Это была на днях вышедшая в свет брошюра Фейербаха о Каспаре Хаузере. Но в руки Кванта, залпом ее проглотившего, она попала только сегодня.
Хикель взял книжку, со всех сторон осмотрел ее и спокойно сказал:
– Ну, в чем, собственно, дело? Вы думаете, это для меня новость? Чего тут горячиться, не понимаю. Старик пишет, потому что ему так положено. Скорее можно курицу отучить нестись, чем прирожденного писаку писать.
Квант вздохнул.
– Написал, это еще с полбеды, кое-что здесь справедливо, но он уж слишком далеко заходит. Разрешите… – Учитель схватил книжку, открыл на титульном листе и прочитал: – «Каспар Хаузер, или Преступление против человеческой души». Как хотите, а звучит это многообещающе, – с горечью добавил он, – автор с самого начала морочит читателей. Все это вообще-то смахивает на роман, и, прямо скажем, не первосортный.
Он перелистал брошюру, ткнул пальцем в какую-то строку и прочитал с насмешливой интонацией:
– Каспар Хаузер, редкостный экземпляр человеческой породы!.. Дорогой господин лейтенант, я больше ничего не понимаю. Мне начинает казаться, будто вызвали самого плохого моего ученика и при всем честном народе объявили его большим ученым. Редкостный экземпляр! Мне лучше знать, ваше превосходительство, и уж я сумел бы открыть глаза почтеннейшей публике. Редкостный экземпляр, ничего не скажешь! Однако алфавит принято читать с начала, а не с конца. Вот вам и великий криминалист, прославленный знаток человеческих душ! Да, так выглядит слава, когда на нее смотришь вблизи. А все эти закулисные династические историйки! Смешно, да и только, если бы не было так печально. Господи ты боже мой, ну времена, ну люди!
Лейтенант полиции с едва приметной улыбкой слушал излияния учителя. Когда Квант наконец умолк, он равнодушно произнес:
– Чего вы хотите? Мы, верные слуги, обречены любоваться дурацкими выходками господ. Вообще же я должен вас успокоить. Президенту и самому мало радости от этой книжонки. Убедившись, что память не раз изменяла ему, он огорчается и уверяет, что изложить эту историю на бумаге оказалось труднее, чем написать весь Corpus juris[18]18
Свод законов (лат.).
[Закрыть]. А теперь на него еще нападают во всех имперских землях, Говорят даже, что имперская комиссия во Франкфурте намерена конфисковать эту книжонку.
– И правильно, – выкрикнул Квант. – Владетельным князьям следует его обуздать.
– Это уж их забота, – возразил Хикель, и лицо его вдруг сделалось хмурым и обозленным. – Черт побери, Квант, вы яритесь так, словно это ваше кровное дело. Хотел бы я знать, не поубавилось бы у вас отваги, будь президент в этой комнате.
Квант недоверчиво огляделся, пожал плечами и проговорил:
– Вам угодно шутить, господин лейтенант полиции. Беда, что приходится молчать, когда хочешь высказать свое подлинное мнение. Мы давно позабыли, что значит высоко держать голову. Ложиться, когда нам крикнут «куш», это мы умеем, да еще как! Но я таким командам больше повиноваться не желаю.
– Стоп, – сердито прервал его Хикель. – Бросьте чушь городить, это уже отдаёт демагогией. Скажите-ка лучше, Хаузер уже прослышал о брошюре?
– Понятия не имею, – отвечал Квант. – Но он неизбежно в ней узнает, найдется немало дурней, которым доставит удовольствие его с нею ознакомить. Скажите, господин Хикель, вам не доводилось слышать о книге некоего Гарнье?
При этом имени Хикель вздрогнул и бросил хмурый взгляд на учителя. Прошло некоторое время, покуда он решился ответить:
– Гарнье? Знаю, субъект, удравший из отечества. В своем памфлете он приводит те же ерундовые факты, что и наш статский советник, да еще вдобавок перемешанные с придворными сплетнями. Об такой стряпне и говорить не стоит.
– Но как мне поступать, если Хаузеру удастся заполучить одну из этих книжонок? – осведомился Квант.
Хикель большими шагами расхаживал по комнате, нервно покусывая нижнюю губу.
– Примите меры предосторожности, – холодно ответил он. – Не спускайте с него глаз. Впрочем, мне лично на все это наплевать. Так или иначе, а молодого человека прижать сумеют.
Квант вздохнул.
– Господин лейтенант полиции, – сказал он с огорчением, – не могу вам описать, как трудно мне приходится, я готов душу прозакладывать за то, чтобы вырвать признание у этого малого.
– Вам это подешевле устроят, – буркнул Хикель.
– Вы еще не знаете последней новости, – не унимался Квант. – Президент хочет сделать Хаузера писцом при Апелляционном суде, завтра он уже пойдет в должность.
– А что на это скажет граф?
– Ему хотели сообщить, но никто не знает, где он находится. За месяц от него пришло одно только письмо, на которое Хаузер даже не взглянул. Мне думается, что его сиятельство одобрит это мероприятие. Для ремесла, в собственном смысле слова, Хаузер не приспособлен, к сожалению, он слишком долго вращался в образованном и высокопоставленном обществе и, конечно, взбунтуется, вдруг оказавшись среди мастеровых. С другой стороны, он не может заниматься делом, требующим более глубоких знаний, так как для серьезного изучения чего-либо ему недостает ума и терпения. Посему я считаю, что статский советник нашел благое решение, которое и меня освободит от части моей ответственности. Из писца Хаузер может сделаться чиновником низшего класса, а при некотором усердии даже добиться места регистратора или бухгалтера.
Хикель почти не слушал его пространных объяснений. Вдвоем они вышли из дому.
У дверей придворной аптеки Хикель простился с учителем, намереваясь, как он сказал, заказать себе порошки от бессонницы.
На пути домой Кванту встретился советник Гофман, весьма любезно с ним раскланявшийся. Этого было вполне достаточно, чтобы обрадовать учителя и рассеять его дурное настроение. За обедом – в тот день подавалась телячья грудинка с салатом – он вовсе развеселился и стал на все лады заигрывать с женой. Но, как то часто случается с людьми глубокомысленными и серьезными, его веселость приняла довольно неуклюжие формы. Он, например, стал, смеясь, махать ножом перед самым носом учительши. Каспар побледнел, вскочил и крикнул:
– Ради бога, господин учитель, уберите нож, я не могу этого видеть.
Веселость разом слетела с Кванта.
– Слушайте, Хаузер, ваше поведение сильно отдает аффектацией! – сухо заметил он.
– Вы изрядный трус, Хаузер, – подхватила учительша, – а мужчина должен быть смелым. Что вы будете делать, если объявят войну? Тогда ведь остается только умирать с честью.
– Умирать? Нет, благодарю вас, умирать я не хочу, – быстро отвечал Каспар.
– Тем не менее вы недавно пренеприятным образом распространялись на этот счет перед лейтенантом полиции, – вставил Квант.
– Вы невозможный трус, – продолжала учительша, – как трусливо вы вели себя в прошлом году с кадетом Гугенпётом.
– Что это еще за история, – заинтересовался Квант, – я никогда о ней не слышал.
– Он ведь часто проводил время с этим кадетом, и тот на все лады уговаривал Каспара стать солдатом, уверял, что через год-другой его непременно произведут в офицеры. Оно и правда было бы неплохо, кадетам живется хорошо, и они быстро продвигаются по службе. Наш Хаузер уже воодушевился этой идеей, как вдруг дружба у них пошла врозь.
– А почему, собственно?
– Я расскажу, как это было. Однажды в сентябрьский вечер они вдвоем отправились гулять по берегу реки и дошли до места, где купалась целая ватага мальчишек и юношей. В тот день стояла адская жара. Кадет предлагает последовать их примеру, раздевается и начинает уговаривать Хаузера искупаться. Но наш Хаузер уже насмерть перепуган и ни за что не хочет лезть в воду. Купальщики услышали их разговор, с издевками обступили Хаузера и собрались было силою втащить его в реку. Но он вырвался и побежал по полю так, словно за ним черти гнались, а не голые мальчишки. Кадет решил, что это уж слишком, и перестал с ним водиться. Верно я говорю, Хаузер?
Каспар кивнул. Учитель хохотал до упаду.
Несколько дней спустя фрау фон Имхоф и фрейлен фон Штиханер пришли проведать Каспара. Учительша, гордясь визитом знатных дам, ни на минуту не оставляла их и не сумела придумать ничего лучшего для поддержания разговора, как, в присутствии Каспара, вновь рассказать историю с кадетом и купаньем. Увы, на сей раз ее рассказ успеха не имел.
Дамы молча слушали и, когда она кончила, ни слова ей не сказали.
– По правде говоря, в такой трусости хорошего мало, – уже выйдя на улицу, заметила фрейлейн фон Штиханер.
– Я бы это трусостью не назвала, – отвечала фрау фон Имхоф, – все дело в том, что он безмерно любит жизнь. Любит как сумасшедший, как животное, как скупец любит свое золото. Он сам мне признался, что, ложась спать, каждый раз боится, как бы сон неприметно не перешел в смерть, и молит бога наутро даровать ему пробуждение. Нет, это не трусость; может быть, предчувствие великой опасности и еще – потребность наверстать упущенное. Вы бы видели, как он умеет радоваться любому пустяку, которого другой бы попросту не заметил. В его радости есть и величие, и что-то неземное, а в его печали или боязни что-то повергающее душу в ужас.
Дома фрау фон Имхоф ждал сюрприз – письмо от ее подруги фрау фон Каннавурф, в настоящее время находившейся в Вене, сюрприз тем более приятный, что та обещала в марте приехать в Ансбах. В письме много говорилось и о Каспаре. «На днях я прочитала труд Фейербаха и должна тебе признаться, что за всю жизнь ни одна книга меня так не взволновала. С того дня я ни о чем другом думать не могу, и сон бежит меня. Знает ли о ней сам Каспар? И как он ее воспринял? Что о ней говорит?»
Последнее фрау фон Имхоф решила оставить без ответа: ну как подступиться к Каспару с расспросами? «Если он не прочитал книги, то его неведение странно и горестно, – думала она, – но еще горестнее, еще более странно, если он ее прочитал; странно и горестно его прёбывание в Ансбахе, его должность писца, вся его жизнь; нет, нельзя вызывать его на откровенность! Всякое слово здесь может повлечь за собою беду».
И все же она стала осторожно выспрашивать Каспара, знает ли он об этой книге, слышал ли какие-нибудь разговоры о ней. Да, он знал. Но не имел ни малейшего желания ее прочитать и в ней разобраться. Прежде всего из страха: страх заставлял его избегать любого шага, который мог бы изменить его нынешнее положение, отвлечь его мысли от тягостных обстоятельств настоящего; и далее потому, что он полагал, будто в книге президента речь идет все о той же беспочвенной болтовне, которую он знал вдоль и поперек и от которой, как он сказал, у него только болело сердце, болела голова, а в душе уже давно ничего не оставалось. Все это так ему надоело, что даже от какого-то туманного намека в разговоре лицо его принимало скучливое, недовольное выражение.
И только странная случайность заставила его познакомиться с произведением, во имя его написанном.
В одно хмурое мартовское утро в здании Апелляционного суда, а вскоре затем и в городе распространился слух, что во время судебного заседания в главном зале президент вдруг лишился чувств и упал с кресла. Чиновники мигом повыскочили из своих комнат и столпились в коридорах и на лестницах. Каспар тоже встал из-за стола и последовал их примеру. Но вскоре потихоньку удалился, не желая смотреть, как президента сносят вниз по лестнице.
Когда он воротился в комнату, где ежедневно от восьми до полудня переписывал бумаги, в обществе одного только старого канцеляриста, некоего Дильмана, того еще не было на месте.
Каспар, опечаленный и перепуганный, встал у окна, пальцем бессознательно вычерчивая на помутневшем стекле имя Фейербаха.
Между тем появился Дильман и, ломая руки, пошел к своему столу.
До сегодняшнего дня старый канцелярист не обменялся и дюжиной посторонних слов с коллегой, вот уже третий месяц работавшим с ним в одной комнате.
В течение тридцати лет снимая копии с актов, приказов, уставов и приговоров, он выработал в себе необыкновенную сноровку спать; смешно было смотреть, как он дремал, тихонько всхрапывая, уперев кончик пера в бумагу, рука же его сама начинала писать дальше, как только в коридоре раздавались шаги одного из начальников, тем паче что за эти годы он изучил и запомнил походку каждого в отдельности.
Тем более был удивлен Каспар, когда Дильман подошел к нему и дрожащим голосом воскликнул:
– Несравненный муж! Только бы с ним ничего не случилось! Только бы не постигла его участь смертного!
Каспар обернулся, но ни слова не проронил.
– Да, Хаузер, для вас это была бы невозместимая утрата, – продолжал старик, – где еще в нашем жалком мире найдется человек, который бы так страстно ратовал за другого? Я не удивлюсь, если вся эта история примет дурной оборот. Да, дурной, дурной оборот неизбежен.
Каспар молча слушал, только глаза его щурились.
– Такой человек! – снова воскликнул Дильман. – За годы, которые я провел здесь, семь президентов и двадцать два правительственных советника отправились к праотцам, Хаузер, но такого среди них не было. Это титан, Хаузер, настоящий титан! Во имя справедливости он мог бы звезды сорвать с небес. Надо только присмотреться к нему, вы присматривались к нему, Хаузер? Горбинка на носу! Говорят, это признак гениальности, а чело как у Юпитера! И книга, которую он написал ради вас, Хаузер! Не книга, а пылающий костер! Читая ее, поневоле скрежещешь зубами и сжимаешь кулаки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































